Текст книги "Лютый остров"
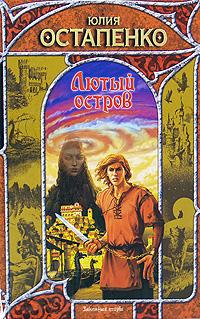
Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
3
Там, где десять лет пролетают сном, двадцать лет пробегают вздохом – обернуться не успеешь.
Вот тот дом, что недавно еще мнился полною чашей – лучше некуда. А теперь этот дом едва не вдвое больше прежнего, оброс пристройками и галереями, как старый дуб к осени обрастает грибами. Вот те ворота, в которые богатейший люд Кремена заходить не брезговал – а теперь, бывает, сам кнеж кременский Стужа хаживает на званый обед. Постарел кременский кнеж, согнулся, ходит – на клюку опирается, посмеивается в усы – эй, говорит, добрый хозяин, я тебя во-от такого помню еще, до плеча мне не доходил, молоко материнское с верхней губы обтирал. А нынче, глянь – самому уже внуков нянчить впору...
Вот он, двор, где вчера еще топотали босые детские пятки, смех звенел и пыль стояла столбом от драк между резвыми ребятишками – ничего этого не слыхать больше, выросли мальцы. Младший уже отцу в делах помогает, средний, удавшийся самым смышленым, уехал в стольный город Янтарь – учиться в тамошней школе тончайшим хитростям торгового дела. А старшему, Желану, в это лето двадцатый год минул – и не парень вырос, одно загляденье. Высокий, статный, с густыми кудрями того же медового цвета, что и у матери, да с отцовскими голубыми глазами – красивей парня во всем Кремене нет, и не диво, ведь мать его была двадцать лет тому первой в городе красавицей. Она и теперь была чудо как хороша – а все ж не первая.
Первой красавицей Кремена стала теперь приемная дочь ее, Иволга.
Те, кто помнили, как взяли ее Медовица с Орешником в дом семилеткою, дивились – как из нескладной, угловатой, угрюмой девочки сумела вырасти этакая лебедушка. Миновали ее непутевые годы, когда не понять, то ли девка собой дурна уродилась, то ли хороша. Как пошла семнадцатая весна Иволги, распустилась она, словно подснежник, до первого солнышка прятавшийся под снегами. И тогда видно стало то, о чем раньше подозревали только: не кмелтских она кровей. Лицо у нее было тонкое, длинное, такое белое, какого у розовощеких да круглолицых кмелтских девок отродясь не бывало. Волосы черные-черные, будто смоль, и вьются от макушки до самых кончиков мелко-мелко, словно луковые колечки. И вся она тоненькая, как хворостиночка, пальцем шибани такую – пополам переломится. Да только казалось это – не раз видали, как тащила девка от колодца тяжелое коромысло, будто дворовая. Никакой работой она не брезговала, напротив, любила тяжелый труд, сама тянулась к нему, а люди дивились – как это Орешник Мхович позволяет своей названной дочери за тяжелую работу браться.
Орешник и впрямь позволял. Иволга любила работу, любую работу, какую только могла делать, – будь то хоть тонкое рукоделие, которому ее, кроме прочего, обучила Медовица, хоть кухонные хлопоты, которыми ее Медовица первое время наказывала, а потом перестала, потому что поняла: для странной этой девочки самая черная работа отраднее, чем темное учение в закрытом от чужого взгляда погребе. Но и этого учения Иволга тоже не чуралась. Лишь они трое – она, Медовица да Орешник – знали, кому обязан Орешников дом невиданному богатству, нажитому за минувшие годы.
И не страшно ему от этого было, а радостно. Наконец-то было у него дитя, не вынуждавшее его за себя краснеть.
А хотя, если правду сказать, от младшего своего сына Иголки Орешник тоже видел больше утехи, чем горя. Чем-то он был похож на самого Орешника в отроческие лета – отца любил и искренне старался угождать и радовать. С этой мыслью и за учение взялся, едва только подрос довольно, чтоб тяжкие отцовские книги удержать в руках. Да вот только как ни старался, а плохо получалось у него. Не то чтобы ему ума не хватало или желания – скорей, усидчивости. Когда Медовица его носила, он еще в лоне ее толкался и вертелся, ровно заведенная юла. Раз, на исходе срока уже, Медовица вышивала и уронила иголку на пол. Нагнулась поднять – и едва лишь коснулась ее пальцами, как дитя ее изнутри так толкнулось, что охнула Медовица и на пол села: поняла, что надоело сыну вконец сидеть в тесном мамкином животе, решился выйти на волю. Оттого и назвали новорожденного – Иголкой, и впрямь вырос он вертлявым, будто игла, – так и норовил из рук выскользнуть, не удержать его было. Да и на язык стал востер, как еще немножко подрос, из-за чего не слишком ладил со старшими братьями, особенно с Желаном.
А вот с Иволгой Иголка сдружился. Никогда он не смеялся над ней и не обижал: когда тем старшие браться забавлялись, он был мал еще, а сам подрос – без разъяснений понял, что можно и чего нельзя. Как стал на скамью забираться да, на отцовский стол грудью навалившись, тыкаться носом в книги – Иволга была тут как тут, садилась рядом, водила пальчиком по строкам, читала громко, внятно ясным своим звонким голосом. Иголка повторял за ней, сбивался, коверкал мудреные слова, а она смеялась беззлобно и заставляла его повторять снова и снова, пока не стало получаться. И не только в учении – в игре они тоже были вместе: Иволга была Иголки только на два года старше, и чем взрослей становились они оба, тем легче и интересней было им вместе.
И одно только во всем этом огорчало Орешника – что игра с названной сестрою была Иголке явно милей, чем учение отцовскому делу. Да что с него возьмешь: Иголка – он Иголка и есть.
К тому времени, как Злат, по совету одного из Орешниковых товарищей, уехал на обучение в Янтарь-град, Иголке исполнилось уже пятнадцать лет. Меньше он играл теперь и больше внимания уделял наставлениям отца, понемногу и пользу приносить начал – сам мог товар принять и расход с доходом подсчитать, хотя в счете, бывало, частенько путался. С Иволгой они теперь меньше виделись, и про себя Орешник вздохнул с облегчением – сам не зная отчего, он в последнее время все чаще тревожился, глядя, как сидят они бок о бок на скамье, чернявая головка склонилась к светловолосой, и говорят об чем-то так тихо, что вплотную к ним подойди – не расслышишь. Да и умолкали они тут же, стоило кому подойти.
И думая об этом, вдруг понял Орешник, что дети его выросли. Меньшие-то, может, еще и не совсем, а вот Желану давно пора невесту подыскать. Богатый, ладный собою Желан был завидным женихом – сходу мог бы Орешник назвать с десяток столь же ладных девиц из хороших семей, которые рады были бы пойти за него. Однако с таким делом спешить было не след. Уж сколько лет прошло – а крепка была память Орешника о собственной женитьбе, о том, как отдал ему отец приказ, супротив которого послушный сын не посмел пойти... к добру ли, нет ли – до сих пор он не знал. Но одно он знал: силовать Желана не хотелось ему. Не то чтобы так уж сильно любил Орешник своего старшего сына... нет, любил, конечно. Да только как с самого детства не заладилось у них, так и дальше пошло. Не раз и не два ловил на себе Орешник сынов взгляд свысока, снисходительный, чуть не презрительный даже, когда он думал, что отец на него не смотрит. И ни разу не мог припомнить такого, чтобы сели они и поговорили с Желаном по душам. Да и о чем было говорить?..
А все ж пришел для такого разговора срок. Обговорил Орешник будущность Желана с Медовицей. Та за последние годы, казалось, утихла малость, спокойнее стала, степеннее. Все реже и реже спускалась в свой погребок, все реже просыпался Орешник в полнолуние один в постели. Посеребрев медовыми волосами, Медовица превратилась в почти совсем обычную женщину, властную, гордую, да только уж и вполовину не столь опасную, как была двадцать лет назад. Так что стал с годами Орешник вовсе подзабывать былой свой страх перед ней, а случалось, думал даже – молодой да глупый был, легковерный чересчур... как знать, может, все сам себе придумал, и вовсе не было никогда в Медовице никакой колдовской силы. И только изредка, ловя на себе ее взгляд, ощущал он тень того зыбкого холодка, что некогда скручивал когтями нутро. Но оно проходило сразу.
Выслушав мужнины мысли о старшем сыне, Медовица кивнула, как почудилось Орешнику, с некоторой тревогой.
– И то правду говоришь, Орко. Вырос уже мой мальчик, давно пора ему собственный дом заиметь, а там, глядишь, и нам с тобой внуки пойдут... А что думаешь про Утеху, Кленову дочку? По-моему, всем хороша, да и Клен у Стужи в торговых советниках...
Подумав, Орешник согласился с тем, что Утеха Кленовна и впрямь хороша. Обрадовавшись, что жена не стала чинить препон его замыслам, тут же кликнул служанку и велел позвать Желана.
Тот, как всегда, на зов явился с большим опозданием, хотя видел Орешник в окно, что ничем он не занят – стоял себе у ворот, облокотясь о столб, да болтал с проходившей мимо девицей, а та знай себе хихикала и лицо платком прикрывала. Наконец изволил подняться, вошел в горницу, где ждали его родители.
Орешник кинул на него взгляд, мимоходом отметив щегольские его сапоги, шитый черным жемчугом кушак и лихо заломленную на бок шапочку, какие в последнее лето вся кременская молодежь носить повадилась. Потом взглянул в надменное сыново лицо.
И сказал:
– Разговор у меня серьезный к тебе, Желан. Проходи, сядь.
– Да чего там, постою, – лениво обронил тот, не на отца глянув, а на мать. Та ласково ему улыбнулась – как был, так и остался Желан ее любимцем, ничего с собою поделать не могла.
– Что ж, воля твоя, – сказал Орешник. – А хотя короток будет разговор. Слушай: мы с матерью твоей так порешили, что жениться тебе пора. Что на это скажешь?
Желан улыбнулся – снова не отцу, а матери – и ответил:
– Скажу, что ничего супротив этого не имею, батюшка.
Вот так день! Ни своевольная Медовица, ни строптивый Желан не чинили никаких препятствий Орешниковой задумке. Орешник вздохнул про себя облегченно – стало быть, справится дело.
– Ну, а коли так, то и я, и мать твоя за то, чтобы заслать сватов к Утехе Кленовые. Всем она хороша, да и...
– Прости, отец, – неучтиво перебил Желан и взглянул наконец Орешнику в лицо прямым, наглым взглядом. – Но я выбрал уже себе невесту.
Медовица чуть уловимо вздрогнула. Улыбка ее, обращенная к сыну, поблекла, но не угасла до конца. Хотела дослушать.
Орешник ощутил, как твердеет в нем внутри что-то.
– Негоже, Желан, отца на полслове сбивать.
– Прости. Не хотел тебя обидеть. Да только что толку тебе мне говорить про Утеху, когда я уже знаю, какая за меня пойдет?
– И какая же? – спросила, не выдержав, Медовица. – Ты, сынок, я знаю, умница у меня, недостойную ты не выберешь. Скажи нам, какая тебе по сердцу пришлась, может статься, мы с твоим батюшкой тут же и благословим вас.
Желан ухмыльнулся.
– Надежду на то имею, матушка, что благословите... Иволгу в жены себе хочу.
Орешник нахмурился – какую такую Иволгу? Среди известных ему хороших кременских семей не было вроде девицы такой... Или была, и Медовица знает ее – отчего же враз кровь от лица ее отлила?
– Что? Кого? – спросила она тем голосом, которым в былые года из мужа своего узлы вязала. Да не только из мужа – сам Желан, услышав материн тон, слегка оробел, ухмыляться перестал. Но тут же снова подобрался и сказал решительно и твердо:
– Хочу в жены Иволгу, приблудку, которую ты, мать, в дом наш привела. Годами она расцветала перед глазами моими, и вот теперь...
– Да как ты смеешь! – вскочив со скамьи, страшно закричала Медовица. И подумалось оторопевшему Орешнику: нет, вовсе она не утихла, вовсе не ушла из нее темная мощь, двадцать лет кряду гнувшая к земле всех, кто был с нею рядом. – Как смеешь ты, бессердечное и неразумное дитя! Она ведь сестра твоя!
– То по закону, а не по крови, – уже не так уверенно, но все еще дерзко возразил Желан. – По крови, сама знаешь, она даже не кмелтка. Знаю, безотцовщина она, и приданого никакого за ней нет. Но я ее и без приданого, так возьму – слава Радо-матери, нам и отцовского добра за глаза хватит...
– Ты, Желан, – заговорил Орешник тихо, и Желан вздрогнул и круто повернулся к нему, будто вовсе забыл, что у него есть, кроме матери, еще и отец, – ты, сын мой, отцовским добром бы не кидался и не распоряжался так, будто оно твоими руками и твоим потом нажито. Не твое оно покамест. И не тебе его тратить.
Желан насупился, но промолчал. Медовица все еще стояла, сжимая руки, глядя на него дикими, потемневшими глазами, сверкавшими так, будто снова ей было семнадцать лет. Какое-то время все трое молчали. Потом Орешник сказал:
– За Иволгой я дам приданое, как за родной дочерью – да она и есть мне родная дочь. И ее счастье – первое, о чем я пекусь, так же, как и твое. Ты правду сказал: по крови вы не родня. Если любит она тебя и согласие даст, то чинить препон не стану.
– Орешник! – крикнула Медовица, но тот на нее и не взглянул, продолжая пытать взглядом сына.
– Что скажешь, Желан? Любит тебя Иволга? Согласится за тебя пойти?
– А то, – снова осмелев, усмехнулся Желан. – Еще в не согласилась! Пусть только она...
И тут же губу прикусил. Всегда был невыдержан на язык старший Орешникович. А отец его хотя и не величайшего в Даланае был ума, а все ж не столь глуп, как мнилось его сыну. «Пусть только она» – что? Пусть только попробует не согласиться?
– Зови Иволгу.
– Если только ты посмеешь... – начала Медовица, но Орешник рукой махнул, и она смолкла.
– Зови, говорю, – сказал сыну. – Хочу это сам от нее услышать.
Желан усмехнулся и вышел, победно распрямив спину. Едва только дверь за ним закрылась, Медовица кинулась к мужу, схватила его за плечо, развернула к себе.
– Ты совсем из ума выжил, старый дурень! Что это ты решил учудить?! Да как только...
– А ты, Медка, никогда ведь Иволги не любила, так? – пристально на нее глядя, сказал Орешник. – Хоть и называла ее милой доченькой, а всегда она была тебе нелюбимой падчерицей... как бы ни слушалась тебя, как бы ни прилежна была в черной твоей науке. Я вот всегда думал – ну отчего же так? Отчего строптивых и злых сыновей любишь больше, чем эту славную и добрую девочку? Потому только, что они тебе родные, а она нет? Или еще что-то?
Медовица отпустила его рукав и отступила, глядя на мужа во все глаза. И то правда – никогда за всю жизнь Орешник не говорил с нею так прямо. И понял он вдруг, что эта вот женщина, немолодая уже, все равно красивая, но обычная женщина из плоти и крови двадцать лет держала его в кулаке, лишь по временам давая вдохнуть... и что предсказание ее, сделанное ею в день его сватовства, было все сплошь хитростью и обманом.
Он ничего не сделал, не поднял на нее руку, не замахнулся даже. Но Медовица вдруг вскрикнула, и не страшно, как порою бывало, а тонко вскрикнула, жалобно, будто мать, у которой из рук вырвали родное дитя. И упала на колени на пол, голову склонила, упершись дрожащими ладонями в пол.
Орешник поднять ее не успел – дверь распахнулась, и влетела в горницу Иволга, растрепанная, дрожащая, с широко распахнутыми глазами – ну ровнехонько такая, какой была она десять лет тому за амбаром, когда спас ее Орешник от своих злых сыновей.
– Батюшка! – воскликнула, падая Орешнику в ноги рядом с распластанной Медовицей. – Ох, батюшка милый, родненький, сжалься надо мной! Что хочешь сделаю, буду черной девкой, полы драить стану, а скажешь – уйду совсем, прочь, взор твой не буду собой затенять, коли стала тебе так не мила, что хочешь отдать меня за Желана!
– Ты не слушай ее, отец, – раздался от двери Желанов голос. – Помешалась совсем от радости, что ты дозволение свое даешь. А весь последний год только о том и разговор вела.
– Неправда! Батюшка, не слушай его, лжет он все, как всегда лгал! Ненавижу его!
Орешник наклонился и молча поднял Иволгу с колен, усадил на скамью. Потом так же молча повернулся к Медовице, которая сидела на полу без сил и переводила бессмысленный взгляд с сына своего на приемную дочь. Поднял ее тоже, посадил с Иволгой рядом. Та вдруг повернулась к Медовице и, обхватив ее обеими руками, зарыдала в голос. И – Орешник глазам своим едва поверил – Медовица медленно, будто во сне, подняла руку и обняла падчерицу за плечи, прижала крепко к себе, гладя по растрепанным волосам.
Орешник оглядел своих домашних. Надо было решать – теперь только ему, и никому более.
– Стало быть, – сказал он Желану, – решил ты девку, что бок о бок с тобою росла, силой за себя взять. Еще и с моего благословения. За что ж так не любишь меня, Желан?
– Ты девку чужую слушаешь, а меня нет? – скривился тот. – Это она сейчас сопли развезла – что с бабы взять. А как на сеновале ноги раздвигала подо мной, так и щебетала – женись да женись! Вот, дура, хочу теперь жениться – чего ж тебе еще?!
Орешник был уверен, что Иволга тот же час оттолкнет от себя замершие Медовицыны руки, вскочит на ноги и с негодованием опровергнет клевету. И поверил бы он ей, поверил бы без лишнего слова...
Но не вскочила Иволга. Только вздрогнула всем телом и застыла, будто статуя, в Медовицыных руках. Даже плакать перестала.
– Что, милая, скажешь, вру? – насмешливо спросил Желан. – Ну, скажи! А ты, отец, кликни с кнежего двора лучших лекарей, чтоб посмотрели, чиста девка или не чиста. Стыдись, Иволга. Я тебя беру бесприданницей порченной, а ты еще ломаешься...
И тогда Иволга встала.
И вернулся Орешник – враз – обратно в темную горницу, где на разных концах стола горели свечи и болтался потухший огарок в кубке с водой. Увидел глаза, налившиеся густой краснотой липового меда, увидел губы, раскрывшиеся не для поцелуя – для страшных, губительных слов. Увидел, как отшатнулся Желан, как упали на колени руки Медовицы – безвольно упали, бессильно, будто сдавалась она неведомой черной мощи, что пригнула и ее тоже... Горница потемнела, и поднялся в ней вихрь, хотя ясно и тихо было за окнами, да только дрогнула горница так, что скамьи и столы подскочили на месте, глухо ударяясь об пол, ставни громко захлопали на ветру. Никогда за всю жизнь не чинила Иволга своей темной силой, взятой от Медовицы, никому никакого зла, и вот теперь – понял Орешник: обезумевшая от отчаяния и гнева, собирается причинить.
– Нет! Стой! – крикнул он и, кинувшись к ней, обхватил обеими руками ее вытянувшееся струной тело, твердое, негнущееся, будто древесный ствол.
– Нет, нет, стой, доченька, стой, не надо, прошу тебя, не надо, – твердил Орешник, зная, что если сейчас она не опомнится – сыну его не жить.
И – помогло. Твердое дерево в Орешниковых руках стало мягкой глиной. Обмякла Иволга, как в тот вечер, когда гадала на нож, вызнавая имя вора – Желаново имя. Закатились ее глаза, и осела она Орешнику на руки беспамятная, так что косы ее черные заструились к самому полу.
Орешник ощутил, как бежит пот по его напряженной спине. Обвел взглядом горницу: Желан сидел, забившись в угол – глядишь, вот-вот заревет да руками по полу начнет колотить. Медовица сидела на скамье, откинувшись спиной к стене, держась за края лавки обеими руками, будто боялась, что какой-то силой ее от этой лавки оторвет и кинет через всю горницу – да в окно. И смотрела Медовица на потерявшую сознание Иволгу, так смотрела... так странно смотрела, что ни за что на свете не взялся бы Орешник толковать этот взгляд.
Привлеченные странным шумом, сбежались наконец слуги. Орешник велел им проводить Медовицу в спальню, а после идти прочь да обо всем молчать. Сам взял Иволгу на руки и отнес в ее горницу. Как только положил на постель, девушка застонала, заворочалась, то притягивая, то отталкивая от себя его руки. Он провел по влажному лбу ладонью и задержал ее, пока девушка глаза не открыла и не узнала его. А узнав, тихо застонала и отвернула лицо к стене.
– Ты одно мне скажи, милая, – тихо проговорил Орешник. – Скажешь – и я сразу тебе поверю, ни о чем больше не спрошу. Правду сказал Желан или нет? Чиста ли ты или соблазнилась мужскими посулами?..
Иволга закрыла глаза, не шелохнулась, звука не издала. Орешник убрал руку с ее лба и встал.
И, ничего не сказав, вышел прочь.
* * *
Кто видел на будущий день Орешника Мховича – пугался. Что случилось, что вчера еще ладный, хороший собою мужчина вдруг так сгорбился и постарел? А спросил бы кто – не рассказал бы Орешник. Единственная безоговорочная радость его, та одна, от кого он никогда в жизни не видал никакого огорчения, ударила его так, что сильней и придумать было нельзя. Опозорила имя его, которое он ей дал, дом его, в который он ее принял... А хуже всего было то, что теперь видел Орешник в ней то, что было и в Медовице двадцать лет назад: темную, злую, разрушительную ведьминскую силу, которая только и ждала часа, чтобы наружу прорваться. А он-то уже поверил, что девочка его, хотя и сделала Медовица ее колдуньей, не может, в отличие от своей наставницы, чинить зло, только добро...
И вот треснула, подломилась та хворостиночка, что сберегала Орешнику всю жизнь его хотя бы видимый душевный покой. И рухнула на него, ничем более не удерживаемая, глыба тоски. Все, чем он жил, все, что он нажил, – все было замешано на черной колдовской силе, а в наследство теперь перейдет жестоким и подлым детям. И на что оно нужно, это богатство, когда от тех, кто делит его с тобою, тебе только страх, унижение и позор?
Ушел Орешник из дому. Два дня ходил по корчмам и кабакам, пил с простым людом, забредал за город, мимо Золотого Брода ходил, мимо проклятой бабской бани, мимо рощи, мимо Осетровой пасеки – да где Осетр, помер давно Осетр, а пасеку перекупил мелкий купец, бывший у Орешника на посылках... И коловоротом все в голове его мешалось: баня, роща, пасека, голоса, обещания, теплые руки на шее, вымазанные в липком меде... да только горчил тот мед, и под толстым слоем его шевелились, выпуская жала, злые пчелы.
Вернулся Орешник в свой дом на третью ночь затемно. Все уже спали, только сторож у ворот нес дозор. Узнав хозяина, ахнул от радости – обыскались уж в эти дни Орешника, думали, сгинул совсем. Орешник знак ему дал: молчи, мол, – а сам вошел в ворота и пошел по двору, оглядывая его так, будто впервые видел. Большой двор, просторный... а все ж тесный, будто самая темная и грязная тюрьма. Проделав с полсотни шагов и дойдя до того самого амбара, за которым Желан свою будущую невесту бил ивовым прутом, Орешник услышал голоса и остановился. Огляделся – кругом никого не было, дом был темен. Из-за амбара доносился тихий женский плач, а с ним – голос тихий, но такой жаркий, такой быстрый, что Орешник невольно прислушался.
– Завтра же, завтра пойду его сам искать, слышишь? – горячо говорил сын его – да не старший, Желан, а младший, Иголка. – И найду, хоть бы мне на дно речное нырнуть за ним пришлось, и все ему расскажу, все как есть! А там пусть хоть голову снесет!
– Да что ты говоришь такое, что? – всхлипывала Иволга, и по голосу ее Орешник понял, что все эти два дня она плачет, с утра до ночи и с ночи до утра, и забыла уже, как это – не плакать. – Как ты ему такое скажешь?..
– Как есть, всю правду скажу! Я сам виноват. Только я и виноват, а не ты вовсе – девка никогда не виновата... Скажу, что я во всем повинен, а Желан узнал и использовал, знал, что ты меня не выдашь.
– Да какая разница, Иголочка, ты или он... Правда одна: я опозорила батюшку, и никогда он меня теперь не простит. А как узнает, что с тобой я согрешила, а не с Желаном, – так и тебя не простит.
– Почему не простит?! Ну ты ровно не знаешь отца! Он же тебя любит, и меня любит, да он даже Злата с Желаном любит, он и их тоже всегда прощал...
– Иголочка, милый мой, да ведь не можешь ты, по закону нашему, жениться прежде, чем женятся старшие братья. А про мой позор все теперь прознали. Мне теперь или тотчас же под венец, или в монастырь идти – третьего не дано. Я знаю, как батюшка вернется, он вот такой выбор мне даст: или идти за Желана, или в монастырь.
Орешник так и похолодел. Не то чтоб не мелькало у него этой мысли – так всегда и делали, если узнавали, что девка нечистая: замуж за того, кто назвался соблазнителем, или Радо-матери курения возносить до гробовой доски. Но не мог он силовать свою Иволгу ни на одно, ни на другое – оттого был в таком отчаянии, и теперь при мысли, что девочка его иной судьбы для себя уже не ждала, отчаяние это стало только втрое сильнее.
– Тогда бежим, – сказал вдруг Иголка, и Орешник, хотя и не видел их, понял, что он схватил Иволгу за руки и крепко-крепко сжал. – Убежим с тобой вместе, и никто нас не найдет! В Янтарь-город бежим... там Злат... он нам поможет. А откажет – так и вовсе уедем из Даланая, да вот хоть бы в Фарию! Ты ведь, может, и сама оттуда родом, может, там твоя родная земля...
Иволга слушала его сперва молча. А потом засмеялась, и смеялась, смеялась сквозь слезы, пока он, захлебываясь, горячо и страстно бормотал, а потом осекся и смолк.
– Ох, Иголочка! Милый мой, любимый! Да даже если бы и правдой было то, что ты говоришь, как же мы сможем жить? Ты еще толком не умеешь ничего, да и я...
– А что – ты! Ты ведьма! Наколдуешь нам богатства да недругам бедствий, как всегда делала, и все хорошо пойдет, – бесхитростно сказал Иголка, и понял только тут Орешник, до чего мал еще и неумен младший его, любимый сын... а и откуда бы взяться уму, когда видел он всю жизнь вокруг себя только то, о чем теперь говорил.
Но как бы неумен и малодушен ни был его совет – был он, пожалуй, мудрей всего, что мог бы измыслить сам Орешник. Потому что сам он не знал, что делать: побоялся бы пойти против людской молвы и неписаного закона, но знал в то же время, что по закону поступить – значит обречь свою девочку на вечное несчастье. И готовился он уже сам ступить за угол амбара, предстать перед своими детьми и благословить их на преступный побег, когда Иволга вдруг сказала, так тихо, что он едва расслышал:
– Если в и так... ты напомнил мне... я забыла совсем... что я ведьма. Я не могу уйти.
– Почему?!
– Не могу, Иголка, и все, не спрашивай, почему. Не могу я оставить Кремен и дом твоего отца... не сейчас. Я слово дала. И должна исполнить свой долг.
Долг... да знает ли балованный, легко думный Иголка слово такое – долг? «Отчего, – подумал Орешник, – я так и не сумел это слово вложить в голову ни одного из своих сыновей? Неужто оно сложней, чем песни, которые они поют, или книжки, которые они читают? И кто вложил это слово в голову и сердце маленькой Иволге, от которой я и думать не думал ничего требовать – никогда?»
Кто? И что крылось за этим словом? Что и кому она должна?
Так думал Орешник, стоя за углом амбара, слушая, как Иголка снова шепчет, а Иволга отвечает: нет, нет – и не плачет больше, будто вовремя вспыхнувшее слово это – ДОЛГ – разом утвердило ее в решении, которое она никак не могла принять. Под конец, правда, опять немножко поплакала, а после смолкла, когда, отчаявшись убедить, стал Иголка ее целовать. Понял Орешник, что нечего ему больше тут слушать – и ушел от амбара, тяжким, шумным шагом, но они все равно его не услышали.
Так никем и не замеченный поднялся он в спальню, которую делил с женой. Медовица лежала на постели в темноте, по горнице разносилось ее ровное, тихое дыхание. Орешник подошел к кровати и сел на край.
– Орко... ты... пришел... – прошептала Медовица у него за спиной. – А я-то...
И замолчала. Что не стала договаривать? О чем думала те два дня, пока он незнамо где ходил, незнамо о чем думал? Да и вспоминала ли она о нем? Или рада была, что сгинул...
– Скажи, Медка, – не оборачиваясь, проговорил Орешник. – Когда ты мне сказала, что меня ждет лютая гибель и только твоя дочь, от меня рожденная, сможет меня спасти, – ты ведь тогда солгала?
И знал ведь, что солгала, – а не мог не спросить, хотел хоть раз в жизни от нее правду услышать, прямо, как есть.
Текли мгновенья, тягучие, липкие... Медовица молчала, а Орешник так и сидел, как всю жизнь провел, – к ней спиной. Потом она придвинулась ближе и обняла его сзади. И не было в этом объятии ни власти, ни похоти.
– Нет, – сказала Медовица Древляновна, Орешникова жена. – Нет. Не солгала.
И ночь опустилась на голову Орешника.
* * *
...Ночь та была такой, что и не сразу даже поймешь – то ли смерть пришла, то ли сон. Возвращаясь из холодной темени, не знал Орешник – в жизнь и явь ли возвращается или на Ту Сторону, и чья та рука, что к нему прикасается – не любимой ли матушки, не сурового ли отца, который вот уж сколько лет глядел с Той Стороны на непутевого сына своего и головой качал... «Простите», – сказал Орешник – сам не зная, кому из них, или обоим сразу, а может, и не им даже совсем. И вот как только мысль эта в голове его появилась – разом ухватился за нее и выбрался по ней, как по спасительному канату, на берег яви.
Да только лучше в не выбирался.
Он лежал на спине, и по тому, как холодно и твердо было лопаткам, понял, что одежды на нем никакой нет. Все тело его было холодным и твердым, будто окоченело. Он хотел шевельнуться – и не смог. Видел руки свои, лежащие вдоль тела, и ноги, вытянутые к двери, как у покойника, – видел, а не чувствовал, и шелохнуться не мог. Еще он видел свечи, стоящие полукружьем в ряд у него в ногах, и убегали огоньки по обе стороны от него справа и слева, и, видать, где-то над головой у него смыкались в кольцо. Фитилек каждой трепетал маленьким розовым огоньком. И не шевелились эти огоньки – не было тут ветра, чтоб их шевелить.
Не сразу понял Орешник, что находится в погребе своего собственного дома. В Медовицыном погребе.
И сама она была тут.
Он не видел ее и не слышал – только чуял, так, как привык чуять всегда, когда она находилась в доме неподалеку от него. Чуял трепет, и жар, и силу, толчками исходящую от нее, истекавшую из нее так, словно полна она была этой силы до краев, и переливалось из нее – больше было, чем могло вместить в себя человеческое существо. Она не говорила ничего, не читала заговоры старых, давно отмерших даланайских ведунов, не бормотала на неведомом языке древние заклятья чужеземных народов, не взывала к Черноголовому, не плясала с бесами. Никогда она не плясала с бесами – уж в чем в чем, а в том Орешник мог поручиться даже теперь... не бесы это были.
А кто? Что? «Что ты делаешь, зачем я здесь, что со мною?» – хотел он спросить, но не смог ни языком шевельнуть, ни даже губ разлепить. Он словно и был в своем теле, и не был – подняться над собою не мог, но и подчиняться тело ему больше не желало.
И стало тут Орешнику страшно по-настоящему. Понял он тогда, что никогда прежде не знал взаправдашнего страха. Что робостью, суеверием и мягкотелостью было то, что прежде принимал он за страх. А всамделишный страх – он был вот такой, сковавший немотой язык и члены. Страх сгибал, сминал, вязал узлы из плоти и духа.
«Пощади», – хотел сказать Орешник – и не смог.
Прохладные ладони Медовицы легли ему на лоб.
– Ты спросил, – услыхал он ее тихий, мягкий голос – тот самый, каким она впервые к нему обратилась, спросив, не хочет ли испить воды. Будто и не было двадцати с лишком лет. – Спросил, лгала ли я. Не хочу, чтоб ты так думал про меня. Потому расскажу тебе, пока еще время есть. Слушай.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































