Читать книгу "Проделка в Эрмитаже"
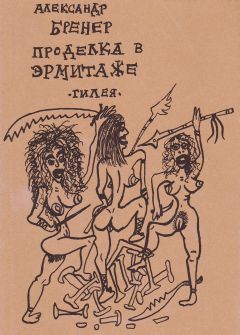
Автор книги: Александр Бренер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Александр Бренер
Проделка в Эрмитаже
© Правительство Поэтов
Дорогой мой и милый Сережа,
Мне нравится твоя рожа,
Потому что она вечнодетская.
Мы страшно с тобою ругались,
А сейчас наконец побратались,
И тому есть причина простецкая:
Необходимость объединения мальчуганов
Против сволочи и интриганов.
И задача сия – молодецкая.
««Спать, спать, спать, спать»…»
«Спать, спать, спать, спать», —
Говорит тихонько мать
Маленькому мальчику,
Гладя его пальчики.
«Спать, спать, спать, спать», —
Шепчет юноше опять
Девушка-красавица,
Нежа его палицу.
«Спать, спать, спать, спать», —
Уложив его в кровать,
Старику старушенька
Шамкнула на ушенько.
«Спать, спать, спать, спать», —
Чавкнула землица-мать,
Но мертвец не услыхал,
Ибо в гробике лежал.
Тут-то начал он кричать,
Начал ножками стучать,
Кулаком по стенке – хвать:
«Вставать! Вставать!»
«Как-то было у меня горе…»
Как-то было у меня горе.
Оседлал я его, как коня,
И мы мчались вдвоём на просторе
Два года и еще два дня.
А потом я с него спрыгнул
И вошёл в чей-то милый дом,
Пожил там, позже был выгнан,
И неважно, что было потом.
А горе? Куда делось горе?
Вот это реальный вопрос.
То ли с горки прыгнуло в море?
То ли впрягли его в чей-то воз?
«На улице лежал бродяга…»
На улице лежал бродяга.
«К нему, – подумал я, – прилягу
И эту песенку мою
Ему на ухо пропою.
Ведь так бедняга одинок».
Но только я к нему прилег,
Бродяга сразу заорал:
«Катись отсюдова, нахал!»
Потом, увидя мой испуг,
Он помягчел и молвил: «Друг,
Заместо песенки своей
Ты лучше дай мне сто рублей».
В карманах рылся я, как зверь,
Но денег нет – есть лишь Бодлер.
Тут я кричу без проволочек:
«Я подарю тебе цветочек!»
Туча
Я взглянул: на небе туча,
А под тучею дома.
Я подумал: было б лучше
Спать на туче задарма,
Дом ведь – платная тюрьма.
Я подумал: а ещё бы
Лучше платье не носить,
А скроить из тучи робу
И по небу в ней бродить…
Тучу есть, из тучи пить.
Я смекнул: ведь туча может
Формы быстро изменять,
Облик девушки пригожей
Ей нетрудно воспринять…
Стану девушку ласкать!
Я решил: летучесть тучи
Мне сулит святую блажь —
Дева туч на каждый случай
Будет новая, не та ж!
Тут я впал в безумный раж.
Я взмолился: «Туча, туча,
Будь мне домом и женой!
Ты прекрасна, ты могуча…»
Дождь вдруг хлынул проливной…
Смейтесь, смейтесь надо мной!
«Tакая маленькая малость…»
Tакая маленькая малость —
Мне жить совсем чуть-чуть осталось.
Я соберу остаток сил
И поступлю, как крокодил.
Не буду вовсе лить я слёзы,
Забуду все свои угрозы.
И солнце я не проглочу,
И девочку не захочу.
Но тихо лягу на панели,
Чтоб все прохожие глазели,
Разину пасть, как трубадур,
И захриплю: “Bonjour! Bonjour!”
«Существуют разные возможности…»
Существуют разные возможности:
Позабыть совсем об осторожности,
Запастись полдюжиной камней
И разбить один из фонарей.
Существуют разные возможности:
Наплевать на всяческие сложности,
Отказаться ото всех идей
И стать самым гадким из детей.
Существуют разные возможности:
Умереть при первой же возможности,
Но поджечь какой-нибудь музей,
Чтобы сердцу стало веселей.
Существуют разные возможности:
Начихать на противоположности,
Перепутать дактиль и хорей
И орать, как грешник на чертей.
Существуют разные возможности:
Бросить все долги, должки и должности,
Стибрить пару вкусненьких вещей
И кормить лисиц и голубей.
«Я – предатель сотни наций…»
Я – предатель сотни наций,
Я плевал на гром оваций,
Я хотел лишь одного —
Крикнуть миру и-го-го.
И-го-го ведь «и-го-го»
Лишь для дурня одного.
Для меня же и-го-го
Больше всяких ого-го.
Вот и встал я, как на пире
В старом добром божьем мире,
И, чтоб стало всем легко,
Крикнул миру: «И-го-го!»
Только мир не шевелится,
Словно мир этот – больница,
И лекарство и-го-го
Уж не лечит никого.
«Ох, сколько я сменил квартирок…»
Ох, сколько я сменил квартирок —
И все-то были не мои.
Ох, сколько я стерпел придирок —
Да ни одной, друзья мои!
Я воровал и сам украден
Бывал цыганками небес,
И я имел не меньше ссадин,
Чем душ имел я и телес.
Но говорить не научился
Я на родимом языке
И под любимую мочился,
Когда с ней спал на тюфяке.
Еще я матери полтинник
На день рожденья пожалел,
Зато, весёлый матершинник,
Я песню грустную ей спел.
И потому сегодня утром
Сломал я солнце пополам,
Но только моль одна и пудра
Посыпались к моим ногам.
Madame
В центре Парижа,
К Сене поближе,
В тени Notre-Dame
Я видел Madame.
Возраст – неясен,
Прищур – опасен,
В накидку шуба,
И скалит зубы.
Под шубой прелой —
Голое тело.
И ступни тоже
В своей лишь коже.
Зимой и летом
На месте этом
Стоит, как древо —
Ни вправо, ни влево.
Вокруг – туристы,
Бомжи, букинисты,
Жандармы тоже,
И прочие рожи.
Собаки, урки,
В тужурках турки,
Бабёнки в гриме —
Все мимо, мимо.
Она же – в мехе,
Пупок в прорехе —
Стоит все там же,
Не емши, не спамши.
Как это странно…
Но раз утром ранo
Некий японец
Ей кинул червонец.
Денек был светел.
Я сам свидетель:
Деньги упали,
Но их не взяли.
Вздрогнула шуба,
И этак негрубо,
Но – хоть охай, хоть ахай —
«Да пошел ты на хуй!» —
Донеслось до химер.
Я и сам, старый хер,
Это слыхал
И вам передал.
В галерее
Вот вошел я в галерею
И давай орать скорее:
«Хватит ждать вам тут Годо!
Подавайте мне бордо!»
Всполошилась галерея.
Гнать меня хотели в шею.
Но застрял я в их дверях,
Как Синдбад в семи морях.
Так в преддверьи галереи
И сижу я, свирепея,
А вокруг холсты висят
Словно декабристы – в ряд.
Неужели в галерее
Я в итоге околею?
Или мне поможет Бог,
Как Артюру он помог?
Скоморох
Я ношу громадные ботинки —
Специально, чтобы было плохо.
Я хожу по меловой тропинке
Шаркающим шагом скомороха.
У меня дурацкие замашки:
Я говно люблю, как кот – сметану,
Потому что милые какашки
Отрицают лживую осанну.
Какать я дерзаю при народе,
Чтоб народ и сам стал посмелее,
Это для меня в каком-то роде
То же, что огнём рыгать на Змея.
Бубен я ношу в своей котомке
И пляшу на ярмарках вприсядку,
Но купцы от песен моих громких
Убегают к черту без оглядки.
Розами я бью вельмож по роже.
Роза – это нежное растенье,
Но когда шипами вам по роже —
Станете совсем иного мненья.
Я порой бываю очень смелым,
А порой – плакучая мимоза.
И любой придурок между делом
Может в сердце мне вогнать занозу.
Я глубокие читаю книжки,
Но люблю в них только анекдоты
И бегу на улицу вприпрыжку
Их использовать как антидоты.
Я хочу быть вишенкою в тесте,
Я хочу быть косточкою в горле,
Я боюсь расстрелян быть на месте,
Я хочу, чтоб в пыль меня растерли.
Голова седа, а чувством зелен,
И стишки пишу, как ловят блошек.
Только я не очень-то уверен,
Что они кусают вас, как кошек.
Происшествие на вернисаже художника Тишкова в Париже
Я такой же, как природа
В век озоновых прорех, —
Я урод, но у урода
Тоже должен быть успех.
Я к художнику Тишкову
Вдруг вхожу на вернисаж
И вакхически-сурово
Начинаю эпатаж.
Все художники продажны,
И Тишков таков, как все, —
С коллекционером важным
Он стоит во всей красе.
Я кричу: «Привет, миляга!
Ты в Париже? Тыща лет!»
Побледнел он, как бумага,
Пожелтел он, как паркет.
Но, желая скрыть смятенье,
Принимает бодрый вид:
«Ба! Какое совпаденье!
Слышь, в Москве ты не забыт.
Лишь недавно вспоминали
За общественным столом,
Лишь недавно обсуждали,
Заедая пирогом.
Ты – легенда! Ты – треножник!
Ты – весталка! Ты – пиит!
Ты у Вечности заложник!
Ты почти что Вечный жид!»
Коллекционеру тоже
Про меня забормотал:
«Он – легенда! Он тревожил…
Он будил… Он возбуждал…»
Тут меня так и подмыло.
Тут я весело кричу:
«То, что было, – мылом смыло!
Я сейчас блудить хочу!»
И немедленно с Варварой
Начинаю танцевать.
Полюбуйтесь нашей парой:
Сутенёр и девка-блядь!
Приложившись к самовару
Днем на площади Конкорд,
Пляшет бешено Варвара
Среди выставочных морд.
Вот она уж поясницей
Стала нагло сотрясать,
Вот она уж ягодицей
Голой начала играть…
Тут Тишков, попятясь раком,
В толще публики исчез.
Коллекционер, однако,
Все еще был где-то здесь.
Молвит он: «А где ж легенда,
Что Тишков мне обещал?
Бунин, кажется, в Сорренто
С Верой тоже так плясал».
От такого эрудита
Дух взбрыкнул во мне, как конь,
И, решив сыграть открыто,
Обосрался я в ладонь.
Обосрался, обосрался,
Обосрался как всегда!
Как младенец опростался,
Как падучая звезда.
И, протягивая руку,
Где добра полным-полно,
Я, как Ванька политруку,
Крикнул: «Вот мое говно!»
Эрудит тут отшатнулся,
Эрудит губу поджал,
Вмиг на ножках развернулся
И в потёмки убежал.
А толпа чуть загудела,
Стала блеять, стала выть
И – привычное нам дело —
Захотела нас побить.
Ну и что? Сладка поэту
Кровь из лопнувшей губы,
Потому что смысла нету
Жить без буйства и гульбы.
Гнездо
Недавно в городе Бордо
Я видел ласточки гнездо.
Оно лепилось под балконом
Богатого особняка
Каким-то чудом беспардонным,
Как домик негра-бедняка.
Стоял февраль. Ветра сырые
Меня хлестали по щекам,
И ласточек крыла косые
Синь неба стригли где-то там —
Над Чадом или Титикакой…
А здесь – здесь мерзли все собаки.
Мой спутник – умненький французик —
Сказал, что брошено гнездо,
И – прагматичный карапузик —
Мне предложил глотнуть бордо.
Я подчинился и в бистро
Вошёл, чтобы согреть нутро.
Там обыватели сидели,
Творя обычный свой театр,
И на экран в углу глядели:
Футбол – могучий психиатр.
Но я клянусь вам девой Жанной,
Я носом Гоголя клянусь,
Клянусь самой небесной манной
(Я клятв любых не побоюсь):
Гнездо отнюдь не пустовало!
Клянусь, я видел это сам:
Там ласточка зазимовала —
В Бордо, где место только псам!
Аскет
Город Рим стоит на семи холмах.
В катакомбах под ними сидит монах.
Он говном от макушки до пят пропах.
Его имя Джорджио, он – аскет,
Он пердит и срёт уже сорок лет.
«Еретик!» – говорит о нём целый свет.
Римский папа аскета не признаёт,
Говорит, что Джорджио – идиот,
Но монах-то считает наоборот.
Кардиналы врут, что он копрофил,
Ему вход в музеи префект запретил,
Пресса брешет, что воздух он отравил
В Риме. Но аскету на это насрать!
Он монах, но философ, аскет, но блядь.
Это сложно, но всё же можно понять.
Он учит, что сущее есть говно,
Но что пуще всего в головах оно
И что следует выбить из бочки дно,
То есть просто срочно открыть окно,
Чтобы было не только внутри полно,
Но чтоб было узреть народу дано!
Что узреть? Что есть говно и говно!
И что застопорилось веретено…
В общем, это темно и смешно.
Власть препятствует монаху во всём.
Сперва посадили в психический дом,
Но он проповедовал психам говном.
Тогда его бросили мыться в Тибр,
Но он там вопил как распятый тигр
И вновь обосрался средь пыточных игр.
Тут они стали над ним хохотать,
Сказали, что может он вечно так срать —
Вниманье не будет никто обращать.
И Джорджио в катакомбы утёк.
Никто его больше видеть не мог.
Исчез, будто Бог или единорог.
Но время от времени на холмах
Вечного Города – где-то в кустах,
А то даже на мраморных головах
Статуй мыслителей и королей
Громоздятся плоды безумных идей
Аскета. Неужели жив Бармалей?
Засранец Джорджио, кто же ты, друг?
Мессия? Мудрец? Или, может быть, crook?
Из катакомб доносится: пук! пук! пук!
Из английской поэзии
Мама и папа, конечно, любя,
Мигом угробят, малютка, тебя:
Страх свой и желчь в твое тельце вольют,
Словно мочу в туалетный сосуд.
В прошлом их тоже согнули в дугу,
Только про это они ни гугу.
Хвостиком машут, на лапки привстав,
Ну а чуть что – друг на друга: гав-гав!
Всех доконали в положенный срок.
Так извлеки, моя детка, урок:
Смойся подальше от этих людей.
И, ради Бога, не делай детей.
Венера
Только закрою глаза —
Сразу являются груди.
Носит такое коза
Там, где козёл – свои муди.
Жопа, как гири, тяжка,
Торс, как тростиночка, тонок,
Так же безлика башка,
Как у волчицы спросонок.
Пуп бесконечно глубок,
Ступни когтисты и узки,
Бьётся, как сердце, лобок
Этой моей трясогузки.
Тычет в меня языком
И подставляет мне жопу.
Кажется, хочет верхом,
Кажется, жаждет галопом…
Волнами ходит хребет,
Бедра ветвисты, как корни…
А вот людей вокруг нет!
Нет ни хозяев, ни дворни!
Только цветы да трава,
Только зелёные кочки,
Только в кустах голова
Фавна без брюк и сорочки…
Где я? На Лысой горе?
Или в индийской легенде?
Или с Алисой в норе?
Или с Лилит мальчик Мендель?
Сам я себе приказал?
Или мне голос был свыше?
Только закрою глаза —
И с облегчением вижу.
На кладбище
Забудьте Вольтера и Жан-Поля Сартра
Забудьте известных людей.
На кладбище старом в овраге Монмартра
Старуха скликает зверей.
Зверей? Просто кошек, но уличных кошек.
Старуха простая? Ага.
Вся в чёрном, платок только в белый горошек,
И сгорблена словно Яга.
Где косточки грустного Генриха Гейне,
Где лёгкий Нижинский лежит,
Где кокон Фурье ждет Земли пробужденье —
Там бабка Яга ворожит.
Достанет из старой матерчатой сумки
Пакеты с весёлой едой,
А кошки, хвосты свои вытянув в струнку,
Уж мчатся из склепов толпой.
Обсядут бабусю на чёрных надгробьях
И лапами месят гранит,
A каменный ангел на них исподлобья
С нежнейшей улыбкой глядит.
Где спят адвокаты, прелаты, магнаты
И польский беглец Казимир,
Там ведьма и кошки, дики и мохнаты,
Справляют свой варварский пир.
Вот пир завязался, вот пир уж в разгаре,
Вот пиру приходит конец.
И в небо Монмартра летят шаривари,
Чтоб вздрогнул прохожий делец.
О, страшные вопли, о, странные игры,
О, эти прыжки и шажки!
Могилы тревожат пантеры и тигры,
А жесты колдуньи легки…
Забудьте Флобера и Жан-Поля Сартра,
Забудьте великих людей.
Сходите на кладбище возле Монмартра,
Где бабушка кормит детей.
Artista merda
Мы стояли перед галереей Ивон Ламбер,
Где вершатся судьбы великих карьер.
Там шел вернисаж Джулио Паолини,
Чьи шедевры популярны, как бриоши, ныне.
А мы были без всяких денежных средств,
Но в зените наших духовных детств.
Поэтому мы решили напасть
На Ламбера и Паолини и покуражиться всласть.
Вот проходит каких-нибудь полчаса,
И из галереи выходят два этих пса.
Они направляются в ресторан,
А мы за ними – таков наш план.
Вот они вступают в роскошное здание —
А мы за ними с нашим заданием.
Тут нас встречает метрдотель
И спрашивает: «Какова, господа, ваша цель?»
Мы отвечаем: «Мэтр Паолини
Желает нас видеть на своей половине».
Метрдотель указует на второй этаж,
Где уже пирует маэстро наш.
Мы входим, нам подают шампанское —
Не хуже, чем пивала княгиня Званская.
Мы пьем за бокалом потный бокал,
И вдруг – что такое? Знакомый оскал —
Кенделл Гирс! Ого, он еще потолстел —
Южноафриканский художник, белый, как мел,
Глупый, как Геринг, гнилой, как Содом:
«Не хотите ли сесть за моим столом?»
Мы садимся. Нам приносят салат,
Мы едим его, как волчата зайчат.
А Кенделл спрашивает наше мнение
О батайевской теории жертвоприношения.
Он ловит каждое наше слово,
Будто в воздухе летает золотая подкова.
Тут нам приносят в соусе зверя,
И мы обсуждаем Клоссовского Пьера.
Но вдруг от стола с галеристом Ламбером
Отделяется юноша в галстуке сером.
Он подобен фашисту из фильма Висконти:
Так прекрасен, что лучше его не троньте!
Он снисходит к нам и говорит:
«Наш банкет оскорбляет самый ваш вид!
Вы не приглашены сюда,
Смехотворные псевдогоспода.
Немедленно убирайтесь вон,
А то понесёте тяжелый урон».
А на Кенделла Гирса он лишь посмотрел —
И тот моментально от нас отсел!
Только что было: «Батай да Батай!»
А тут ни с того, ни с сего: bye-bye!
Этакая вот дешёвка и трус —
Южноафриканский художник, шваль, а не туз.
Мы, однако, нацистику говорим:
«Мы наш шоколадный десерт хотим».
Он вспылил: «Тут вашего ничегошеньки нет!»
И схватил свой mobile, как чекист – пистолет.
«Полиция быстро приедет!» – кричит
И принимает торжественный вид.
Полиция? Нам она ни к чему.
Поэтому мы улыбнулись ему
И очень неспешно, как Пруст с Валери,
Направились к близлежащей двери.
На улице, впрочем, мы принялись ждать
Месье Паолини, чтоб фарс доиграть.
Вот он появляется, сыт, как хомяк,
Мы делаем в его сторону шаг —
И орём на его родном языке:
“Artista merda!”
Он замер, как в столбняке.
“Artista merda!!!”
Тут он спохватился – и нам в ответ:
«Нахалы! Вы кушали мой обед!»
«Нет ничего прекраснее…»
Нет ничего прекраснее
Волосков твоих в жопе рыжих
И нет ничего опаснее,
Чем сожженье Бобура в Париже.
Или: нет ничего прекраснее,
Чем сожженье Бобура в Париже,
И нет ничего опаснее
Волосков твоих в жопе рыжих.
Меж двумя этими целями
В небе ниточка тянется зыбкая,
И с ногами оцепенелыми
Я стою на ней с дикой улыбкою.
«Когда я думаю беспечно…»
Когда я думаю беспечно
О том, поэт я или нет,
То сознаю чистосердечно,
Что никакой я не поэт.
Поэты ходят косяками
И рассуждают об икре,
А я с побитыми боками
Ищу беспамятства в игре.
Бои поэтов – в поле мнений,
А также премий и похвал,
А я считаю, что от прений
Лекарство лучшее – скандал.
Поэты там, где есть издатель
И по возможности аванс,
А я всех этих дел предатель
И презираю даже шанс.
Поэты знают, что поэты
Стихи читают в полный зал,
А я стыжусь, что в морду эту
Или вон в ту не наплевал.
Поэты – куры на яичках —
Высиживают свой успех,
А я – летающая птичка
И какаю на них на всех.
Поэты верят безусловно
В Истории присяжный суд,
А я – что судьи поголовно
Хамят, холопствуют и врут.
Поэты мнят, что вдохновенье
Им открывает третий глаз,
А я свои стихотворенья
Считаю трусостью подчас.
А почему? Да потому что
Я вижу с ясностью простой,
Что драться, драться, драться нужно,
А не болтать с самим собой.
«Вот художник Кабаков…»
Вот художник Кабаков.
У него есть пять подков.
Две подковки – на сапожках,
Две подковки – на ладошках.
Ну а пятая подковка?
Под язык, чтоб цокать ловко!
Я же – вовсе без подков.
Цокать с вами не готов.
От седла следа не видно,
Какать мне при вас не стыдно.
И хотел бы вас лягнуть я.
Ну, хватайте ваши кнутья!
Стихи о русских поэтах
Были раньше имябожцы,
Имяславцы-мужички,
А сейчас лишь словоложцы
И словесные жучки.
Знали, знали футуристы,
Что словарь – пиратский клад,
А поэт – граф Монте-Кристо
В трансе варварских растрат.
Блок тогда был Командором.
Он же был и Дон Жуан.
Между Славой и Позором
Он качался, как Тарзан.
Так и нужно быть поэту:
Не увёртливый Улисс,
Но глядящий в реку Лету
Обезглавленный Нарцисс.
Но открыл бродяга Осип,
Что божественный Вийон
Завещал поэтам россыпь
Снега сгинувших времён.
Чтобы этим самым снегом
В солнце чёрное бросать,
А, умаявшись набегом,
Ось Земли осой сосать.
Слово вставил тут Есенин,
Что поэт есть хулиган,
Если он, конечно, гений.
Все же прочее – обман.
Тут над мудрым Велимиром
В звезднодышащей ночи
Пронеслись, как встарь над миром
Весть благая, – смехачи.
Чтобы будетлянским смехом
Растопить мозги во льду,
Чтобы стать жлобам помехой
В неугаданном году.
Под руинами империй
Козлик Вагинов скакал,
Средь камней и капителей
Аполлон ему играл.
А Введенский в звездной массе
Разглядел такую тьму,
От которой плакал Тассо
В день, когда попал в тюрьму.
А Терентьева рекорды
Изменили мира лик —
Он стал просто детской мордой,
Проглотив отцов язык.
Лишь Одарченко в больнице
Прошептал, входя в наркоз:
«Меньше надо материться…
Больше быть шипами роз…»
И стоял Варлам Шаламов —
Весь обугленный Икар —
Вдалеке от балаганов,
И ни шагу на базар.
Но прорёк старик Гаврила:
«Да пожрёт времён река
Лиры, перья и чернила
И всех нас – наверняка!»
Да, бывали имябожцы,
Имяславцы-мужички…
А сейчас лишь словоложцы
И словесные жучки.
«За тысячу прошедших лет…»
За тысячу прошедших лет
Кретином сделался поэт,
Ну а с кретина спросу нет.
Поэтому вам наплевать,
Когда я промычу опять:
«Пошлите к чёрту сей балет».
Дундук дудит в свою дудель,
Адольф рисует акварель,
От жизни ёжится Жизель:
Ведь жизнь не жизнь, она – живот
И тот жирует, кто всех жрёт,
А Лир бомжует без земель.
А если в этот хоровод
С Луны вдруг гений упадёт —
Нижинский или Идиот,
То сразу гам и тарарам,
Хребет мгновенно пополам —
И вот он бром в психушке пьёт.
«Нетерпение Катулла…»
Нетерпение Катулла:
Чтоб скорее ветром сдуло,
Чтоб все члены оторвало,
Чтоб всего тебя не стало,
Чтоб ребячливые боги
Разодрали на пороге
То ли ада, то ли рая,
Просто так тобой играя,
Как играет кошка мухой,
Как играет тело духом
Или как поэты слово
Разрывают, чтоб основа
Языка узрелась чётко —
Деревянная колодка.
Ключик
Неважно, где ты уродился,
Неважно, кем ты в жизни стал,
А важно, чтобы ты гордился,
Что ключ волшебный отыскал.
Ты этим ключиком случайным
Откроешь дверь в глухой подвал
И там найдёшь необычайный
Сундук, в котором есть бокал.
Бокал возьмёшь скорей за ножку
И в паутиновом углу,
Где бегают сороконожки,
Бутыль увидишь на полу.
Ты из бутылки этой пыльной
Нальёшь в бокал густейший сок
И выпьешь. И получишь сильный
Толчок в потеющий висок.
И сразу голос сладострастный
(А чья-то нежная рука
Возьмёт тебя за плечи властно)
Промолвит: «Жизнь людей легка».
Ты голосу поверишь сразу
И будешь жить, как он сказал,
И всё вокруг предстанет глазу
Как сумасшедший карнавал.
Ты в пляс пойдёшь, не уставая,
Ты будешь к маскам приставать,
Смеяться будешь, их срывая,
И плача, снова надевать.
Жизнь станет страшно интенсивна —
Сжигать, как пламя, жечь, как льды;
Или как фильм, что неотрывно
Ты смотришь, как сквозь слой воды.
Ты будешь в эту жизнь впиваться,
Как шмель мохнатенький в цветок.
И снова, снова отрываться,
Чтоб выплюнуть её глоток.
И посреди всей этой пляски
Тебя прикончит не инфаркт,
А карлик злой из древней сказки,
В чьём арсенале сотни чар.
И ляжешь ты под старым дубом
В глубоком лермонтовском сне,
Чтоб было песни слушать любо
И стуки сердца в глубине.
Неважно, где ты уродился,
Неважно, кем ты в жизни стал,
Но важно, чтобы ты гордился,
Что этот ключик отыскал.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































