Текст книги "На короткой волне"
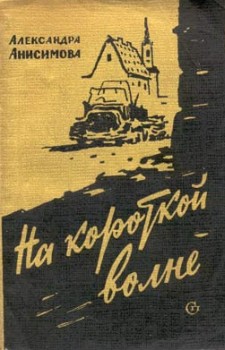
Автор книги: Александра Анисимова
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
3
В первый же вечер в школе наш командир – старший техник-лейтенант Величко – сказал:
– Пройдет время, и, окончив школу, вы разъедетесь в разные стороны – радисты особого назначения! Вы можете работать на кораблях, на самолетах, в штабах армий и фронтов, в партизанских отрядах. Можете выполнять особые правительственные задания. От того, как вы будете учиться, зависит успех будущей работы, потому что умение быстро и четко наладить связь может спасти не только вашу жизнь, но и жизнь многих сотен и тысяч людей.
Представьте себе радиста, находящегося в районе дислокации вражеских частей. Он сообщает своему командованию точные координаты расположения войск, их численность, вооружение, – каким отличным радистом нужно быть, чтобы в этих условиях справиться с заданием! И вот уже наши танки, наши бойцы идут в нужном направлении. Летят самолеты. Наши части окружают и уничтожают противника.
Или возьмите случай из партизанской жизни. За линией фронта, во вражеском тылу, действует партизанский отряд. И единственная связь с Большой землей – это радист. Чтобы враги не успели запеленговать его, он обязан быстро и четко передать короткую, но точную радиограмму! Окончив школу, вы всю жизнь будете гордиться своим званием радиста особого назначения! Радист-оператор! Радист-коротковолновик! Сколько увлекательных дел впереди!
Я долго не могла уснуть в тот вечер. Пожалуй, Миловидон был прав…
В нашем классе, то есть в нашем взводе, сорок девушек-москвичек. Мы быстро познакомились и сразу же включились в распорядок школы. Занимались много и старательно. Армия нуждалась в специалистах. С первых же дней занятий мы знали, на какую работу нас готовят, предугадывали, что ждет нас там – далеко впереди, за линией фронта, среди врагов. И мы учились на пятерки, знали, что каждая хорошая отметка – еще один шаг к намеченной цели, к трудному делу, на которое пошли сами. Знали, что возможна смерть, что не все вернутся домой, в Москву. Но мы были молоды и мало думали об этом. Война призвала нас, а сердце приказало идти на самые опасные дела. Иначе мы ни жить, ни думать не могли.
Выходя из столовой, мы потуже затягивали ремни на гимнастерках и шутили: «Эх, сейчас бы пообедать!» Постоянно хотелось есть, и мы завидовали курсантам, которые шли в наряд на кухню.
Было трудное для страны время, и мы это хорошо понимали. Занимаясь с утра до вечера, жили одним: скорее окончить школу, скорее приняться за настоящую работу, скорее на фронт.
Шли месяцы. Мы натренировались уже так, что целый урок могли беспрерывно принимать радиотексты со скоростью сто – сто двадцать знаков в минуту. Слуховая память еще не успевала расшифровать принятые звуки в букву, как рука уже писала ее, и следующую, и все остальные. Это давало нам возможность в течение пятидесяти минут совершать (мысленно, конечно) любые сверхдальние путешествия. Когда мы проверяли принятые радиограммы, ошибок не было.
В шесть часов утра мы выбегаем на зарядку. На темном небе особенно яркими кажутся звезды, сухой колючий воздух перехватывает дыхание. На стеклах окружающих домов тускло отражается свет двух фонарей у входа в школу. Возвращаемся с улицы бодрые, румяные, слегка уставшие от бега.
По вечерам, в свободные часы «самоподготовки», мы собирались в классе, устраивались поуютнее и мечтали и вспоминали о доме, о Москве, о близких.
– Вы только подумайте, девочки, чему нас учат! Ведь какую голову для такой работы иметь надо! Неужели из нас что получится?! А между прочим, говорят, что Зоя Космодемьянская тоже радисткой была. Вот в такой же школе, как и мы, училась. Правда это, девочки? – говорила маленькая черненькая Лида Смыгина.
В один из таких вечеров, незадолго до отъезда из школы, мы договорились (совершенно серьезно) встретиться на другой день после окончания войны в шесть часов вечера у Большого театра в Москве. Мы были очень наивны, полагая, что с фронта в Москву в день победы можно будет вернуться за одни сутки.
Обычно в эти часы к нам заходил кто-нибудь из старших командиров. Они подробно рассказывали о том, как работали другие радисты, о заданиях, которые могли нам поручить. Мы узнали, например, что в тыл противника часто посылали двух людей – разведчика и радиста. Как хотелось, чтобы этот будущий товарищ по работе оказался надежным другом, – от этого ведь зависит и успех задания и сама жизнь!
Как и везде, в школе наша «тайная разведка» каким-то чудом доставляет нам самые интересные сведения. Так, стало известно, что старший техник-лейтенант Величко уже несколько раз подавал командованию заявления с просьбой послать его на фронт. И на все заявления – отказ. Поэтому ходит наш командир хмурый, но, как всегда, строгий, подтянутый, вежливый. Он и не догадывается, наверное, что все девчонки нашей роты считают его лучшим командиром школы. И гордятся им, и стараются выражением лица, манерой разговора походить на любимого командира.
На одном из ротных собраний Величко сказал обо мне:
– За этого курсанта я не беспокоюсь, надеюсь, что не подведет на предстоящих госэкзаменах.
…Много лет прошло. Но и сейчас очень больно признаться, что я не оправдала его надежд. Еле-еле свой любимый предмет – радиотехнику – сдала на тройку. Никогда мы с ним об этом не говорили, никогда я обещаний ему не давала, а вот… чувствовала себя настоящей обманщицей. И до отъезда в часть ходила с опущенной головой, боясь встретиться с ним глазами.
Был еще один человек в школе, мнением которого я очень дорожила и который, в сущности, явился невольной причиной моего провала. О нем мне хочется рассказать подробнее.
Недели через три после приезда в школу я нечаянно подслушала разговор двух подруг о проходившем мимо командире:
– Вот, посмотри-ка, он пошел…
– Это и есть Молчанов?
– Да.
Тогда я не знала, почему он привлек их внимание, но очень скоро поняла, что его имя окружено в школе особым уважением и любовью.
После ранения в позвоночник Молчанов ходил очень прямой, неестественной походкой. Лицом он очень походил на Лермонтова: круглый овал, большие карие глаза, и даже взгляд их такой же задумчивый. И совсем уж как у Лермонтова усы – узенькой полоской над губами. Всегда подтянутый, сдержанный, с какой-то неотвязной грустью в глазах, он казался мне иным, не таким, как другие, и мне хотелось, чтобы он заметил меня.
Молчанов проводил у нас политзанятия.
Я стала одной из лучших учениц по его предмету. Почти весь урок не отводила от него глаз, внимательно слушала и задавала «умные» вопросы.
Однажды я подошла к нему после урока и попросила дать мне почитать «Диалектику природы», объяснив, что решила изучить эту книгу до конца.
Говорила я серьезно, глядя в его грустные глаза, и, неожиданно для себя, добавила:
– А усы вам не идут…
Не хочу сказать, что мне не нравились усы. Просто вдруг увидела около глаз густую сеточку морщин, а ведь ему было немногим больше двадцати лет. Совершенно искренне, от всего сердца захотелось сказать слова, ни в каком уставе не записанные, в стенах военной школы не положенные; слова из далекой «гражданской» жизни. Он чуть наклонил голову, улыбнулся и сказал:
– Приму к сведению и руководству.
На другой день он пришел без усов.
Потом я долгое время избегала его, но как-то вечером, во время моего дежурства по школе, мы снова встретились, и я, не задумываясь, приложив руку к пилотке, сказала теплое, домашнее:
– Добрый вечер!
– Ну, как идут ваши занятия диалектикой? – спросил он.
– У меня есть несколько вопросов.
– Запишите и принесите мне. Я отвечу.
На следующий вечер я отнесла к нему в кабинет список вопросов, а через день получила ответы. К моей жизни в школе, к моим занятиям, моим мыслям – ко всему этому теперь прибавилось ожидание его ответов. Я молча приветствовала его, заходя в кабинет, брала записку, так же молча благодарила, наклонив голову, и уходила. Отвечая на мои вопросы, он всегда добавлял что-нибудь от себя или про себя. Вот этих-то добавлений и ждала я. В них не было ни скрытых, ни явных намеков на какие-нибудь «сильные» чувства. Была дружеская усмешка, подшучивание над самим собой. После каждой записки я подолгу думала о нем. Что-то очень хорошее, невысказанное и неясное, таила в себе каждая фраза, каждое слово его ответа.
В дни занятий, в бессонные ночи дежурств его присутствие в школе, его записки помогали мне уходить в чудесную страну мечтаний о будущем. Я знала: то, что происходило со мной, так не похоже на «любовь», о которой шепчутся по вечерам девчонки. Мне не нужно было ни свиданий, ни объяснений, ни «прогулок при луне». Что бы ни делала, я думала о нем.
Когда я отбыла с курсантами на практику в Иваново, Молчанов прислал мне письмо, хорошее, товарищеское письмо. Девчата по почерку на конверте сразу узнали, от кого, и многозначительно переглянулись: «Ага!.. Все понятно». Но имя его было окружено таким уважением, что никаких насмешек и шуток не последовало.
Вскоре после практики начались госэкзамены. Случилось так, что едва я начала отвечать по радиотехнике, Молчанов вошел в класс и сел возле экзаменатора. Красная как рак, я не могла вспомнить ни слова. Он встал и ушел. Мне стало хуже – я не знала, куда глаза девать от стыда. Экзаменатор по-своему понял мое смущение и после некоторых дополнительных вопросов поставил мне тройку.
Накануне отъезда из школы я набралась смелости зайти к Молчанову попрощаться. Он протянул мне, как обычно, листок бумаги с ответами на мои вопросы. Я поблагодарила его и вышла. Во дворе школы уселась на поленницу дров и развернула заветную бумажку:
«Прежде чем кануть в Лету, разрешите сказать вам несколько слов. Вы – молодец! Вы избрали трудный путь. Идите, сил у вас хватит…»
Слезы капали на листок, размазывая буквы, а я все читала, читала…
Однажды, во время очередного дежурства, я случайно встретилась с лейтенантом Молчановым около дверей школы, на улице. Было совсем темно: ни луны, ни звезд. Тускло светили фонари. Мы постояли рядом, потом лейтенант положил руку мне на плечо. Не знаю, изменилось бы что-нибудь, если бы он сказал мне тогда хоть одно слово? Вероятно, он знал, что я все равно уйду от него. Уеду туда, где нужно отдать себя делу всю целиком, без сожаления об оставленном, чтобы в решительную минуту не дрогнуло сердце, чтобы не мучили воспоминания о любимом, о близких, о тихом домашнем покое. Он ничего не сказал мне. И я промолчала. Каждое его слово было тогда очень дорого для меня. И это дорогое слово могло отнять у меня решимость и при первом прыжке с парашютом в тыл к врагу, и во время выполнения второго задания. Молчанов был прав. Но – сердцу не прикажешь. Память до сих пор хранит в душе образ этого светлого человека…
В школу я ехала, считая ее переходным этапом в моей жизни, и очень ждала дня окончания учебы, потому что этот день должен был стать первым днем новой жизни. Не думала я, что оставлю здесь какую-то часть своей души, что расставаться со школой будет так тяжело.
Через несколько дней после экзаменов я уехала… А через полгода, накануне вылета в тыл на выполнение задания, в далеком украинском селе вновь достала его записки, проделавшие со мной весь путь из Горького до Проскурова, и в который раз снова и снова перечитала их. Смешные, никому другому не понятные листочки с мудреными философскими терминами, они были бесконечно дороги мне. А потом я аккуратно сложила их и бросила в огонь железной «буржуйки».
Завтра начиналась новая жизнь. Большая дорога, о которой столько мечталось, открывалась передо мной.
4
Получив назначение в штаб 1-го Украинского фронта, десятого ноября 1943 года мы выехали из Горького на запад, вслед за нашей наступающей армией. Пассажирским поездом доехали до Харькова, незадолго до этого освобожденного от захватчиков. Он поразил нас глухими, пустынными площадями, безлюдными улицами, чернеющими развалинами домов. Большой город, пустой и черный, он вызвал в нас какую-то особую настороженность.
Ночь провели на вокзале. В новых шинелях, шапках и сапогах – семеро девушек-радисток – мы держались отдельной группкой. Очень хотелось спать. Большинство приезжающих лежали и сидели прямо на полу. Недалеко от нас, в окружении солдат, лежала девица в солдатской шинели. Солдаты поочередно обнимали ее, перетаскивали с места на место. Она смеялась и курила вместе с ними «козью ножку».
Мои подруги уже спали. Я сидела на узеньком диванчике, изо всех сил борясь со сном. Мне казалось, что, если я лягу на пол, я стану такой же, как эта девица. Согнувшись, обхватив руками вещевой мешок, положив на него голову, промучилась я до рассвета. Но больше сил не хватило. Старательно выбирая местечко почище, я все же легла, с радостью выпрямляя онемевшие руки и ноги.
«Что же ты, – мысленно упрекнула себя, – не выдержала первой трудности…»
Дальше от Харькова, в поисках своей части, мы путешествовали в эшелонах, на попутных машинах, пешком. В Нежине, в холодную дождливую ночь, промокнув насквозь, оказались в пустом «телячьем» вагоне и, конечно, продрогли так, что зуб на зуб не попадал. Мы были до того подавлены, что лежали молча и не могли заснуть. Уже на рассвете Аня Шамаева поднялась с пола, встала посреди вагона и, стараясь хоть немного развеселить нас, сказала, запахивая шинель:
– «Солдат, что ты стелешь, когда спать ложишься?» – «Шинель». – «А что ты под голову кладешь?» – «Шинель». – «А чем укрываешься?» – «Шинелью». – «А сколько же их у тебя?» – «Одна…»
Мы не рассмеялись, но показалось, что в вагоне стало теплее. Зато в Бахмаче – ах, как хорошо было в Бахмаче! – хозяйка дома, к которой мы зашли, постелила нам около печки большую охапку сена… А в Броварах – разве можно об этом забыть? – в Броварах мы, получив сухой паек, зашли в небольшой чистенький домик. Там оказалась хозяйка – средних лет женщина – и четверо детей. Она собрала наши продукты, добавила чего-то своего и сварила большой чугун замечательного душистого супа.
Больше месяца колесили мы по Украине в поисках своей части и наконец догнали ее в двадцатых числах декабря в Прилуках. Трех наших подруг сразу отправили в другой город. Нас осталось четверо: Валя Бовина, Зина Кудрявцева, Аня Шамаева и я.
Поселились мы в тихом домике на окраине города. Пока командование решало нашу дальнейшую судьбу, мы отдыхали. В этом домике мы впервые по-настоящему близко познакомились с украинскими песнями. Почти каждый вечер мы забирались на печку и слушали, как задушевно пела молодежь, приходившая к старшей дочери хозяев.
Новый, 1944 год встречали в Киеве. Здесь опять начались занятия. Нам принесли радиостанции, расписание связей. Мы вновь изучали каждый проводок, каждую деталь, чтобы в случае аварии самим отремонтировать рацию. Мы учились находить неисправность, устранять ее. Особенно я любила «орудовать» паяльником. Он был небольшой, пальцы рядом с ним казались громоздкими, и я в душе очень гордилась собой, когда маленькая капля сверкающего олова возвращала рацию в строй боевых аппаратов. Раньше, на практике или в школе, проводя связь, я знала, что где-то недалеко меня слушает наш же курсант, и мне было не очень интересно работать. А сейчас за тремя буквами позывных скрывался неизвестный человек. Перед ним хочется отличиться четкой работой на ключе, блестящим знанием кода и радиожаргона, хочется узнать побольше об этом человеке: как зовут, откуда родом, сколько лет… Но этого делать как раз и нельзя. Только в конце связи отстучишь привет…
Днем к нам приходили преподаватели, и мы изучали специальные предметы. По вечерам, надев наушники, слушали весь мир. Короткие радиоволны приносили русские песни, американские джазы, певучую, лающую, гортанную речь. Некоторые передачи мы слушали подолгу, не понимая их, но подчиняясь обаятельному звучанию языка. Хотелось узнать, кто это говорит, о чем. Русские и советские песни, русская музыка волновали, напоминали о доме.
Помню, после одного концерта, где исполнялись довоенные песни о Москве, я проплакала целый день, а вечером написала матери большое письмо в стихах. Подругам эти стихи понравились, и на другой день в Москву были посланы четыре одинаковых письма. Не знаю, как реагировали на мои стихи остальные матери, но от своей сестренки Клавы я получила открытку, в которой она писала: «Если тебе хоть немного жаль маму, то никогда больше не пиши ей таких стихов…» Вероятно, я что-то переборщила.
Жили мы очень дружно. С самого начала распределили между собой обязанности: Аня Шамаева была «начфином», Зина Кудрявцева и Валя – «снабженцами»: носили воду, ходили на базар, пилили и кололи дрова. А я была «начпродом», вернее, поваром, хотя никогда раньше не замечала в себе кулинарных способностей. В маленькой библиотечке мы нашли книгу по кулинарии, ею я и руководствовалась. Вставала с постели, когда было еще темно, выходила на кухню и начинала хозяйничать.
Находясь на кухне, я все время пела. Пела все, что знала: от «чижика-пыжика» до арий Сусанина и князя Игоря. Я знала свои музыкальные способности и поэтому плотнее прикрывала дверь в комнату девчат, чтобы им не было слышно. Но они все равно стучали в стенку и просили лучше два раза исполнить куплеты Мефистофеля, чем один раз «Катюшу», хотя, вероятно, в моем исполнении обе эти вещи звучали одинаково. Я смеялась вместе с подругами, хотя втайне болезненно переживала отсутствие голоса. Как я хотела петь!.. Я знала так много песен, арий, хоров, дуэтов и целые картины из опер. Но когда все пели, мне доставалась незавидная роль суфлера. Иногда я мечтала о том, что произойдет какой-нибудь из ряда вон выходящий случай, и у меня вдруг появится голос… При трезвом же размышлении я снова и снова убеждалась, что «слава моя, как видно, иного рода»… Ну что ж… Каждому своё.
Но я пела, я не могла не петь. Ведь впереди еще самое трудное, экзамен моим силам, выдержать который – дело чести всей моей жизни. Путь выбран правильный, спасибо Миловидову. Я – радист особого назначения!
Как-то неожиданно приехали за Валей. Не верилось, что она, высокая, нескладная, в шинели, которая висела на ней мешком, – веселый наш «снабженец» – вот-вот уйдет, и мы, может быть, никогда больше не увидимся с ней! Меня напугала такая неожиданность разлуки. Валя улыбнулась, прощаясь с нами. Все мы в тот момент думали об одном: удастся ли встретиться после войны?
Вместе с фронтом двинулась на запад и наша часть. В Житомире распрощались с Зиной Кудрявцевой. Вскоре переехали в Проскуров. Дом, в котором поселились мы с Аней, стоял в глубине большого сада. Хозяйка собрала в нашу комнату все лучшее, что было у нее: пышную постель, ковры, тюль. По вечерам, ложась спать, мы смеялись – в каком царстве живем? Вдоволь нашептавшись, мы крепко обнимались и засыпали.
Однажды ночью нас разбудил тихий, настойчивый стук в окно. Мы переглянулись. Кто бы это мог быть? В такое время? Я подбежала к окну и приподняла занавеску. За окном стоял наш инструктор – старший лейтенант Шатров.
– Девочки, вставайте скорее! Я специально не стал стучать в дверь, чтобы не беспокоить хозяйку. Вставайте, я вам сейчас все расскажу!
Мы быстро оделись, ничего не понимая. Сели втроем у раскрытого окна. Город спал. Ярко светила луна на чистом небе. Шатров снял с руки часы, положил их перед собой на подоконник.
– Вот, смотрите! Через пятнадцать минут Зиночка будет прыгать.
Мы понимающе переглянулись. Через пятнадцать минут решится очень многое. Первые минуты на вражеской территории могут оказаться последними минутами жизни разведчика. Зина, маленькая, худенькая, с черными до плеч локонами, с черными глазами и маленьким носиком, очень походила на девочку-подростка. Мы не раз шутливо говорили, что немцы, увидев ее, ни за что не догадаются, насколько опасен для них этот «кукленок»!
Просидели пятнадцать минут. Смотрели на небо – чистое, светлое, как будто могли увидеть, что происходит за сотни километров от нашего дома. Потом прошло еще несколько раз по пятнадцать минут, а мы все не расходились. Шатров говорил:
– Вот вы думаете, наверное, что нам, инструкторам, все равно: посадил в самолет – до свиданья, привет?! А сколько здесь перемучаемся, пока услышим от вас хоть один звук.
Весь в белом кружеве стоял сад, легкий ветерок раздвигал занавеску, приносил из сада запах цветущих яблонь и вишен.
Где-то продолжалась война, а здесь весна уверенно идет по городу.
Мы ждем своего часа со дня на день. Незадолго перед Первым мая пришел Шатров и сказал:
– Ну, готовьтесь. Завтра комиссия приедет. Посмотрим, на что вы годитесь.
Уступая нашим настойчивым просьбам, он рассказал, что командование нуждается сейчас в инструкторах и он сам еще не знает, как решится наша судьба.
После его ухода мы приуныли. Опять сидеть здесь, а когда же на задание? Ведь так и война кончится, и мы ничего не успеем сделать…
Нас действительно оставили инструкторами, но очень скоро пришлось распрощаться и с Аней. Я осталась одна.
Хожу на занятия. Иду по окраинам Проскурова, по берегу тихой реки Случь. За городом, в кучах пепла и грязи, на свалке возятся мальчишки. Несколько дней наблюдаю за ними.
– Что вы здесь делаете? – спрашиваю их.
– Да вот значки ищем, – ответили они, не поворачивая головы. – Заразы эти выбросили сюда, а теперь разве найдешь?
– Какие значки?
– «Какие, какие»! Не понимаешь, что ли? Вот какие! – И мальчишки показали мне пионерский значок с маленьким красным костром посредине.
– Ничего не понимаю, почему вы ищете здесь?
– А где ж?! Немцы вывезли и выбросили, а в какую кучу – не знаем. Вот пока эти нашли, а остальные…
Несколько дней после этого, закрыв глаза, я все видела перед собой маленький красный костер на грязной детской ладони.
У меня два ученика – Тоня и Ежи. Оба поляки. Тоня – простая, веселая, очень живая, подвижная девушка. Ежи, наоборот, степенный, солидный, неразговорчивый парень. Тоня быстро принимает радиограмму, быстро передает текст, кисть ее руки легко ложится на ключ, и кажется, что работает она играя. Ежи проводит уроки более серьезно, все усилия он вкладывает в пальцы – ведь ключик такой маленький по сравнению с его рукой, – но передает он очень четко и так же быстро, как и Тоня.
Оба они старательно обучают меня польскому языку. Каждый день пять-шесть новых слов, новых фраз. Тоня знакомит меня с алфавитом и дает книги на польском языке. В свободное от занятий время я сажусь в своей комнате, раскрываю окно и медленно читаю вслух польские книги, с трудом осваивая непривычные сочетания мягких шипящих звуков. Без особых раздумий началось мое знакомство с поляками – с их жизнью и бытом. Это знакомство сослужило мне в дальнейшем верную службу.
У окна широко раскинула ветви белая акация. В соседней комнате хозяйка заводит патефон.
Сколько же мне так сидеть?.. Где подруги?.. Что с ними?
В тихое июньское утро вместе с Шатровым пришел ко мне невысокого роста синеглазый майор. Знакомимся. Шатров говорит:
– Это твой новый товарищ – командир группы. Знакомьтесь поближе, привыкайте, вместе полетите…
Долго сидели втроем, неторопливо разговаривая. Было немного грустно. Теперь я знаю, кто он, мой товарищ и командир. Но как все будет дальше?.. Я с тревогой прислушиваюсь к его голосу.
Разговаривая с майором, не смотрю ему в лицо. И вообще больше молчу. За ужином он шутит:
– Ешь, ешь, Ася, не стесняйся. И глаза не прячь – гляди веселее. Ничего, привыкнешь…
И от этих слов «ничего, привыкнешь» мне становится жутко. Что он имеет в виду? Неужели я действительно «привыкну» и стану вести себя так, как та девица на вокзале в Харькове?
Долго не спала я в эту ночь – все старалась представить, как буду жить там, на задании.
На следующий день вместе с Шатровым пришли еще двое: Николай и Петрусь.
Николай – высокий сорокалетний мужчина, с крупным лицом и большими руками, украинец, грузчик из Таганрога. Николай был необычайно весел – к нему приехала жена с двумя дочками. Он возбужденно жестикулировал большими руками и смеялся радостно, как ребенок.
– Вы понимаете, за всю войну первый раз свиделись. Дочки стали – во! – он показывал руками необыкновенную высоту. – Дома все ладно, все в порядке. Теперь можно не только к немцам, а и к черту на рога лететь!..
Петрусю недавно исполнилось двадцать лет, и конечно же украинская песня:
Как за того Петруся семь раз била матуся.
Ой, лихо – не Петрусь: било личко, черный вус! – сложена про него. Действительно, «било личко», «черный вус», и действительно, за такого Петруся все стерпишь от матери – хорош был Петрусь!
Началась подготовка к вылету, обсуждение задания. Мне выдали пистолет, и майор довольно быстро обучил стрельбе из него. На закате, ближе к сумеркам, мы уходили за город на берег Случи и тренировались. Николай и Петрусь бросали гранаты, «глушили» рыбу. Мы с майором перебирались на другой берег, ближе к лесу. Река в этом месте была неширокой, но глубокой. На узеньком мостике мы каждый раз останавливались и смотрели вниз, на быстро бегущие мутные волны. Дальше шли напрямик по полю, раздвигая высокую желтую пшеницу… Потом, окончив стрельбу, возвращались обратно в густой вечерней темноте. Мы мало разговаривали во время этих занятий. Опытный командир и начинающий свой боевой путь солдат – мы были поставлены в необычные условия и взаимоотношения. «Знакомьтесь ближе, – сказал нам Шатров при первой встрече. – Вместе полетите». И мы знакомились. Я старалась незаметно подчеркнуть, что признаю его авторитет и обещаю и в дальнейшем быть верным помощником. А майор, улыбаясь одними глазами, казалось, говорил, что все это его вполне устраивает.
Накануне вылета мы пошли к реке просто так, прогуляться. Майор попросил меня рассказать о моей жизни. Я смутилась:
– Что мне рассказывать, моя жизнь только начинается… Вот вы о себе расскажите.
Он ничего не ответил, а я постеснялась повторить вопрос. Так мы пришли на берег Случи. Сели.
– Ну, так что ж? – начал майор. – Значит, рассказать?
– Обязательно… Просто очень нужно.
– Согласен. Очень нужно. Ну, а с чего начинать?
– …Хотя бы как в анкете – год, место рождения и так далее.
– Чудесно! Ну что ж… Год рождения – тысяча девятьсот шестнадцатый. Место рождения – Щучье Озеро. Есть такое село. Большое село…
И замолчал. Темнело вокруг. Вода в реке казалась густой и тяжелой… Потом он вздрогнул.
– Да… Так вот… Война застала меня в Риге… И с тех пор бои, атаки, стрельба, госпиталь, опять бои, опять госпиталь… и опять бои… – Он лег на траву, подложив руки под голову, засмеялся.
– В Одессе, в катакомбах, однажды попал в переплет. В госпиталь привезли – на кровать положить нельзя, на полотенцах подвесили… Говорить не мог… А я вот взял да и выжил!
Тускло поблескивали ордена на его кителе.
– А к нам откуда пришли?
– Из госпиталя… Сквозное пулевое ранение. – Майор покачал головой. – В двух сантиметрах от сердца пуля прошла. – И смеясь продолжал: – Значит, что же получается, Ася? Получается, что умирать мне еще рано! Вот какие дела…
С противоположного берега доносилась песня. Я не видела лица майора, но чувствовала, что он улыбается.
– Мальчишкой был – пастуху завидовал!.. Утром солнце только еще встает, а он идет медленно по селу, в рожок играет. К нему со всех сторон бабы спешат, коров, овец гонят, а он свысока так на всех поглядывает, кнутом щелкает…
– Что вы делали перед войной?
– Работал в леспромхозе. Есть такая должность – технорук, знаешь? А в Ригу я в гости поехал… Ну что? Пойдем домой? Где будем завтра в это время, товарищ радист?
Не доходя до дома, майор остановился.
– Да, я еще один пункт в анкете пропустил – семейное положение. – И, отведя глаза в сторону, глухо сказал: – Жену убили еще в начале войны – она медсестрой была. Дочка осталась – Верочка. В деревне у матери моей живет…
Вечером следующего дня мы приехали на аэродром, остановились в небольшом хуторке. Было около полуночи, когда я, перебрав свои бумаги, сожгла в печке письма и записки. Захотелось сказать Молчанову:
– Нет, товарищ лейтенант… Вы не можете «кануть в Лету». Память о вас я пронесу сквозь долгие годы… И вы правы – я пойду только вперед… Пока хватит сил.
И почему-то стало обидно, что ни в одном письме уже сюда, на фронт, нет слова «люблю». Вероятно, оно скрыто за другими, простыми, ласковыми словами и его нужно угадать самой… А так оно вдруг стало нужным! С ним бы лететь на задание!..
А может быть, без него лучше?..
Наверное, у меня был очень невеселый вид, потому что майор, улыбнувшись, подмигнул:
– Ничего, Ася, все будет хорошо.
Глаза у майора синие-синие, веселые, с искорками.
Я написала две короткие записки – матери и Молчанову: «Меняю адрес. При первой возможности сообщу».
Молчанов поймет. А матери об этой перемене лучше не знать…
Я совсем забыла, что не одна в комнате, и долго сидела, пока майор не спросил:
– Боишься?
– Боюсь, – ответила я, – боюсь.
– Чего боишься?
– Прыгать страшно.
– Ничего. Я буду прыгать сразу после тебя, так что приземлимся где-нибудь рядом. Самое главное – не теряйся. Ты ведь храбрый солдат!
Я вышла на улицу. Темная, звездная наступила ночь. Через полчаса мы вылетаем. Я стою у начала большой дороги, о которой мечтала целых три года. Иду выполнять свой долг перед родиной, перед матерью, давшей мне жизнь, перед людьми, воспитавшими меня. Я очень хочу вернуться обратно… Я хочу всю жизнь иметь право смотреть людям прямо в глаза. Ночь… Украинская ночь…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































