Текст книги "Для кого восходит солнце"
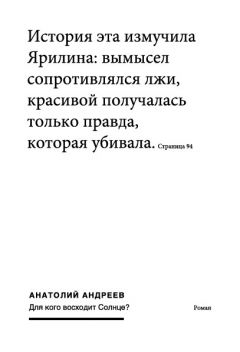
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
3
Ранним утром, прячась от слепящего солнца, Валентин Сократович звонил уже в квартиру друга.
Трезвон и лай Тима заставили Спартака продрать глаза и прислушаться к себе и миру в надежде обрести координаты: где он, с кем, он ли это, в конце концов, и если это так, то чего от него хотят?
Взвесив все pro и contra, он молча открыл дверь и впустил Валентина. Тот степенно вошел, развернул комично подпухшую физиономию хозяина к зеркалу, которое отразило исполосованную губной помадой пьяную харю. С Тимом вошедший в квартиру также обошелся прохладно и без церемоний. После этого молчаливого и странного, на взгляд полутибетского полутерьера, ритуала у зеркала мужчины подались на кухню. Сели. Спартак глубокомысленно закурил, а Валентин Сократович поднялся и открыл форточку. Наконец, Спартак Евдокимович изрек нечто, претендующее на версию:
– Она тебе позвонила?
– Вежливо попросила, чтобы я забрал ее нижнее белье, которое она забыла у тебя. Зачем она его снимала, я догадываюсь сам. Я должен вернуть ей вещи из моей квартиры. В нагрузку простая дружеская услуга: доставить ее трусы из логова моего приятеля. Вот моя миссия-с. Пара пустяков. Что ты на это скажешь?
Спартак беспомощно оглянулся вокруг и наткнулся взглядом на недопитую бутылку водки. В глазах его затеплилось что-то осмысленное. Нетвердо разлив по стаканам, он произнес безо всякого выражения:
– У человека только две проблемы: молодость и старость. Решишь одну – наживешь другую. А решишь вторую – и все, даже философия будет бессильна. Выпьем за то, чтобы у нас были крупные проблемы, а?
– Пожалуй. Тем более, что они у нас, кажется, есть.
Валентину достался стакан с губной помадой с краю. Спартак Евдокимович деликатно перехватил стакан и прикончил содержимое в два глотка. Валентин последовал его примеру и опорожнил стакан друга. Пауза и алкоголь размягчили души приятелей. Спартак начал искренне, хотя несколько витиевато:
– Не пожелай жены ближнего своего, и осла его, и козла его. Это сильно сказано, хотя и глупо. А если жена ближнего твоего желает тебя и достает член твой, ей по определению чуждый? Наши действия? Трахать или совсем наоборот, отнюдь не прикасаться? Как быть? Что делать, и кто виноват? А? Как бы это так бы, чтобы никак бы, а?
Валентин мрачно отстранился от решения этой библейской сложности задачки. Спартак продолжал, развивая инициативу:
– Есть какой-то гнусно-честный природный императив: дают – бери. Если она дает, а ты не взял – это не значит, что вы оба остались чисты. Это значит: она шлюха, а ты дурак. Твоя понимать?
– Твоя, моя… Культур-мультур… Иди ты в жопу, Спартак Евдокимович. Мне тошно от вас всех. Понимаешь?
– Понимаю… когда вынимаю… А мне еще и от себя тошно… Я виноват уж тем, что человек есмь, в известном смысле. Двинем ото всех скорбей, друг. Наполним бокалы, содвинем их разом. Вместе. А? Совместно…
– Пойду я. Противен ты мне, Спартак.
– Как знаешь, Валентин Сократович. Я почти сожалею.
Когда Ярилин вежливо захлопнул за собой дверь, Тим отчего-то заскулил, не показываясь на кухне.
4
Два дня Ярилин света божьего не видел, пытаясь решить вопрос, который он сам себе навязал: как бы устроиться так, чтобы позволить себе роскошь презирать тех, кого презираешь, любить тех, кого любишь, и уважать при этом самого себя?
Первые два условия казались легко выполнимы – но тогда об уважении к себе не могло быть и речи. Если начинать с условия третьего – тогда не получалось искренне презирать и любить. «Может, роман какой напишется по мотивам жизни?» – тоскливо утешал он сам себя.
На третий день он решил навестить приятеля своего по имени Кирилл, по прозвищу Мефодий, а по фамилии Присных. Мефодий был сведущим богословом, знаменитым тем, что написал свою докторскую диссертацию по философии в Голландии на немецком языке. Валентин Сократович свободно и раскованно общался с Мефодием еще со времен диссидентства, когда они у костра под Самарой (тогда еще город назывался Куйбышев) выстанывали что-то бардовское с вольным душком: кони, волки, гривы, церкви. Тогда Кирилл еще не был Мефодием, и крестный путь его складывался, в основном, из похмелья и бабских разборок. Как-то так получилось, что его, смазливого, обладающего к тому же лирическим тенором, никак не могли поделить две-три пассии. Кирилл одухотворено задирал очи и протестующе заводил про коней и их лохматые гривы, а женщины сначала трепетали, а потом сатанели, когда дело доходило до дележа внебрачного ложа. Время от времени из круга пассий выпадала одна, но на ее место тотчас находилась другая. И вот в таком неблагополучном гареме влачил дни свои Кирилл Присных. Советский строй оборачивался к талантливому тенору своим самым неприглядным ликом. Жизнь была запутанной и тяжелой.
Затем, как водится, внезапно и немотивированно, на него снизошло откровение (которое злые языки называли интуицией), и он по своим диссидентским каналам отправился постигать богословие. Чем он особенно гордился и что снискало ему неколебимую репутацию бескорыстного богоискателя – так этот тот неоспоримый факт, что его искания свершились до перестройки, то есть тогда, когда стремление к Богу риска приносило более, нежели выгоды. Никто не мог обвинить Мефодия в конъюнктуре, даже теперь, когда сутана резко возросла в цене и страна стала открещиваться от атеизма, как черт от ладана. Кирилл воспринимал счастливые повороты судьбы как вознаграждение Господа Бога за диссидентские мытарства. Всевышний честно платил по счетам, а Мефодий недурно тянул богословскую лямку в одном из престижных и, опять же, опально-диссидентских вузов, спонсируемых сердобольным Западом. Все складывалось удачно.
В перерывах между поездками то в Голландию, то в Германию, а то в какую-нибудь Португалию, отец Кирилл изнывал на поприще разных толкований Нового Завета. Он был крупным специалистом в области различий между православием и католицизмом. Сказывались опыт западника и укорененность в славянской почве.
Нравы местной богословской элиты были странны и неисповедимы, как пути Господни. Набираться зеленым змием до белых чертей было хорошим тоном, и даже где-то делом чести, этакой доблестной православной чертой, но вот пристрастие к полу женскому считалось отчего-то открытой бесовщиной и вызовом канонам православия.
Мефодий считался принявшим монашество, совмещая невоцерковленное бытие и светское подвижничество с образцовой строгостью нравов. Где-то в Великом Новгороде была у него жена с дочерью. Но случилось это еще до его пострижения, и ныне Мефодий монашески поводырствовал, имея репутацию крупного авторитета в делах церковных и человеческих.
Валентина Сократовича он бесцеремонно считал милым грешником, непосвященным в сакральное и эзотерическое, а потому слепым и недалеким, и главное – не могущим судить его, Мефодия, прегрешения, ибо в светской системе отсчета все не так, как надо. Ярилин в глубине души считал Мефодия гениальным лицемером, умеющим с выгодой обманывать даже самого себя, и любовался изнанкой святости. Им всегда было о чем дружески потолковать.
Массивную металлическую дверь, отделанную добротным дерматином приглушенных тонов, Мефодий открыл не спеша, предварительно изучив в глазок пришельца.
– Входи, входи, отче, хе-хе, – возрадовался святой угодник, – с чем пожаловал?
Они троекратно облобызались, Валентин Сократович разоблачился, повесив свой элегантный плащ на какое-то подобие рогов, и они прошли в гостевые покои, вечно прибранные и, очевидно, стилизованные под скромняжье житье-бытье ученого монаха. Иконы, книжный шкаф, огромный письменный стол. Разве что компьютер с принтером намекали, что обладатель сей кельи живет в начале XXI века и получает солидные гранты.
– Машенька, взойди, это свои, – барственно распорядился Мефодий в пространство, и откуда-то из укромных глубин квартиры бесшумно явилось колоритное существо с опущенными глазами, что только подчеркивало несмиренный облик леди. Рожица послушницы была смазлива до пошлости и до того блудлива, что казалось, будто клитор располагается у нее на физиономии. И при этом стыдливо опущенные долу очи. «Известный фокус, – подумал Ярилин. – Чем благостнее глаза, тем развратнее задница.» Это выглядело неестественно, словно мутно-голубые глаза сиамского кота на светло-коричневой в палевых разводах морде, а потому несколько пугало и одновременно возбуждало. Слишком много красоты всегда грозит обернуться уродством. Даже вежливый Валентин Сократович в недоумении посмотрел на избегающего соблазнов отца Кирилла.
– Это Машенька, студентка института культуры. Пусть пользуется пристанищем, поживет у меня безвозмездно. За квартирой присмотрит, опять же. Познакомься, душа моя: Валентин Сократович. Прошу любить и жаловать.
– Здравствуйте, – промолвила Машенька, подрагивая пухлыми крупными губами, то ли скрывая насмешку, то ли нагловато ее демонстрируя. Девица была явно без полутонов и, скорее всего, без комплексов. Вызывающих размеров грудь, подчеркнутая тугой спортивной блузкой, узкая талия, длинная и широкая юбка – от нее за версту несло сексуальной мощью и позывом самки. Рядом с ней двум мужчинам тут же становилось тесно (ее готовность принадлежать любому как-то сразу не вызывала сомнения), и Мефодий, явно нервничая, протрубил что-то насчет чая. Девица, сверкнув нескромными и холодными очами лисьего разреза, молча проследовала на кухню. Валентин Сократович же, все еще приходя в себя, задумчиво произнес, покачивая головой:
– Ну, ты, падре, даешь.
– Хе-хе, хе-хе, – тихо и самовлюбленно звенел поп. – Так-то бывает. Греха нет, греха нет – дело житейское. Надо шире смотреть на вещи, сын мой. Амбразура не должна заслонять кругозор.
– Ведь ты ж монах, однако, сукин ты сын!
– Монах, о котором говоришь ты, Валентин, понятие, скорее, карьерное, нежели мировоззренческое, а тем более нравственное. Это статус, но не образ жизни. Монах – это прежде всего свобода. Не следует путать божий дар с яичницей.
– Хорошо, Кирилл Аркадьевич. Мир дому твоему. Над чем сейчас работаешь?
– Любопытную монографию плету. «Козни разума» называется. Разум и вера – вечную тему хочу поднять с Божьей помощью. Смешно, ей Богу, как вы носитесь, просвещенцы, со своим разумом…
– Допустим. А как же ты эту блядь с верой венчаешь?
– Не горячись, Валентин, не горячись. Как ты категоричен. Во-первых, она не то, что ты думаешь. Во-вторых, у нас с ней не то, что тебе показалось. Да, да, представь себе.
Пятидесятилетний мужик с опущенными плечами тихим голосом сказал правду. Валентин Сократович посмотрел на него и опять покачал головой:
– Безумные речи глаголешь, отец Кирилл. Влюбился что ли? Ну, тогда беда…
– Чай готов, извольте кушать, – грудным голосом пропела пери и живописно раскинулась на диване, подмяв под себя ноги. На ладони ее едва умещалась сочная половинка персика, в мякоть которой она впилась зубами, а потом ласкала губами, выцеживая сок. При этом хищным глазомером простого столяра она окинула сухощавую фигуру Валентина и уставилась на него так, что было ясно: первая она глаз не отведет. У Валентина Сократовича даже во рту пересохло.
– Прошу на кухню, Валентин, – заторопился Мефодий. – Святое место, хе-хе! Мы, можно сказать, возмужали и созрели на кухне. Кухня – это культурная ниша, не так ли? Сколько было выпито и спето! Сколько было срасти в спорах! Суета сует, однако… Кагорцу испьем, Сократыч?
– Лучше водки, чистой и крепкой.
– Дело говоришь, Сократыч, дело. Машенька, я плесну тебе пару капель кагорцу?
– Водки, Кир-аркадич, водки. Терпеть не могу это слащавое пойло, ты же знаешь. У меня от него сердцебиение.
– Вот племя младое, хе-хе, да резвое. Непуганое, опять же. Но они умнее нас, Валентин: атеистов все меньше и меньше. Спаси и сохрани!
Мефодий ловко махнул чарку в мохнатый рот, опушенный бородкой модного силуэта. Чистота линий монашеской брады отдавала пижонством. Машенька тоже автоматически перекрестилась и красиво выцедила пузатенькую стопку, не поморщившись. Валентин Сократыч, коротко выдохнув в сторону, принял дозу в два глотка и замахал руками.
– Капусткой приткни, – руководил гостеприимный Мефодий.
Кухня была светлой и просторной. Валентину Сократовичу, грешным делом, всегда казалось, что здесь и располагается духовный центр славной трехкомнатной квартиры отца Кирилла. В аккуратно выдолбленной нише помещался огромный импортный холодильник. На столике возле светлой газовой плиты стояла вместительная ваза, наполненная отборно крупным итальянским виноградом. «Да, недешево обходится любовь попам», – подумал Валентин Сократович.
– Ея же и монахи приемлют, – в сотый раз за последние десять лет произнес смешную фразу Ярилин, указывая на бутылку водки. Машенька звонко засмеялась и пояснила причину смеха:
– Кир-аркадич такой же монах, как я – папа римский.
– Маша, лебедь, не кощунствуй, не люблю, – мурлыкал Мефодий, обводя роскошные стати возлюбленной пылкими очами.
Маша села между Кириллом и Валентином и мгновенно превратилась в центр притяжения и обожания. После третьей рюмки («Бог любит троицу»), выпитой за любовь («за возлюбленных»), Мефодий стал заявлять на Машеньку исключительные, собственно, абсолютно все права, и Валентин, чтобы его успокоить и отрезать себе путь к возможному флирту, стал рассказывать о своей любви к Татьяне. Когда повествование дошло до трагической измены, Машенька почему-то расхохоталась и заявила:
– Пойду, сниму бюстгальтер. Тесновато что-то душе.
Мефодий, разумеется, увязался за нею.
– Не приставай ко мне, профессор, – слишком громко для того, чтобы это звучало интимно, капризничала Машенька за дверью с витражами. Это говорилось явно не для Мефодия. В чужом пиру похмелье стало уже надоедать Валентину Сократовичу, и он стал подумывать об исчезновении по-английски. Или по-русски, как придется. Пора было смываться.
Но тут в кухню вошла Маша и, воодрузив ладную ступню на стул, объявила в сей гордой позе:
– Хочу водки!
Водки в доме у монаха не оказалось. «Придется кому-то сбегать», – интригующе вздохнула Маша и зачем-то оголила колено. «Не гостю же бежать, верно, Кирюша?»
– Шлюха! – взревел богослов и священник.
– Все, с меня хватит! – Валентин Сократович решил пресечь мелодраму в самом зародыше. – Я ухожу. Разбирайтесь сами.
– Я ухожу с Валентином, – заявила обиженная дама, и Валентину стало неловко смотреть падре в глаза. Он поневоле становился соучастником какого-то нечистого мероприятия.
– Кирилл, я ухожу один. Не ввязывайте меня в ваши разборки. Прошу вас. Мне и так тошно.
– Не мешало бы тебе извиниться перед гостем и передо мной, – пухлые губы искривлены и поджаты, но выдают не обиду, а настойчивость.
– Валентин, извини. Прости меня, ангел мой, Мария…
– Ладно. Прощен. Мы сейчас спустимся в магазин за водкой. Одна нога здесь другая там, – поставила точку Маша и подставила плечи под плащ, в который благоговейно укутал ее Мефодий. Едва они оказались в лифте, Мария, ни слова не говоря, сомкнула руки на шее у Ярилина.
– Валентин, не приставай ко мне, – напирая на него грудью стонала она. Бюстгальтера на ней, как и предполагал Валентин, не оказалось; грудь у нее, как он и воображал, оказалась мягко-упругой. А вот глаза – и тут он ошибался в своих абстрактных прогнозах – очень даже реагировали на прикосновение к телу: они живо пульсировали и замирали, откликаясь на рваный ритм его жадно ищущей ладони. Ее тело было честным.
Они зашли в ярко освещенный и самый людный отдел магазина, купили водки «Новый век» (не одну, а две бутылки почему-то захотелось Валентину Сократовичу) и выскочили в темень. Машеньке захотелось покурить. Они пробрались за магазин, нашли какие-то дощатые ящики, отбросили пакет с водкой и принялись, как безумные, целоваться.
– Не приставай ко мне, – млела в коротких паузах мадонна. – Нет, нет, – извивалась она, в то время как Валентин Сократович терзал ее крепкую и одновременно чуткую грудь. – Еще, еще… «Какой-то удивительный сладострастный орган, а я – паскудный виртуоз Бах, и мелодия в башке плывет неземная. Понимаю тебя, святой отец», – проскальзывали мысли в голове писателя, фиксируя мучительную поэзию такого рода, с которой ни с кем невозможно поделиться. Мысли честно работали с ощущением, которое коряво отражалось в словах бледным смысловым итогом: «С этой шлюхой я испытываю самое чистое наслаждение. Это компрометирует меня, мне стыдно даже перед собой. Точнее, потом будет стыдно. Падение? Грязь? Такое наслаждение не может быть падением. Это прорыв к сути. И мне приятно, что у меня такая суть, хотя я никогда и никому этого не скажу. Даже под пыткой.» И почему-то странный вывод: «Нет, род человеческий должен издохнуть. Это будет справедливо. Мы не выживем. Мы не можем становиться лучше. Нельзя этого лишать человека, но нельзя ему этого позволять. Это и нравственность несовместимы. Какое счастье, однако, что я это все понимаю. И что меня никто не может слышать. Где-то я вру. И сейчас мне абсолютно наплевать, вру ли я, вправе ли. Это стоит истины».
Едва он забрался к ней в трусы, грубо задрав просторную юбку (они дошли до состояния, когда грубость становилась формой нежности), и пальцами ощутил горячую влагу, как с Марией стало твориться что-то невообразимое. У Валентина стало появляться ощущение, что до этого он толком не знал женщин.
– Нет, нет, я тебе не дам, – шептала она, рывками прижимаясь к нему. – Я люблю его… Ты ведь не расскажешь ему…
Потом она точными и быстрыми движениями расстегнула ему нужное место на джинсах, плотно схватила прохладной ладонью трепетавший ствол желания и очень трезвым голосом внятно произнесла:
– Ты ведь не расскажешь своему другу, как ты приставал ко мне? Ведь нет же? Нет? Иначе у тебя не будет друга…
После этого она заставила его опрокинуться на ящики и прильнула своими упругими губами к его истекавшей и тосковавшей в бездействии плоти. Она проворно и сладко проделывала именно то, о чем грезилось сошедшему с ума Ярилину. Ему казалось, что он на ней, а они на небе. Под ее свирепое урчание он волшебно опустошился и стал таять.
– Тише, тише, – зажимала ему рот Машенька, сдавливая его вопли. – Тише, милый.
На мгновение ему показалось, что более родного существа он не встречал на Земле. «Как обманчив интим!» Он понял и почувствовал, почему у Мефодия не было сил отказаться от этой девки.
– Ну, ты и тигр, – говорила Машенька, приводя юбку в порядок.
– А ты – крокодил, – мешал ей Ярилин, вяло вожделея.
– Разве я кусаюсь? – пристально смотрела лиса в трезвеющие глаза человека, которого видела сегодня первый раз в жизни.
– С хвоста ты, может, и сиамская тигрица. Я еще не знаю…
– То-то же. О нашем уговоре помнишь?
Когда они вернулись, Мефодий допивал уже церковный кагор.
– Сучка, рыжая тварь, – набросился он на Машеньку, хотя волосы у нее были блестяще-темные. Он стоял в дурацкой позе, сжав кулаки и вращал глазами, словно Карабас-Барабас. «Он не заслужил такого унижения», – бесстрастно выполняло свою работу сознание Валентина Сократовича, и иглы совести впились ему в межреберное пространство прямо напротив сердца.
– Кирюша, что с тобой, зайчик? – скороговоркой сиделки заворковала Машенька, взяв его бурое лицо в ладони (Ярилин словно на себе ощутил их прохладное прикосновение).
– Все в порядке, успокойся, мы здесь…
– Валентин, я убью тебя. Пошел вон! – театрально и нелепо рычал Мефодий. – Вы все суки. Я вас ненавижу. – В его напыщенных словах была неподдельная боль.
– Кирюша, я с тобой, я здесь, все хорошо…
– Кирилл, ты меня оскорбляешь, завтра тебе будет стыдно, – неожиданно для себя с придыханием и чувством собственного достоинства произнес Валентин Сократович фразу, за которую назавтра ему было нестерпимо стыдно. И не только назавтра. Лисьи глаза задержались на его лице, Мефодий обмяк, подчиняясь магии слов. Мы не раскроем важный секрет, останется ли наш герой (хочется сказать: наш брат писатель!) в живых, но ему будет стыдно за свою невольную иезуитскую импровизацию до самой смерти. Знай об этом, читатель. Ему казалось, что он побывал в шкуре предателя.
Через полчаса компания помирилась под водочку, списав инцидент на глупую ревность пылкого Мефодия. Он был счастлив и лез целовать свою богиню в самый низ живота, стаскивая с нее юбку и целомудренно забыв о существовании Валентина Сократовича. «Солнце мое», – шептали уста окаянного слуги церкви. Мария даже для виду не сопротивлялась. Она направляла поцелуи обезумевшего Мефодия и с поволокой, не отрываясь, смотрела в глаза Валентина. За эту неподдельную поволоку Ярилин готов был растерзать развращенную тварь, а она приглашала его увидеть, как она разводит бедра, открывая доступ языку святого отца туда, где чудно пульсировала горячая влага…
Клинышек волос, декоративно обрамлявший ее лоно, был рыжим.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































