Текст книги "Несколько страниц"
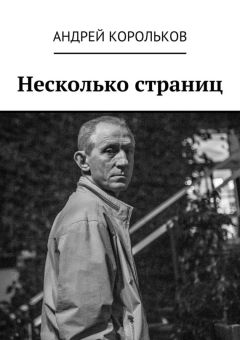
Автор книги: Андрей Корольков
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Несколько страниц
Андрей Корольков
***
© Андрей Корольков, 2016
© Сергей Немов, фотографии, 2016
© Дарья Обросова, иллюстрации, 2016
ISBN 978-5-4474-9563-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Не дёргайся. Всё будет хорошо.
Кто начинал, тот и поставит точку.
Когда тебя стирают в порошок,
как все нормальные, переживаешь шок,
но ты теряешь только оболочку,
так хряпни за неё на посошок;
и слава Богу, ежели пуста,
а не пуста, опять же – слава Богу.
Пусть отправляется. Не говорю, в дорогу:
гроша не дам за эту недотрогу —
сплошные уязвимые места;
и первый встречный без ножа зарежет,
и ссадины, фингалы, как с куста,
и непонятно, кто кого содержит.
2012
Деревянный рай

«Старая, пожившая деревня…»
Старая, пожившая деревня.
Вечера дымящийся покров.
Маются огромные деревья
возле заколоченных дворов.
Избы покосились, поредели,
взгляд окон по-старчески потух;
на молодок шпорится без дела
тощий инкубаторский петух.
Над рекой с названьем некичливым
серебро ракитовой каймы.
Изредка на чибисово «чьи вы?»
я кричу:
– Капустинские мы!
1975
«В тени высокого обрыва…»
В тени высокого обрыва,
как дирижабли невесомы,
проходят медленные рыбы
самоуверенно и сонно.
Тепло желтеющая глина,
ветвей недвижимые своды,
многозначительно и длинно
текут медлительные воды.
Река тепла и бесконечна:
тенистые деревья томно
глядятся в реку, будто вечно
не узнают или не помнят.
1984
«А в углу этом тёмном могли бы стоять образа…»
А в углу этом тёмном могли бы стоять образа
с негасимой лампадой: она не соперница свету,
просто память о нём или, если подумать, слеза.
Но икон и лампады в углу, разумеется, нету.
В этом тёмном углу даже нет и, пардон, паука,
ни ажурной его и тончайшей такой паутины…
Паука с паутиною нет, надо думать, пока,
потому что их там не хватает
для полной картины.
2011
«Молча курим. Угасает день…»
Молча курим. Угасает день.
Вьются дыма сизые колечки.
Выползает вечер на крылечки
уютных деревень.
Цепенеет деревянный рай,
явно чуждый всяческого лиха.
Господи! Как хорошо и тихо:
ложись и помирай.
1985
«Поскольку ночь, окно открыто в сад…»
Поскольку ночь, окно открыто в сад.
Там дождь идёт. Нет, он уже – у цели.
Там золотые яблоки висят.
По крайней мере днём ещё висели.
Поскольку ночь, не видно ни шиша…
А то, что там, быть может, углядела
одна отдельно взятая душа,
в конечном счёте не меняет дела.
2009
«Если дождь, я на эту дорогу смотрю из окна…»
Если дождь, я на эту дорогу смотрю из окна,
на дорогу, идущую берегом странной реки:
глубина такова, что рукою достанешь до дна,
и везде перейдёшь даже не намочивши портки.
Про портки я шучу. И когда-нибудь я дошучусь.
И не до просторечий, а до настоящих забот,
до потери сознанья и так называемых чувств.
Но, конечно, не завтра. Возможно, и не через год.
А сейчас – репетиция. Отрепетируем путь:
вот дорога, река (переправа, естественно, вброд,
никаких тебе лодок), а в небе какая-нибудь —
за рекою над лесом – звезда. Или наоборот,
над рекой. Но сейчас это просто вода,
и неважно, звезда путеводная там или тут.
Вот когда по дороге отправишься (ясно – куда),
то – не то что свернуть —
и споткнуться тебе не дадут.
2011
«Две недели я валяю ваньку…»
Две недели я валяю ваньку,
забываю адреса и лица,
истопляю старенькую баньку,
но уже не пьётся и не спится.
Под горой, в каком-то буераке
я нашёл избитую подкову.
На горе насвистывают раки
еженощно. Проку – никакого.
От собак и огородных пугал
что ни день, я вздрагиваю реже.
Две недели обживаю угол,
больше – пятый, нежели медвежий.
1989
«На высоком речном берегу прозябает село…»
На высоком речном берегу прозябает село:
если, скажем, от нечего делать
на улицу выйдешь,
то не станет тебе, как тому чудаку, весело,
потому что гуляющих девок ты там не увидишь;
а увидишь тропинку, ведущую прямо к реке,
и пройдёшь по тропинке,
и встанешь на тёплые камни,
и почти что не целясь убьёшь комара на руке,
постоишь и зачем-то потрогаешь воду руками.
И по тёмной воде побегут золотые круги,
на высоких ногах по воде побегут водомеры…
Хорошо тебе тут – вот какие твои пироги.
И такие дела. Если только не символы веры.
Потому что тебя навсегда отпустили домой,
о туда, где, опричь обветшалого дома и сада,
комариного лета и белого снега зимой,
больше нет ничего. А уже ничего и не надо.
2009
«И ленива и не широка…»
И ленива и не широка
(и почти что никак не зовут),
замерзает простая река:
очень холодно тут.
Тут, полого упав от окна,
стынет солнечный луч на полу,
и все вещи нанизаны на
ледяную иглу.
Вот пока на сто вёрст – ни души,
море времени, сколько ни трать,
и пока не забыл, запиши
в ледяную тетрадь,
что идёт, почему и куда,
что бежит себе дни напролёт.
А в реке – ледяная вода,
по закраинам – лёд…
2008
«Вне зависимости от пола или в каких летах…»
Вне зависимости от пола или в каких летах,
записной ли псих, мухи ли не обидит, —
человек, смотрящий на воду, выглядит так,
будто думает, что его не видят.
Если думает. Что, вообще говоря, позор.
Но и третий глаз, как и первые два, замылен,
и река уносит… как что? Да как тот же сор,
даже мелкую мысль,
заблудившуюся среди извилин.
Так учебник истории
листает привычная пятерня:
с упоением тем же, навязчивым или вящим,
водный поток завораживает нас всеми тремя
составляющими времени —
прошлым, будущим и настоящим.
Оттого и лицо в ладони упрятавший господин
там, где ивы к воде опрометчиво льнут и никнут,
у холодной реки засидевшийся до седин,
так беспомощно озирается, когда окликнут.
2010
«Как нормальные мужики —…»
Как нормальные мужики —
политикой или бабами,
я, с чего ни начну, сколь угодно издалека,
заканчиваю дождём, просёлком с его ухабами,
а на заднем плане – река,
о которой хотя и знаешь, куда течёт,
но течёт ли вообще, ни за что не уловишь глазом.
Тишина. И глухое «увы» – не в счёт,
потому что накрывшиеся медным тазом
планы на будущее посылают своё «увы»
из небытия. И с некоторого момента
странный запах
прихваченной заморозками травы
смешивается с дождём, тишиной и ещё с чем-то,
что лежит на сердце, да и на той же душе,
как на ветках и проводах изморозь или наледь,
от чего охотно избавился бы уже,
но чего не забыть и, тем более, не исправить.
2010
«Если солнце стоит высоко, то тени…»
Если солнце стоит высоко, то тени,
коротая время до заката дня,
прячутся в листве деревьев (и других растений),
а подует ветер – начинается беготня,
перепрятки, шум, мельтешение, но под вечер
тени вытягиваются, передразнивая дома,
и сливаются, как слова иноземной речи,
в нечто целое. Как тома
запылённых книг на забитых донельзя полках,
что не то что читать, но уже различать невмочь,
ибо, будучи из, вообще-то, не самых стойких,
устаю. А ещё: потому что ночь.
2010
«Последняя капля, сорвавшаяся с края крыши…»
Последняя капля, сорвавшаяся с края крыши,
падает на землю с хрестоматийным «кап»,
после чего становится намного тише,
чем было до этого. Как будто кляп
заделали и без того молчавшему человеку.
У такого молчания даже не спросишь: ну?
Чтобы отдых дать натруженным за день векам,
закрываешь глаза и погружаешься в тишину,
как в астральные дебри какой-нибудь лженауки,
как скупой – в подземелья – рыцарь,
а лучше – крот;
и уже не понять: тишину нарушают звуки
или – наоборот…
2010
Круги на воде

«Он и в Африке – слон…»
Он и в Африке – слон,
и, наверное, был на примете,
(разумеется, бивни), короче: уснёшь на посту —
непременно убьют, и душа, белоснежная в свете,
не спеша отлетит и, клубясь, наберёт высоту;
и среди облаков, и – легка, устремится на север,
собирая незрелые звёзды во влажную горсть:
только там и тогда пожинаешь и то, что не сеял,
где луна тяжела и желта, как слоновая кость.
И поэтому утром осенним, сырым и туманным
над равниною русской пойдут затяжные дожди…
Пошуруй хорошенько
по книгам, углам и карманам,
кое-что обретя, до сельпо до родного дойди.
Перестала давать (тьфу ты, Господи – в долг!)
продавщица младая
в том сельпо, куда ты
поспешаешь (опять же – селом),
волоча сапоги и по Фрейду лениво гадая,
отчего тебе ночью, к примеру, привиделся слон?
А чего тут гадать? Уж и то хорошо, что не черти,
ведь известно, что ты никогда не гнушался вина.
Вот и выпей стакан. Закури. И подумай о смерти.
А не хочешь, не пей: просто так посиди у окна.
1994
Покров
Сегодня светлый праздник Покрова.
Я торопливо собираю вещи:
резной хомут и золотые клещи,
берет на плешь и руки – в рукава.
И вот – благоухающий подъезд,
а там сосед, хронически поддатый,
и на сакраментальное «куда ты?»:
– Куда? Туда! В пределы неких мест!
Где те же травы, те же дерева,
не благо иго и весомо бремя,
где точно так же истекает время
и где сегодня праздник Покрова;
где я, отнюдь не будучи здоров,
вполне причастный времени и праху,
почти сниму последнюю рубаху:
уже сегодня упадёт покров!
Ещё на мне никто не ставил крест
(хотя идея в воздухе витала),
но час назад меня уже не стало,
уже я там, в пределах неких мест,
где точно так же воют провода,
и точно тот святый и крепкий Боже…
Ребята – всё, решительно всё то же.
Но снег ещё не тронут. Ни следа.
1991
«Потеплело, и щепочка лезет на щепку…»
Потеплело, и щепочка лезет на щепку.
Вот из лужи прохожего обдало…
Я пойду в магазин и куплю себе кепку,
и она мне пойдёт, как корове седло.
Променяю все ваши на эту заботу,
на рассвете покину родительский кров:
как последний дурак, поплетусь на работу,
где баклуши я бью и седлаю коров.
А ведь, кажется, помню: какая-то лошадь
(боевая, наверно… Конечно, она!)
выносила меня на широкую площадь,
и – здорово, ребята!.. А там – тишина.
И с тех пор по дороге иду пригорюнясь,
вечерами домой, на работу – с утра,
всё по той, по которой прошла моя юность,
не скажу, что давно, но давно бы пора;
я киваю в ответ придорожному злаку,
я не знал и не знаю, не быть или быть,
я ещё не решил, покупать ли собаку:
не уверен, что я её буду любить.
1994
«Почему-то на ранней заре выгоняют коров…»
Почему-то на ранней заре выгоняют коров…
Вот выходим и мы с председателем
в чистое поле:
– Как дела, литератор?
– Спасибо. Конечно, здоров.
Я вчера отпустил свою душу на волю.
Как меня отпустили на волю марксизма тома,
отпустила красавица из параллельного класса,
как Его, наконец, отпустила кромешная тьма,
отступившая после девятого часа;
как метавшие жребий, пардон, воротили носы,
недовольны весьма (как одеждой)
лохмотьями теми,
или, скажем, как мы без конца переводим часы,
и нам голую задницу кажет прошедшее время.
Дорогой председатель! Давай изопьём молока!
Совершенный обломок
совхозно-колхозного строя,
изопьём по одной за того племенного быка
и за красное солнце над тою зелёной горою!
Дорогой председатель, моя отлетела душа,
наливаются кровью неясные даты и числа,
но, представь, и сейчас за душою моей ни гроша:
только лёгкая тень
наконец обретённого смысла.
1990
«О, дорога от дома к метро по утрам…»
О, дорога от дома к метро по утрам,
и, естественно, наоборот – вечерами,
что едва ли подобна небесным дарам,
(как иконе – лицо в позолоченной раме):
на корявом асфальте скопление вод,
фонари – не того, и довольно опасно,
до беды и до слёз довела бы, да вот
а потом-то куда? Совершенно не ясно.
Потому что никто не глядит из окна,
ни со стен крепостных, ни с каких колоколен,
и, всего вероятней, не будет кина:
как ни странно, механик действительно болен;
а давно бы пора обратиться к врачу,
потому что не только дороги раскисли,
но привычная ноша невнятна плечу,
а всего интересней – дурацкие мысли.
а дорога пуста, будто песня без слов,
когда просто мычишь за гармонью унылой, —
ничего от себя, лишь основы основ:
что-то вроде «спаси, сохрани и помилуй»…
1992
«Горбатый мостик. Обводной канал…»
Горбатый мостик. Обводной канал…
С чего-то злоба дня заговорила:
подкинула сравненье, что перила
горбатого моста черны, как нал.
А я совсем не разбираюсь в нале,
поскольку тёмен, как вода в канале,
отчасти лыс и нищ не по летам:
я даже в Турцию ни разу не летал,
не говоря о Лондоне, Париже.
Я много ездил. Но гораздо ближе.
Лишь в этих водах отражаюсь я
в придачу к облакам, растрёпанным, как вата.
Плывёт какой-то водоросли прядь:
не помню, что такое кисея,
но и смотреть на это страшновато.
Но то – смотреть, а ежели – нырять?
Ныряют утки. Правда, не с моста.
И для Москвы их тут довольно много.
А справа, слева, поверху – дорога,
и – бить начнут, не скажешь: красота!
Но вот гранит ступеней – что скрижаль,
над головой, почти что сразу, – небо.
А главное, я тут ни разу не был,
хотя сто раз, наверно, проезжал.
2010
Питер
Сказать, что всё не так?
Посетовать? Поныть,
что вот опять сравнение – не в пользу?
Что даже нимфы в Летнем встали в позу,
чуть не порвав связующую нить:
– Ты кто такой?
Литейный стал прямей…
Я по нему иду седой, усталый,
и из-под закустившихся бровей
высматриваю то, чего не стало,
и по всему выходит, что – меня.
А город что ж? Ему плюс-минус тридцать —
плюс-минус ничего.
Петрова пятерня,
не то что б над, но – бывшею столицей
простёртая, простёрта в никуда:
чуть выше – небо, понизу – вода,
в которой отражаются фасады.
Ограда упомянутого сада
блестит от сырости, сочащейся с небес,
и под рукою подаётся дверца
туда, где я бы мог оставить сердце…
И я оставил сердце. Но не здесь.
2012
«Улица имени Первого Мая…»
Улица имени Первого Мая…
Как ни тужилось время, а всё на местах,
и, наверное, та же Анюта хромая
собирает пустые бутылки в кустах.
Всё на месте, и крыть, разумеется, нечем:
будто та же галдит во дворе детвора,
даже если густой опускается вечер
в неподдельную темень и сумрак двора,
где и в жаркую пору жары не бывает,
и – в любую погоду – домашний уют;
мужики постепенно козла забивают
и поэтому к ночи едва ли забьют…
И всё так же, отставивши благоговейно
заскорузлый мизинец, лицо к облакам
поднимают покорные слуги портвейна,
осушая гранёный Анютин стакан.
Домино. Перезрелая вонь магазина.
Завывают качели: не смазан крепёж.
Время тянется, будто сырая резина,
и к рукам прилипает, и не отскребёшь.
Так и было. Но портит картину Анюта,
никому не дававшая пить из горла,
ведь она, из чего ни была бы согнута, —
человек и, лет десять назад, померла.
1991
«Я живу на отнюдь не Садовом кольце…»
«Какой город стоит на мягком месте?»
Детская загадка
Я живу на отнюдь не Садовом кольце,
я французский язык изучаю;
нехорошие тени лежат на лице:
это я по Парижу скучаю.
Сохну так, что как жив до сих пор, не понять,
и хорошего в этом не вижу:
мне бы только на евры рубли обменять,
и я тут же рвану до Парижу.
К их каштанам от этих дурных тополей
и от лета, почившего в пухе.
Зажирею. И стану настолько белей,
что пиджак не сойдётся на брюхе.
И потянет француженок пообнимать…
Я за то – провалиться на месте —
зарекусь их парижскую Божию мать
поминать в неприличном контексте.
Ведь и русскому сердцу Париж как des ailes,
как – воистину – ложка к обеду…
Ах, зачем вы так нервны, мадемуазель!
Может, я вообще не приеду.
Я – легко может статься – погиб на посту
(entre nois: я стоял на защите).
Где-ни-то-как-нибудь присобачьте плиту
и чего-же-нибудь напишите:
мол, такой-то откинулся, ёж его медь,
но, увы, у себя во славянах,
так как рылом не вышел валюту иметь,
а равно и простых, деревянных;
неизвестно, умел ли он сеять и жать
или мыкался флагом на мачте,
но считал, что над Сеною лучше лежать:
веселее, а главное – мягче.
1991
«Я кругами хожу. Я лечусь наложением рук…»
Я кругами хожу. Я лечусь наложением рук.
Если мелочь – к слезам,
то к чему снятся ихние баксы?
Опишите мне время, и если получится круг,
не сочтите за труд,
перешлите картинку по факсу:
там семнадцать мои. Остальные – неведомо где…
– Подержите арбуз! —
И прохожий разводит руками.
Разведённые руки, как будто круги на воде,
над которыми синь, чуть подёрнутая облаками.
И прохожий идёт, разведёнными руки держа,
по московским кругам,
по садовым и литерным кольцам…
И спросить бы ещё, да ушёл он далёко deja.
Потому что француз.
У него и фамилия – Гольцман.
О московские кольца! Линючи на вас тополя!
А возьмись убирать,
так за те же семнадцать не свёз бы…
Опускается пух на зыбучие камни Кремля
и летит над рекою, где плавают красные звёзды.
Опишите мне время, пока я иду по кольцу,
или, как иногда говорят, окажите услугу,
ибо мне одному неизвестно, к какому концу
приближается время, бредя по такому же кругу.
1994
«На простом языке слесарей по ремонту а/эм…»
На простом языке слесарей по ремонту а/эм
о весне закричали грачи на высокой берёзе;
вот и я выползаю из дома (неважно зачем),
но, поднявши главу,
замираю в немыслимой позе,
потому что сугробы значительно выше колен,
да и солнце в глаза, и любое движенье излишне.
Вон горят колокольни уездного города N,
а звонят ли к обедне,
отсюда, конечно, не слышно.
Да и видно-то плохо, поскольку сии города —
на три четверти пьяные слёзы
в гранёном стакане,
и когда электрички уходят незнамо куда,
остаются в округе всё те же грачи и цыгане.
Этот необитаемый остров почти что ничей.
Обитаем условно. И не исчисляема паства.
Только солнце и снег. Нецензурные речи грачей.
Ну, берёзы да избы.
А в общем, пустое пространство.
1994
«Это место – какой-нибудь северный порт…»
Это место – какой-нибудь северный порт,
замечательный тем, что туда – прибывают
и что там даже злые собаки не лают,
потому что за всех отдувается норд;
где прибой безразмерную тянет губу,
хотя мог бы легко дотянуться руками
до скалы, где старик, восседая на камне,
не спеша починяет и чистит трубу.
Там гуляет матросик, заведомо пьян
со вчерашнего и на сегодня затарен.
У причала гниёт «Академик Опарин» —
Боже мой! Не первичный ли то океан?!
Я к тому, что неплохо клюёт камбала
на первичную (лучше протухлую) каплю…
Разбирая на гнёзда канатную паклю,
белокрылые чайки разводят ла-ла.
И, конечно, сюда не летают грачи,
а когда залетит вопросительный чибис,
на вопросы его, отвратительно лыбясь,
престарелый трубач отвечает: ничьи.
1992—2016
«Оплывают убогие свечи. Кадило – кадит…»
Оплывают убогие свечи. Кадило – кадит.
Если так и пойдёт, я, наверное, руки умою:
что же, Господи, Матерь Твоя на меня не глядит,
а глядит на того, кто стоит у меня за спиною?
Просвети меня, Боже, но там никого ещё нет:
только луч золотой,
только настежь открытые двери
да на паперти две, им, конечно, по тысяче лет —
я сужу по глазам – абсолютно глухие тетери.
Если ж нет никого, то не нужен и круг на полу,
и не нужно покой
выкупать непосильным обетом,
опускаться в купель,
забиваться к Тебе под полу…
Уведите Марию, и больше не будем об этом.
2009
«Время чертит круги. Далеко завело…»
Время чертит круги. Далеко завело.
В белотелой печи полыхает полено.
То ли пух, то ли снег
под окно намело…
Отдохни у огня: там везде – по колено.
Непростая зима раздаёт седину.
Не длиннее и жизнь от обилия трещин…
Потому что ты любишь чужую жену,
обижаешь друзей и, естественно, женщин.
Потому что твой крест – не отличия знак:
мир тебя не корит, да и не сторонится…
Время чертит круги,
а ты этак и так
расставляешь слова и листаешь страницы.
1987
«Мимо тёщина дома без шуток пройду…»
Мимо тёщина дома без шуток пройду,
прикрывая панамой небритую харю,
и – возможно, к обеду – в зелёном пруду
уловлю карася и в сметане зажарю.
И воистину съем. И, добрея лицом,
прихватив сигареты с нетопленой печки,
из избы не спеша перейду на крыльцо,
посижу, покурю на горячем крылечке.
Это лучшая из климатических зон:
даже если чего и пристанет к штиблетам,
то не в нашей деревне. Тут чистый озон.
По ночам и утрам. И особенно летом,
когда бредит закатом убогая тень,
отвлекая меня от досужего чтива,
и, со стоном валясь на горячий плетень,
на июльской жаре умирает крапива,
и высокое небо ей ставит свечу:
ввечеру отпоёт, на рассвете – разбудит.
Отпустите меня! Я сейчас закричу…
Я же вижу, что времени больше не будет.
Отпустите меня, отпустите домой:
я же явно постольку не пью, не киряю,
чтобы так, ни с чего, чтобы… Боже Ты мой!
Улови мою душу! А то я её потеряю.
1994
Черёмуховая гора

«Небесный путь высок и млечен…»
Небесный путь высок и млечен,
а свет – сомнителен и робок.
Ты спишь. Во тьме сияют плечи,
и чуть приподнят подбородок.
И по туманам густотелым,
ступая слышно, смело, грубо,
идёт июль к твоей постели,
подходит и целует в губы.
1980
«Там, над рекой, разлилась по горе…»
Там, над рекой, разлилась по горе
роща огромных и шумных черёмух:
светлая пыль на горячей коре,
мелкие чёрные ягоды в кронах.
Милая сердцу невинная лесть:
за разговорами, так, между прочим,
будем невкусные ягоды есть
и притворимся, что вкусные очень.
1968
«Если вдруг закружится голова…»
Если вдруг закружится голова,
ты возьми меня за руку и держись:
там по пояс крапива, по колено – трава,
по колено трава, и такая жизнь!
Посмотри, как бел на ветвях налив,
как совсем не ладится плач
у плакучих, вообще-то, ив
над рекой возле старых дач.
Там луна – во весь месяц май,
и сияет от зари до зари…
Ты меня, пожалуйста, обнимай.
Ты меня по имени назови.
2007
«Наступила весна на любимую – ёлы! – мозоль…»
Наступила весна на любимую – ёлы! – мозоль.
Обыграть эту тему, пожалуй, достало бы клавиш,
но в четвёртой октаве запала, по-моему, соль;
наступила весна, и уже ничего не исправишь.
Золотая моя, распеваются птахи в кустах:
перелётные эти, похоже, и не улетали,
и я знаю, что будет, естественно, в общих чертах,
потому что апрель до сих пор уточняет детали.
И темнеет земля, как от времени иконостас…
Подбираю слова, междометьями дыры латая:
если с первого взгляда любовь
(или что там у нас?) —
то ли может ещё приключиться, моя золотая!
Нас спасает лишь то,
что мы видим весну без прикрас
и, увы, понимаем,
что и во-вторых, и во-первых —
за душой у весны только слякоть и мокрая грязь,
а из ценного – только
жемчужные бусы на вербах…
1993
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































