Текст книги "Айсберг"
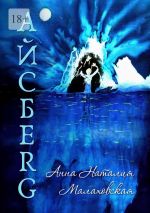
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
10 глава.
Кто-то плачет
Аксинья
Во всём доме тишина, все спят, наверное, а я одна, прислонившись спиной к стене, сижу в углу и смотрю в небо. Теперь я совсем одна! Меня поймали, как мышь, посадили в мышеловку и кусочки сала подносят, думают, что я на них соблазнюсь, а кошка ходит неподалёку, ходит и облизывается, вернее, не кошка, а кот. И чего он от меня добивается, чего он хочет всей своей поганой душой, если душа у него имеется? Вот чего-то про божью благодать порет и в обморок упал, как барышня, значит, сумела я его отогнать от себя и, значит, не совсем беззащитная…
У кого бы спросить совета? И добрая эта старуха или нет, эта – в скрученных под белой косынкой волосах, та, что он ко мне подослал с моим любимым домашним угощением? Говорит, что она из наших краёв, но где это находится теперь, за горизонтом, и в какую сторону идти, если действительно идти, не побояться псов сторожевых, что спущены с цепи и только того и поджидают снаружи, перед домом, кого бы не то что укусить, а в клочки разорвать – и ведь не спят, как раз ночью не спят… а если выбежать днём, среди всех этих дворовых, шумных и скользящих как с гуся вода, пробраться тишком и платок какой-нибудь, лучше всего совсем тёмного цвета, на голову сообразить…
Кто-то плачет. Во всей этой тишине, мягкой на ощупь, под сладкие звуки посапывания моей приближённой, приставленной ко мне старухи, я слышу тихое какое-то рыдание, и выхожу босиком, и останавливаюсь в каком-то зале огромном.
…Страшно! Какое всё вокруг чужое, и жалят меня своими взглядами эти стёкла безмерные, до полу, и кто в них отражается? А, может быть, это – духи какие-то, ведь говорят же, что в таких замках водятся какие-то духи, и они бродят по ночам, и к ним не надо прислушиваться, а от них надо бежать стремглав и по ночам тут не шляться, по этим залам страшным и неживым! И как будто отовсюду что-то острое и злое хочет в меня вонзиться и отомстить, словно я им всем, этим креслам и комодам, чем-то не угодила, и они хотят со мной расправиться по-свойски, как они умеют это делать, хотя на вид кажется, что они – смирные жители своих закоулков. И кто это распластался тут на полу, как в предсмертной судороге? Ногам на нём тепло, а глазам – страшно. Ногам – как по шкуре зверя хожу. А из гладкой тёмной поверхности на стене вдруг глаз какой-то блеснул. И до полу – в белой рубашке до самых пят – вот он и есть – дух! Призрак! Вот они какие, оказывается… И взгляд исподлобья на меня, как будто он меня боится. Убежать! Но ноги сами как вросли в эту шкуру на полу. Чего он от меня хочет, этот призрак в стеклянной оправе?
С мёртвыми не говорят, с покойниками говорить запрещается, но всё же почему у него лицо такое тёмное, и только глаза поблескивают, а волосы на голове…
Вот он руку поднял и волосы свои пощупал: ему мои мысли передались? Про то, что лицо – молчком и не разглядеть, как лицу покойника и полагается быть, а вот эти волосы поблескивают и словно бы седые… поседеешь тут! Как всё это странно пованивает, такой запах, словно… даже не знаю, как сказать, но только что я тут больше оставаться не хочу, а хочу на волю и бежать прочь, без оглядки, и если бы не эти волки жуткие под окном…

Фрагмент картины Анны-Наталии Малаховской
«В айсберге»
…Кто же это плачет? Кого-то загубили, как и меня, кого-то заточили в этот высокий замок, и никуда не убежать… товарищ по несчастью? Такой же, как я, одинокий и отданный на съедение – я не знаю, кому. Тем волкам, что бегают под окнами и притворяются, что они – псы бешеные, а я-то знаю, что эти паны проклятые волков в лесу наловили и посадили их на цепь, а по вечерам с цепи спускают – вернее, не псы и не волки, а так, помесь какая-то, и как они это сотворили, что волков с суками переженили, что ли, чтоб вот эти бестии получились, а они бегают под окном и только того и поджидают, кто высунется наружу и попробует сбежать.
Вот они, отсюда их видно, сверху. Я, значит, выпрыгнуть из окна не сумела бы всё равно – слишком высоко, от псов этих только чёрные спины видать.
Кто-то плачет. Так тихо, чтобы не разбудить других, всех спящих в этом дворе, но плачет так, что сердце надрывается. Прохожу на цыпочках и отодвигаю тяжёлую штору. Кто-то плачет, уткнувшись в подушку на высоких и белых, как облака, перинах. Я присаживаюсь на край перины и прикасаюсь. Протягиваю руку – и прикасаюсь, к чему-то или к кому-то. Я не знаю, кто это плакал тут, но теперь замолчал и только всхлипывает – очень горячий. Про такое я знаю, такой брат у меня был, очень горячий как печка, что руку не сунешь, и потом так и помер. Когда такой горячий, то это значит, что скоро помрёт. Оттого, наверное, и плакал.
11 глава.
Чёрная луна
Барчук
На чёрном небе яркий белый круг. Чёрная луна в серебристой оправе.

Фрагмент картины Анны-Наталии Малаховской
«В айсберге»
И от руки, вот здесь, чуть повыше запястья, разливается такое прохладное, как мятное что-то. Нет, не буду смотреть. Лучше не буду подглядывать, как он меня забирает. С земли забирает… вот просто так. Эта прохлада, мятная и живая, втекает в жар моей пустыни раскалённой. И эта пустыня – это я был такой жаркий и нестерпимый, а прохлада течёт так медленно и дорастает до сердца, до почек, до желудка, до позвоночника – и всему во мне становится – легко. Да, легко. А меня пугали, что это так тяжело – умирать… Умирать, оказывается, это так чудесно! Только б его не спугнуть! Ну что это за любопытство в глазах, в одном левом глазу – зачем он заморгал и хочет подглядывать, как ангел будет забирать меня на небо!
Жара ушла. Просто куда-то смылась. Словно на небо, в эту чёрную дыру в серебристой оправе улетела одна только изнурительная жара, а то, что осталось от меня, это всё стало как мятная конфетка, вот оно лежит и протягивает и вторую руку – правую – подержи меня и за правую руку тоже, чтоб и в ней растворилось это… что-то замкнутое, как на замок.
И снова это мягкое прикосновение – и справа теперь тоже, то же самое втекание начинается: холода, а не тепла, целящей прохлады. Пусть теперь так будет всегда! Забирай меня уж совсем, я не хочу тут, на земле, обитаться. У тебя есть для меня место получше – возьми меня на небо! Мне нечего больше делать на земле – меня тут никто не любит, и я никого не люблю по-настоящему. Я не умею любить, не научился. Что это значит – любить? А захапать себе, так я думал – и не хочу больше думать. Хочу только лететь в этом синем пространстве, это небо теперь покрылось синей корочкой льда, и в нём так хорошо – перемещаться. Унеси меня отсюда, внеси в небо, пусть не всего целиком, я понимаю, что всего тебе не поднять, я тяжёлый для твоих лёгких… рук? Почему-то мне показалось, что у тебя не крылья, а руки. И я открыл глаза.
Умирания не произошло. И этот ангел – оказалось, это был не ангел. И откуда чёрная луна? Это не луна была вовсе, а чёрный силуэт в оправе светлого контура.

Фрагмент картины Анны-Наталии Малаховской
«Видение в поезде»
Это луна просто светила за головой у кого-то. Так, значит, умирания не выйдет, и вся эта тяжёлая жизнь – пребывание на земле – протянется неизвестно насколько…
Разочарование уронило меня, притянуло к подушке. Значит, дальше тянуть эту лямку. А зачем мне жизнь? В жизни всё больно и несправедливо. Справедливо только на небесах, где я будто бы побывал вот сейчас. И не хочу сюда возвращаться, хочу это пребывание там продлить – хоть ненадолго!
– Не убирай своих рук!
Да, это были настоящие руки, и можно провести и почувствовать, что это – да, и с пальцами, и с локтями, и никаких на них перьев – не ощущается. Меня никто не щекотал никакими перьями, меня только за руку держали обыкновенными человеческими руками!
И оно встало – попыталось было встать. И что – уйти? Да как же так! Я притянул его назад и в подушку погрузил это нечто, это я не знаю, кто оно или что оно, но я его не отпущу! И оно не вырывается – оно, то, что сыграло роль ангела, на небо меня забирающего в эту ночь. У него человеческий запах и всё в нём нежное и живое – не смертельное и не ослепляющее. И теперь ощущение мятной прохлады разливается уже действительно – по всему. И там, где ноги прикасаются к этим сладостным, как будто шёлковым ногам, там и ноги тоже становятся прохладными и живыми. Мятными. И вот теперь – уносит. Это мне только показалось, что это не ангел или что ангел должен быть другим, холодным до дна. Ангел может таким и быть, как человек и с человеческим добрым запахом, и уносит – оно меня, что-то, словно подхватило и уносит, теперь уносит на самом деле, а куда уносит, того не хочу знать, а хочу теперь просто – исчезнуть. Совсем. Навсегда.
12 глава.
Как мой маленький братик
Аксинья
Когда кто-то плачет так тихо-тихо, как плакал мой маленький братик, который никогда не стал большим, у меня сразу… во мне что-то сжимается, как в кулачок, и хочется его пожалеть и прижать к сердцу. Ведь он был такой маленький и спокойный, и только смотрел на всех ясными глазами, и никому не хотел помешать. А заплакал только разок, когда заболел так тяжело, и тут уж мы все вместе плакали, а вылечить его не смогли. И поэтому как только такой тихий и нежный, а не грубый и не нахальный, как у некоторых других ребятишек, даже как только я этот голосок как из пустыни прошлого заслышу, я становлюсь сама не своя. Ведь я всё со своим Лёшенькой делала, и на руках его таскала и следила, чтоб не залез куда не надо, и не упал, не разбился. И кормила его из ложечки, когда матушка от груди отняла, и купала, и на повозочке такой возила, на двух колёсиках – всё я сама, а сколько мне тогда было – а может быть, и пяти ещё не исполнилось, а я как заслышу тихое как бы чириканье, что вот сейчас расплачется, как сразу – схватить и к груди прижать. И он тут же умолкал и поднимал ко мне головку, и какие глаза у него были – светлые и как будто всё понимающие: что не надолго к нам залетел, но уж то время, что нам вместе отпущено, хочет сделать как можно приятнее и таким, чтоб его не забыли потом. После… И не выходили мы его, вот такая печаль! И поэтому как только хоть вдали такой плач, тихонький такой, и чтоб никого не обидеть, заслышу, всё во мне встрепенётся, и как за верёвочку меня потянут – схватить и прижать к сердцу. И кажется всегда, что только совсем хороший человек может так тихо плакать, так тихо-тихо, чтоб никому не помешать.
И поэтому, когда разглядела я под утро, кого такого решила пожалеть и кто это среди ночи так тихо плакал, я только выбралась из-под той его перины и босиком отправилась в ту комнатушку, что была в том замке – как бы во дворце – отведена мне, и перешагнула через старуху, почивавшую у дверей, у самого входа, и забралась в свой угол, и попыталась было подумать, но думать не вышло, потому что тут же, не успела я закрыться своими одеялами, прокричал петух и поднялся шум и обычная возня – там, за дверью.
А как там мой… не знаю, как назвать его – братишка? И хотя не маленький теперь, а ведь жалко… и его тоже жалко, его, горящего адским пламенем, и нет ли и на мне от его кожи ожогов, и не заразил ли он и меня этой болезнью? И что-то бормотал ведь про ангелов каких-то, что это я будто ангел. А я ещё не ангел, слава богу, ещё не ангел, но надолго ли это продлится, что ещё проживу и не увижу своей родимой матушки? Значит, он думает, что к нему ночью ангел приходил и хотел его на небо забрать. Но что же тут плакать, на небе ведь так хорошо, и ни о чём не придётся горевать. О чём же он там тогда так горько плакал и так нежно произносил какое-то слово, мне совсем непонятное, потому что не ко мне обращался и не на моём языке говорил, а обращался к ангелу, и ангелы всё понимают, на любом языке.
Он плакал о чём-то другом… о своей загубленной душе, наверно, плакал, что загубил, меня оторвав от матушки, и что теперь не простит его Господь. И не позволит его душе, как всем хорошим людям, туда пойти после смерти, где хорошо настанет. А туда пустит, где адский пламень. Вот поэтому и горел он в адском пламени, и руки и ноги у него были как из печки, недопечённые, ещё горячие, как будто пар от него шёл. Так, он думал, конечно, что уже в аду очутился за свои плохие дела. И как будто… может быть, прокляла я его тогда, когда увозил он меня от моей любимой матушки? Вот не помню… вспомнить бы! Проклинать никого, как я слышала, нельзя, так мне матушка моя говорила и наказывала – никого не проклинай, это на тебе самой, может, скажется, если слово такое страшное вымолвишь – никого не проклинай!
13 глава.
На простыню
Барчук
…Рабам не дело издеваться над господами, и если что-то пролилось на простыню, то их дело это застирать, и промолчать, и поскорей постараться забыть, а не подмигиванием заниматься и нехитрыми ухмылками, и не вопрошать потихоньку от барыни:
– А какой это ангел к тебе приходил? – с грязной с такой противной ухмылкой на морде! Вот не могу эту переднюю часть головы этой потаскухи, этой уборщицы или прачки, уж не знаю в точности, кем она у нас служила, а звали её Манькой, в голубом платочке, – не могу эту часть её головы лицом назвать и даже физиономией или как-нибудь поприличнее, чем мордой или, ещё лучше, харей, и больше никакого слова не придумаю, а когда она это сказала, так меня прямо на пол вырвало – убирай! И откуда она могла про ангела моего узнать? Неужто под дверью подслушивала, когда я исповедовался перед смертью, так сказать, тогда я думал, что это ангел за мной приходил, чтобы на небо – в эту добрую темноту, и мимо звёзд, и ни одна звезда не укусит и не ущипнёт, и так лететь – туда, внутрь, и там поджидал меня ангел прекрасный, но без лица. По крайней мере я сам его лица не разглядел в темноте, а только руки шелковистые и как мята прохладные и ноги тоже – шелковистые. Как ледышки твёрдые. Вот такие ангелы бывают на самом деле, а вы если не встречались, если не удостоились, так сказать, такой великой чести, так и молчите. Так и заткнитесь, так сказать. Так ведь можно сказать? Кто не видел ангелов живых, тот молчи и не спорь со мной, что ангелы на самом деле совсем другие, чем вы себе навоображали! И крыльев никаких не заметил. Никакой щекотки от перьев этих шипучих, как полагается будто, но, может быть, крылья и были где-нибудь за спиной, и только я их не заметил, не прощупал, мне было так хорошо улетать, даже если без крыльев, и хочу – только туда. Опять. Умереть, и чтоб теперь уж по-настоящему. Чтоб никаких Манек вонючих и грязных простыней, никаких врачей с их склянками и жёсткими руками. Мне не нравится тут лежать, вот честное слово, умирать – это самое прекрасное, что мне довелось пережить до сих пор, если не считать… того самого первого… с чего всё это началось, того видения, и ксёндз говорит, что это было видение и что это было… нехорошо. Божью благодать так просто не словить. Что, может быть, потому я и заболел, что захотел эту благодать Божию, вот тогда промелькнувшую, себе присвоить. Вот потому и ангел приходил, а может быть, это был и вовсе не ангел? Так он сказал. Но он надо мной не смеялся. И он мне не раб. И не подчинённый. Он, может быть, один только и посоветует правильно.
– Может быть, это был вовсе и не ангел?
И что я слишком уж возвышенно о себе самом думаю, если предполагаю, что некий ангел ко мне мог бы слететь, явиться, так сказать, собственной персоной. Так не бывает почти никогда. А если и бывает, то для каких-нибудь особо отличившихся героическими делами или мученичеством. А я не мученик, и не герой, и тем более уж не святой, и поэтому, чтоб ко мне ангел мог заявиться, это сомнительно – и более чем сомнительно. А в бреду и в лихорадке и не то померещиться может, и вполне, а когда температура подскакивает, то что-то там в мозгу, в том месте, которым мы можем воспринимать, разрушается, или растворяется, или, более того, смывается совсем, и смотри, как бы тебе и дураком вовсе не стать – не опозориться такими видениями дурацкими, и будут рабы повторять и передавать из уст в уста теперь уж на самом деле:
– А барин-то у нас – дурак! От лихорадки этой совсем спятил!
14 глава.
Барчук помирает
Аксинья
Как доктор в двери проходил, это я заметила. И круглое что-то, блестящее, у него на лбу. Какое-то зеркальце, может быть. И что барин-то молодой, стало быть, помирает теперь. И ксёндза позвали, тоже пришёл, весь чёрный. В чёрном проскользнул – сначала врач в двери, а за ним ксёндз этот, так он называется, и будто бы он от Бога – как-то с Богом связан, и надо говорить ему всю правду, и это называется – исповедоваться, и надо ему всю правду сказать, и тогда Бог отпустит ему все грехи и пустит тогда – ну не в геенну огненную, а в какое-нибудь место попрохладнее. Так я подумала тогда и успокоилась насчёт того, что, может быть, я сама его проклинала и это проклятие так подействовало – что я такой грех на душу свою взяла. И пусть бы он умер спокойно, а меня тогда отпустят – может быть, вернут к моей родимой матушке.
15 глава.
Где ты, мой ангел?
Барчук
Ещё пока совещались – там, за дверьми дубовыми – к похоронам ли готовиться? И тут отец мой появился, откуда-то приехал, и вошёл, и посмотрел, чтоб показать, что ему не совсем всё равно, что сын его отправляется на тот свет. Этот отец, этот человек, этот мужчина средних лет и с чёрными усами – он мне совсем не нравился. И вот теперь я могу говорить вполне свободно, и не стесняясь, и ничего не заметая под ковёр – он мне не нравился и никогда. И с самого раннего детства никогда со мной не играл, и в воздух не подкидывал, никогда не говорил мне добрых слов, и вообще никаких слов не говорил, а только посмотрит, что у него есть-таки сын, наследник поместья и всё такое, и уходит. А теперь – что не будет у него сына, наследника поместья, и всё такое, и что надо, придётся, по-видимому, придётся заводить нового, и не стара ли для таких дел, сгодится ли ещё для такого труда его законная жена, или пригласить незаконных, – вот такие мысли мелькнули у него в голове тогда, и с бакенбардами и в форме такой офицерской проскользнул он передо мной, и я подумал тогда снова, до чего же я одинок, и что ему абсолютно вот до нуля до меня, как до лампочки, и что никаких у него чувств отцовских, о которых говорится в Библии, нет и не бывало, и песком засыпано то место, где когда-нибудь могли бы вырасти хоть какие-нибудь чувства. Наследник ему был нужен для чего-то другого. Примерно для того же самого, для чего моей матери нужно было серьги драгоценные в ушах таскать. А до меня, до самого настоящего, ему вот просто как трын-трава – никакого дела! И как я могу его любить, например? Или ценить и почитать, как в церкви говорят, как вот этот ксёндз сказал сегодня: «Почитай своих родителей»? За что их почитать? За глупость? За то, что мать мне ни в чём не отказывает и даже вот такую игрушку непридуманную на именины не поскупилась – купила?
И это вот странно, конечно, что так по матери своей можно убиваться! И что это за «верни меня к моей любимой матушке»? Если бы меня, например, увезли отсюда, то стала бы моя родная матушка, так сказать, таким образом свои руки заламывать и моё имя в пространство выносить на всеобщее обозрение: мол, смотрите, какое сокровище от меня отнимают? Да вряд ли, и не поверю, и представить не могу, хотя что-то у меня там, в мозгу, расплавляется как будто, а представить не могу, как она стала бы кричать и моё имя на потеху по всему пространству разбазаривать. А я бы сам уж точно не плакал! Что бы я сделал, если бы эта девчонка была в шелках и в золоте, а я – босоногий, и она бы меня за бесценок приобрела, так сказать? Вот если перевернуть ситуацию – покупка совершилась. Вот так представить себе, что во мне самом могло бы промелькнуть что-то такое, как этот взрыв молнии или сияние звёзд, ну, в общем, отблеск божьей благодати, и что тогда? В свою карету она меня бы заточила, в своём замке жить повелела бы – неужели и я запросился бы на свободу? К мамке? Нет, никак не представить!
Вот переворачиваю – и смысла во всей этой картинке не нахожу. Словно недостаточно расплавились у меня мозги в голове, и ангел сегодня точно не придёт, сегодня мать моя собственной персоной вызвалась ночевать возле меня, возле моего ложа, чтоб уж никакие ангелы моего выздоровления, может быть, не потревожили.
И чтобы шторой закрыть окно! Тяжёлой, непробиваемой, что не пропустит свет луны!
Где ты, мой ангел? Я теперь понимаю, что наконец-то я полюбил кого-то, и пусть у него нет совсем никакого лица, но вот – люблю… как будто вот тянет меня снова и снова, и зря они шторой окно завешивают, и зря луну от меня заслоняют, а как мне от них выкрутиться? Если ночь-то придёт, а мне умирать, вот снова, – но так хорошо – нет, так прекрасно, как вчера, уже не получится?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































