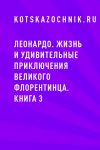Текст книги "Товарищ хирург"

Автор книги: Анна Пушкарева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава 8
Образование Платон получил блестящее. Мать старалась на все лады, чтобы у Платона было всë, что нужно для учёбы, чтобы он был более-менее одет и чтобы имел возможность встретиться с нужными людьми. У медиков, которые грезили не своим призванием, а тем, чтобы врачей поскорее освободили от постыдного гнета самодержавия, было много вольнодумных друзей, как и у Хрусталёвой Евдокии Ильиничны. Вот так, по незримым ниточкам, протянувшимся во мраке человеческих отношений, они и находили друг друга…
Но, как бы там ни было, подспудно платил за всю роскошь размещения в Петербурге, за пальто последнего фасона, за книги и пропитание крестьянин Хрусталёв, которого семья в буквальном смысле слова бросила в отдалённой нижегородской деревеньке рыть зубами землю. Как только Платон поступил на учёбу, отец посеял в два раза больше пшеницы и просчитал, что нужно будет на порядок увеличивать поголовье скота. Сделал он это тихо и как-то безнадёжно, скрепя зубами, напрягая и без того натянутые до предела жилы.
Мыслями Платон был далёк от всех этих проблем, – как, наверное, любой молодой человек, у которого, к тому же, за плечами стояла столь любящая матушка. Он витал высоко в своих честолюбивых помыслах, упрямо двигаясь к поставленной цели. И учился, надо сказать, исправно, прилежно; как подобает всякому хорошему студенту, не спал ночами, читал, впитывал, анализировал. Когда положено, ходил и в химическую лабораторию, и на вскрытие. Юноша дышал всей высотой своего будущего призвания, но, как-то постепенно, сам того не осознавая, он начал уклоняться от педиатрии в иную сторону.
Во-первых, ему встретился прекрасный наставник-хирург. Во-вторых, Платон вдруг почувствовал, что ему ближе и как-то роднее что ли делать вскрытия, – он не боялся. С улыбкой он вспоминал, как отец таскал его, запуганного, дрожащего, в полуобморочном состоянии, на скотобойню. Как жалко ему было тогда коровок с мягкими бархатистыми ноздрями и даже хряков с их непростым характером и обречёнными дикими глазками. Отцовская школа мужественности неожиданно дала невероятный плод смелости, которая граничила с бесстрашием, с абсолютной хладнокровностью…
И потом, в петербургском обществе то и дело вспыхивали слухи о грядущей войне. Платон был абсолютно аполитичен, ему было ровным счётом наплевать, кто у власти или кто хочет туда прорваться; его мозг вмещал только законы естествознания. Он бессознательно наслаждался плодами той последней стабильности, которую его стране ещё давало самодержавие.
Подобно Платону, внутренне отвергавшему отца, но сосавшему из того своё пропитание, вольнодумцы, вершители будущего хаоса, как орлы, питались печенью Прометея-самодержца.
Платон знал лишь одно: если война и впрямь начнётся, то стране будет уже не до педиатров. Нужны будут полевые хирурги, которые смогут резать и шить плоть, извлекать пули, ампутировать гангрены, – одним словом, спасать жизни в условиях и масштабах, несоизмеримых с педиатрией. Занятие более чем достойное для амбициозного молодого человека.
Платон не успел кончить учёбу, когда началась война, – поэтому его мобилизовали прямо с четвёртого курса в звании зауряд-врача. Тогда ему на плечи впервые легли погоны. Платона охватило в тот момент какое-то особенное чувство – чувство полного самоотвержения. Это было сродни его первому боевому крещению на поприще врачевания.
Казалось, он перестал принадлежать себе, Хрусталёву Платону Тимофеевичу, – но стал вдруг принадлежать всему человечеству в целом, – и начал духовно готовиться к этой нелёгкой и важной службе. Ношение погон, которые к тому же внешне походили на капитанские, добавляло ему определённого весу в военной среде. Платон даже почувствовал, что как будто стал более собран, серьёзен и бесстрашен.
Посмотреть на погоны вдруг явился отец. Приехал вместе с матерью в своей старой кибитке, давно вышедшей из моды, на которую в Петербурге смотрели с нескончаемой жалостью. Посмотрел и тут же отвёл похитревший глаз, зажимая довольную улыбку. Достал из-за пазухи фляжку.
– Ну, где тут твои мензурки? – распорядился он.
Водка жёстко обожгла Платону нутро, но отказаться выпить с отцом он не решился. Наверное, это был обязательный ритуал, в котором он должен был принять участие. Отец не сделал ему никаких наставлений, кроме короткого:
– Ну, не посрами теперь отца! – и ушёл ждать мать обратно в кибитку.
А Платон с матерью, по её настоянию, ещё сходили в фотоателье, сделать памятный снимок, где сын, – уже такой взрослый, – стоял в военном облачении с высоко поднятой головой.
Мать не плакала, держалась спокойно, как обычно, и её настроение передавалось сыну. Платон действительно не боялся уйти на фронт; страха за свою жизнь в нём не было. Может быть, именно поэтому судьба впоследствии хранила его и, более того, вознесла на вершину хирургической карьеры.
Он был из тех хирургов, которые оперировали при артобстрелах и наступлении вражеской армии. Сам был контужен, но, на свой страх и риск, толком не долечившись, снова приступил к операционному столу. Платон верил, что в операционных во время операций совершается какое-то священнодействие, которое никакой, даже самый кровожадный человек, не посягнёт нарушить. Эта вера помогала ему в моменты операций отрешиться от остального мира, от всего земного, – и делать своё дело без оглядки на разрывающиеся за плечами бомбы и фугасы.
Платон плакал. Ведь он был ещё совсем юным. Плакал от усталости, напряжения, от того, что не мог спасти кого-то. В минуты своего бессилия он призывал: «Бог, если ты есть, спаси такого-то и такого-то». И люди каким-то таинственным образом оставались живы, шли на поправку. Окружение Платона Тимофеевича же видело в этом исключительно заслугу прекрасного врача.
При всех он был кремень, а плакал только в непродолжительные часы отдыха, беззвучно, с головой накрывшись шинелью, – чтобы никто не увидел. Закономерным результатом его трудов стал святой Георгий, которого Платону навесили на грудь в самом начале 17-го года…
Глава 9
– Такие времена наступают, что теперь каждый сам будет выбирать, по какой правде ему жить!
– Так если каждый будет для себя выбирать правду, что же это получится? Разве не наступит хаос? Ведь не может же быть тысячи, миллиона разных правд…
– Отчего же не может?
– Не знаю, мне всегда представлялось, что над всяким человеком должно быть некое правило, которому он должен подчиняться. Вот, к примеру, явиться всем на работу к 8 часам. Если каждый станет выбирать, к какому часу прийти, невозможно станет работать.
– Это не правило, это – распорядок, режим, Платоша. А я говорю о моральном правиле: не хочешь ты землю копать, а хочешь доктором быть, – разве не преступно тебя склонять к первому? У тебя течение мысли другое! У тебя наклонность в противоположную сторону. Или проще: тебе твердят, не смотри на чужую жену. А если она красивая? Что плохого на красоту-то полюбоваться? Красота для того и создана, для услады человеческих глаз!
Или вот ещё: не лги. А почему я не могу лгать? Бывает же ложь во благо; бывает, что ложью можно жизнь спасти целому человеку! Что с такой ложью предлагаешь сделать? Нет, весь этот древний свод законов подлежит пересмотру. Сейчас новые люди народились, другие, у них, не удивлюсь, все строение внутреннее другое, иной механизм! Они напишут новые законы, вот увидишь, и главный из них: нет никакого закона, каждый человек сам судить будет.
– Ну, не загибай, – усмехнулся Платон. – Строение у всех, к счастью, одинаковое. Иначе как бы мы, врачи, могли лечить людей, ежели у всех внутри были разные механизмы?!
– Это я образно сказал, Платоша! А ты как будто не понял!
Платон таинственно улыбнулся. Не первый раз дружок его Прохор прибегал к нему клянчить деньги «на революцию» и неизменно получал отказ. Как только тот понимал, что не расколется Платон, – для своей потехи, начинал развязано чесать языком по получасу, а, бывало, и дольше.
У Прохора, насколько знал Платон, и занятия никакого не было постоянного: так, шлялся по заводам, что-то растолковывал рабочим, только отвлекал от работы. Всем, что Прохор знал по части наук, обязан он был церковно-приходский школе, где не доучился, потому что попался ему «Капитал» Маркса, – и после этого как-то вкривь и вкось всë пошло у молодого человека.
Что-то ссуживать на славное дело революции Платон не мог: дела теперь шли такие, что многие врачи месяцами работали без жалования. Обещали, конечно, всë наладить в самом коротком времени, но до налаживания было ещё далеко, всë как-то в одночасье порушилось, работало с перебоями на последнем издыхании. На бывших царских харчах, если можно так сказать. Страна кипела, побиваемая разношёрстными кулаками то с одной, то с другой стороны, а разве можно спокойно жить, постоянно терпя побои?
– Я тружусь даром. Откуда у меня деньги? – парировал Платон.
– У тебя ж, вроде, крестик есть?
– Так то ж царский крестик – кто меня теперь за него побалует?
– Эх, твоя правда! – С этими словами Прохор вскочил на ноги и прошёлся по кабинету, рассматривая ряды колб и банок с заспиртованными в них кусочками плоти. – Вот который раз уже к тебе наведываюсь, всегда диву даюсь, как ты можешь спокойно тут сидеть с этими кусочками мяса…
– Я – врач, привык.
– Приду к тебе, если вдруг жрать станет нечего! – сказал Прохор и гоготнул так, как будто изрёк что-то оригинальное. Ни одна черточка не дрогнула на лице Платона.
Прохор изменился в лице, как будто устыдившись. Потом снова подошёл к столу, за которым Платон, не теряя времени, заполнял медицинские карты своих пациентов.
– А кого ты теперь оперируешь, товарищ хирург? Белые попадаются?
– Грибы?
Прохор расхохотался.
– Вот люблю я с тобой разговаривать, Платон Тимофеевич! Всегда ты меня насмешишь! Острый у тебя ум, Платоша. А язык ещё острее.
– Прости, если обидел. У меня пациенты раздетые лежат и чаще без сознания. Как тут разберёшь, кто белый, а кто – красный?
– Не скажи! Я белого сразу отличу. У белого – знаешь, кость белая…
– А как ты кость-то увидишь?
– Да хоть в зубы ему посмотри! Все на подбор, словно жемчуг. И, знаешь, ещё что? Складочки у белого нет, вот тут, между губой и носом. У нашего-то брата, морщинами всë лицо изрыто, от пота, работы, вечного негодования. Кстати, у тебя этой складочки тоже нет…
В ту секунду Платон вспомнил мать: и впрямь, у неё всë было жемчужное: и зубы, и глаза, – и складочек никаких не было на идеально ровном лице. От лишних объяснений Платона спасла Аглая, которая вошла в кабинет, предварительно деликатно постучав.
Черемизова Аглая Афанасьевна, без шуток, была буквально создана для роли медсестры. Обладая природной аккуратностью, она не могла не заботиться о людях. Просто преступно было бы не допустить её к этому! Даже валясь с ног от усталости, она исполняла свои обязанности безукоризненно, – хотя бы из чувства дотошности, которое ею руководило. Она зависела от порядка во всём! Облик её из дня в день поражал своей педантичностью: накрахмаленная, ослепительно белая, идеально убранные под шапочку тёмные волосы на прямой пробор, запах… От неё приятно пахло чистотой и лекарствами.
Она принесла свежие медицинские карты. Постояла напротив Платона с минуту, взглядом спрашивая, нужна ли помощь. Платон еле заметно отмахнулся, улыбаясь. Аглая вышла, провожаемая заинтересованным взглядом Прохора.
– Хорошааааа… – протянул он, когда за Аглаей закрылась дверь. – Скажи, Платон Тимофеевич, а ты никогда не пользовался своим, так сказать, положением врача, чтобы посмотреть на женщин нагишом?
– Нет, – признался Платон. – Ко мне попадают люди с болью. Знаешь, слово «пациент» очень похоже на слово «пасьянс», а это означает «терпение». Люди терпят страшную боль, стыдно в этот момент думать о своих инстинктах.
– Пасьянс! – снова прыснул со смеху Прохор. – Ну ты даёшь, белая кость!
Платон снова почувствовал волнение и усталость, накопившуюся за несколько последних месяцев. Как-то вдруг стало совсем небезопасно говорить то, что думаешь, что у тебя на душе. Видишь в человеке друга, говоришь с ним открыто и искренне, даже не подозревая, что в голове у того совершается двойная работа. Сказанное тобою перекручивается в маленьких шестерёнках, словно отпечатывая с плёнки негатив. Везде ищется подтекст, а когда его нет – выдумывается. Этак скоро и рта нельзя будет раскрыть ни на улице, ни даже в собственном кабинете.
Платон не нашёлся, что ответить; его навык защиты в словесных перепалках, благодаря отцу, был слабо сформирован. Ему с пелёнок внушали слушаться, поэтому выступать он не привык. Он скорее обманул бы, чем вступил в открытый спор. И Прохор, казалось, чувствовал это и наслаждался своим внезапно укрепившимся влиянием. Можно было возвращаться к первоначальной теме, от которой Платон так искусно сбежал.
Прохор смахнул с лица всю смешливость, и такая обычная у него маска шута пластично превратилась в серьёзную личину философа. Он вгляделся в Платона пронзительно, и вкрадчиво промолвил:
– Послушай, Платон Тимофеевич, а ты никогда не чувствовал себя всесильным? Не возникало в тебе такого помысла? Ведь такие дела творишь: самого человека, – сам «венец творения», – режешь, перекраиваешь, штопаешь. И вот он – как новенький! В твоих руках – страшная власть, Платон Тимофеевич, а в голове – такой кладезь знаний, что все эти пролетарии, недоучки, горланящие на площадях, и мизинца твоего не стоят! И, поболе того, – я как подумаю, так во мне даже какой-то необъяснимый восторг поднимается: ты же, это, и убить, можешь, коли кто тебе не по нраву, а потом сказать: «Что поделаешь, не выжил», а? И никто ведь тебя не засудит! Ты же врач – святая профессия!
– Ты что такое говоришь, Прохор?! Я клятву давал!
– Ну всë-всë, не кипятись ты так! Я просто поразмышлял вслух… Ну, бывай!
С этими словами Прохор вышел, оставив Платона в непонятном состоянии. В Платоне смешались обида, смятение, даже ярость, что кто-то посягнул на самое важное, что всегда составляло духовную основу, костяк его души. И в то же время задел за потаённое, зацепил, сковырнул своим грязным ногтём оболочку, под которой надёжно, до поры до времени, скрываются честолюбивые помыслы, о которых мы даже не подозреваем. Что-то похожее на гнойную жижу по маленькой капельке, неслышно, засочилось прямо в душу Платону, хотя через полчаса, как ему казалось, он уже обрёл прежнее самообладание.
Глава 10
В последнее время в госпитале стало непривычно много ряс и блестящего облачения священников.
Платон узнавал от коллег и сопровождавших родственников, что все это были люди уважаемые, снискавшие добрую славу среди прихожан, – и не понимал, почему этих людей приносят на носилках кого с пробитой головой, кого – с прострелянной грудью.
Новая метла по-новому метёт, и новой власти, конечно, нужно укрепиться, установив новые порядки, но кому помешали священники, в большинстве своём люди тихие? А монахи, которые далеки от политики и вообще всего земного? Создавалось впечатление, что на этих невинных людей объявлена настоящая негласная охота, и кто будет охотиться активнее, заслужит особую милость новых царей.
Платону было жаль этих людей, и он не понимал такой иррациональной ненависти. Он помнил, что и во время войны на полях сражений было много священников: они, хоть и не участвовали в боях, неотлучно были с солдатами: оперировали, выхаживали раненых, утешали безнадёжных, отпевали убитых, не бежали от самой тяжёлой работы. В часы затишья не было для них отдыха: нужно сделать обход среди солдат, ободрить дух, исповедовать. Платон смотрел на это с глухою душой, по незнанию: ну, делают, – значит, так надо. Безропотные и трудоохотливые, они невольно внушали уважение, и уж тем более Платон никогда не увидел от них ничего дурного.
Между тем, даже со скотом на скотобойне обходились человечнее, чем с этими людьми, которые стекались в госпиталь изуродованными, со следами жестоких побоев и издевательств на своих бедных телах. Многие из них тихо отходили в мир иной ещё в пути, и привозили их постольку, поскольку не знали, куда надобно везти…
А от тех, что были ещё живы, ни разу не услышал Платон ни стонов, ни проклятий в адрес своих истязателей. Даже тяжелораненые, они умирали в каким-то невероятно трезвом и спокойном расположении духа.
Зато люди вокруг них плакали, заламывая себе руки. Никогда не видел Платон большей скорби, чем здесь, в палатах, над умирающими священниками. Приходили не только домашние, приходили и молили пропустить их какие-то совершенно незнакомые люди. Они плакали искренне, от души, осознавая, что безвозвратно теряют что-то очень дорогое и невосполнимое.
Однажды вошел к нему в кабинет Пётр Петрович Скипетров, – в таком состоянии, в каком Платон видел его впервые: запыхавшийся, грудная клетка нервно бьётся под белой материей халата, волосы растрёпаны.
– Платон Тимофеевич, помоги!
Пётр и сам был хорошим хирургом, и Платон недоумевал, зачем понадобилась его помощь. Но встал и пошёл, без лишних расспросов.
– Что случилось? – спросил Платон, когда они быстро зашагами по гулким больничным коридорам.
– Там… мой отец… – задохнулся Пётр то ли от быстрой ходьбы, то ли от стоявшего в горле кома. Беглым взглядом окинув коллегу, Платон заметил, как глаза Петра увлажнились, словно у мальчишки, бессильного противостоять серьёзному горю. – В него стрелял какой-то комиссар. Почему, из-за чего, ума не приложу! Пуля раздробила челюсть и застряла в горле. Он очень плох…
Пётр задохнулся ещё раз, после чего уже не нашёл в себе сил давать объяснения. Платон понял, что его позвали потому, что нужно было что-то сделать, как-то отвлечься от собственного неминуемого горя. В таком положении, – когда страшной смертью умирает родной человек, – даже самый здравомыслящий из людей вряд ли сохранит самообладание. Разве что тот, которому абсолютно безразлично. «Интересно, – подумал вдруг Платон, – если бы мой отец умирал сейчас с прострелянным лицом, выдавила бы из себя моя душа хоть каплю любви, протеста, боли?» Он не успел ответить самому себе на этот вопрос, – вошли в палату.
У кровати отца Петра сидела, молчаливая и скорбная, его матушка. Крепко сжимая её руку и пристально следя за окровавленным лицом раненого, сидел молодой семинарист. В дверях толпились, переминаясь с ноги на ногу, ещё какие-то люди, близкие к отцу Петру, очевидцы трагедии.
При одном взгляде на отца Петра Платон понял, что тот обречён. Судя по характеру ранения, стреляли в упор, – вместо нижней челюсти зияла одна огромная кровавая дыра, язык был размозжен, зубы вышиблены.
– Батюшка вступился за женщин, прихожанок, перед красноармейцами. Они пришли закрывать Лавру. Сказали, что нужны помещения для какого-то приюта. А владыка им спокойно ответил, что, если нужен приют, то руководство Лавры с радостью откликнется на эту необходимость. Но, видимо, не столько приют интересовал этого Иловайского, комиссара. А его за несколько часов до этого, между прочим, монахи Лавры спасли от народной расправы, – тихо рассказывал кто-то за спиной у Платона. – Потом красноармейцы вернулись, вооружённые до зубов, пулемёты прикатили, – будто кто-то им тут оказал вооруженное сопротивление. Заперли митрополита в келье… Господи, что же это такое делается? Это не люди, – сущие бесы! А отец Пётр был вызван митрополитом по делам и в коридоре столкнулся с красноармейцами. Они вели себя развязано, у них перепалка какая-то случилась с прихожанками. Батюшка подошёл и попросил солдат оставить верующих в покое, а один, с красной звездой во лбу, вдруг выхватил пистолет и выстрелил батюшке прямо в лицо…
Даже изуродованным, отцом Петром невозможно было не любоваться. Он лежал, огромный и могучий, словно гора, у подножия которой толпились люди. Все они искали одного – хотя бы прикоснуться к этой каменной глыбе, получив через это прикосновение долгожданную прохладу для своего воспалённого мозга. Мир, в котором они жили, сходил с ума, а возле батюшки сразу становилось спокойно, надёжно и тепло. Платон и сам ощутил на себе волшебное действие благодати, хотя и не понял, почему ему вдруг стало так хорошо.
Вечером того же дня, несмотря на все старания врачей, батюшки Петра не стало. Засвидетельствовав смерть, Платон, удручённый и вымотанный, вернулся в свой кабинет и, сев за стол, попытался занять себя чем-то. Дела, как назло, были поголовно окончены, а домой возвращаться не хотелось.
Платон принялся обдумывать прошедший день. И всë-таки зачем они убивают священников? Неужели чувствуют в них для себя какую-то опасность? Даже смешно! Платон памятью вернулся в то время, когда сам хотел пойти в храм, увлекаемый мыслью, что там он найдёт пищу для ума, а, возможно, что-то и для души. Но его отец был индифферентен, а мать – слишком прогрессивной, и желание ребёнка сначала отодвинулось на второй план, а потом и вовсе стерлось из списка его потребностей. И так, он знал, происходило во многих семьях, где подрастали его сверстники. И небо не разверзлось над головами, и никого не поразило молнией.
По мнению Платона, не было поистине веских причин, чтобы ненавидеть священников, а тем более истреблять их. Он не понимал, какая такая опасность таится в этих скромных, никому не навязывающихся людях, закутанных в полинялые чёрные рясы. А так бесконтрольно ненавидеть и бояться можно только поистине сильного врага, угрожающего твоему собственному существованию.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?