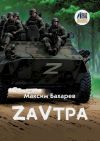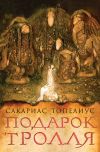Текст книги "Нежный человек"

Автор книги: Антон Бахарев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Антон Бахарев
Нежный человек
© Бахарев А., 2019
© Оформление. ООО "Издательство "Эксмо", 2019
“Лето: ничего личного…“
Лето: ничего личного —
Лето перенасыщено
Шумными листьями, тыщами
Истин различных.
Осень: ничего лишнего —
Единоличная истина,
Осень почти божественна —
Но беспомощна.
Мысли зимы болезненны,
Меланхоличные истины
В теле очеловечены —
И беспочвенны.
А по весне бессмысленны
И обезличены истины,
Почва – очеловечена.
В мире ничего вечного.
Про велик
Помню, было мне семь лет,
Мама
Подарила велик мне,
«Каму»,
В масле весь и со звонком —
Что ты! —
Новый велик у меня, с катафотом!
И я стал среди больших —
Равным!
И мужские на локтях
Травмы —
Всем на зависть пацанам
Прочим…
Я на велике с утра и до ночи!
Говорил я: «нипеля»,
«Цепка»,
И трещала в колесе
Щепка,
Прямо в ванной мыл его,
Дома,
Мазал велик каждый день солидолом.
Что мне «Школьник» и «Урал»
(Рама!) —
Лучше в мире не найти
«Камы»!
На четвертый свой этаж
Велик
На руках таскал я сам, еле-еле!
…Но однажды, среди дня
Прямо,
Кто-то взял – обворовал
«Каму».
Как хватило у него
Духу?
Все барашки открутил и сидуху.
Как я плакал-горевал,
Бедный…
С той поры прошло лет сто,
Верно.
Нету велика. Жена.
Скука.
До сих пор ведь не простил я ту суку.
“Уходя по гонобобель…”
Уходя по гонобобель
с небольшим, на час, лукошком —
заверни в клеёнку карту,
соль возьми, котёл и спички;
крепко-накрепко избу запри —
и каждое окошко
закрести, заговори —
как будто к чёрту на кулички
ты уходишь на полжизни;
кто расскажет, где придётся
шастать – ёрзая душою,
заражённой звёздным зудом,
по планете; с кем приспичит
коротать солёным пудом
нескончаемые зимы;
и когда идти – на вёслах,
на ходулях, под сурдинку,
по башкам, на вы, на помощь;
поперёк земной орбиты,
перепутав полдень, полночь;
по пещерам и сквозь грозы,
по пустыне и на льдине…
Уходя по гонобобель,
не забудь о карабине.
Гроза
Воздух вспух – и ринулся вон;
лес, разноголовьем косматым
шевеля, рванину ворон
в пламенные угли заката
сбросил; и наполнился ветер
шумом и сверканием листьев,
вперемешку; и в пересвисте
проводов рассыпался веер
искр; и над неистовым лесом,
где клубилась грозная сила,
вдруг свилась и книзу, отвесно,
треснула слепящая жила;
И… Прошло! Прошло стороной!
Лишь ошеломлённые избы
прошептали: «Боже ты мой…» —
и глядят с немой укоризной.
“…И там, где нет ноге моей”
…И там, где нет ноге моей
земли почувствовать опору
пустого места, и то в гору
уводят россыпи камней,
а то в дремучие долины
по склонам катятся ручьи,
швыряя камни; где лучи
на перекрестьях троп звериных
сквозь кроны воткнуты во тьму
глазниц белеющих скелетов;
где растопить не может лето
в ущельях снег и потому
уходит снова стороною,
ничто не требуя взамен;
и остаётся вновь зиме
кружить над строгою страною
и кутать грозные хребты
в свои торжественные шубы,
рядить в парадные тулупы
кедровой свиты их ряды;
и где замешкавшихся птиц
зима безжалостно и честно
хватает на лету за сердце
и в тишине бросает вниз…
Там ни единого нет места
душе почувствовать земли
опору. Потому вдали
хребты чарующе отвесны
и упоительна тоска
долин безмолвных, и в печали
так сладко умереть в начале
простого птичьего броска.
“Там, где вижу отраженья…”
Там, где вижу отраженья
чаек – чайки видят рыбок;
рыбки чувствуют движенье
чаек; мир подводный зыбок;
мир небесный – постепенен,
облака растут и тают,
испаряет солнце тени;
рассыпают чайки стаи;
серебрятся рыбки в небе,
облаков хватают крошки.
Ошалевшей чайки трепет.
Синева и звон немножко.
“Нашёл я оброненный в августе ножик!..”
Нашёл я оброненный в августе ножик!
Где кучу порезанных шляпок и ножек
Оставил, корзину свою перебрав.
Там нету ещё ни грибов и ни трав,
Но все обозначились наши дорожки!
А в погребе тесно проросшей картошке,
Как в теле слежавшемся тесно душе.
(Но это – про душу – банально уже)
И скоро народы пойдут в огороды!
Мужчина вонзает лопату в породу,
Жена его роется в прошлой ботве,
А дети картошку бросают – по две.
Но бабка следит и ругает лентяев —
Мол, дедушка не был таким вот слюнтяем,
Мол, вот был хозяин – в дому, в гараже.
(Но это – про дедушку – грустно уже)
И будет огромное светлое лето!
Приклеит деревни река изолентой
К бескрайнему лесу, покосам, полям —
И жизнью наполнится наша земля.
Хоть полнится смертью… А в августе бабку
Мы следом за дедом схороним. И зябко
Так станет в осеннем дожде на душе.
(И это – про осень – понятно уже)
“Скучно тащится по Каме…”
Скучно тащится по Каме
Теплоходик с пермяками.
Ветер морщит гладь реки,
Замерзают пермяки.
А по берегу, по Каме,
Пьянь гуляет с кулаками —
И сжимает кулаки,
Дураками дураки.
То ли дамы с господами,
То ли бабы с мужиками,
Тоже ходят вдоль реки,
Поправляя парики.
Дети бегают по Каме
С разноцветными шарами.
Ветер морщит гладь реки,
Шарик рвётся из руки…
Если вечером над нами
Вдруг прокатится цунами —
То останутся на Каме
Только шарик с облаками.
“Посередине года – солнце…”
Посередине года – солнце.
А по краям – снега, снега…
Год – наподобие колодца
В душе. Белеют берега.
Позёмки стылые струятся
И пеленают сонный взгляд.
И остаётся потеряться —
Там, где июльские горят
Часы, минуты и секунды,
Где пепел улетает вверх
И укрывает снега груды —
И тает снег.
“Ни разу не слышал свирели. Свирели…”
Ни разу не слышал свирели. Свирели
Как будто бы в небе весеннем дрожали.
Свирели как будто бы разоружали,
А мы как по нотам – зверели. Зверели
В бессильной тоске по покою,
Зверели как следствие собственной смерти.
Свирели срывались, сверлили как смерчи,
Я верил во что-то такое – такое,
Что тоже зверел, поднимаясь по нотам
К весеннему небу, как будто впервые.
Стараясь меж выдохами в перерыве
Вцепиться хотя бы в кого-то, в кого-то.
Нежный человек
Летняя прохлада,
Оттепель зимой…
Нам так мало надо:
Небо над землёй
И земля под небом;
Только и всего —
Не растаять летом,
Не застыть зимой.
Человеку есть чем
Пить и есть чем есть —
Чтобы было вечно
Тридцать шесть и шесть,
Но июль взорвётся,
Но сожмёт январь —
И под носом звёзды
Видит божья тварь.
Будто нету неба,
Будто бездна – тут,
Будто в ветках вербы
Космосы растут,
И вселенский холод
Мир сковал навек…
И лежит – расколот —
Нежный человек!
Иван-чай
Иван-чай стоит на Иване,
Упираясь корнями в плечи:
«Папка, папка, давай повыше!
Там же дяденька к нам пришёл!
Он сегодня натопит баню,
Станет ножкам твоим полегче,
И крапиву порубит на крыше —
Заживём мы с тобой хорошо!»
И Иван поднимает сына
Что есть силы: «Зови, сыночек!
Пусть тебя к моей Марье сносит,
Я-то вовсе уже старик…»
А кругом нарывает малина,
Земляника тайком кровоточит.
И неслышно о чём-то просит
Ослепительный детский крик.
“То ли снегирь взорвался…”
То ли снегирь взорвался,
То ли рябины плакали,
То ли пропойца плевался,
То ли избитыми лапами
Кот наследил – не ведаю.
Вижу деревья голые,
Тропку окровавленную,
Мальчик идёт в школу.
“…И вновь песчаная дорога”
…И вновь песчаная дорога
Меня уводит в сонный бор,
Где сосны в солнечных потоках
Молекулярный соль-минор
Во мхи серебряные сыплют;
И где, неистов – и незыблем,
Раскинул волны океан,
Корнями свитый на века.
Где под ногами шёпот рыбин —
В холодной, чёрной глубине,
Меж якорей и донных рытвин,
Они, навек окаменев,
От скуки овладели речью.
И, если вспомню, то отвечу
Я им на том же языке,
Зажав чешуинку в руке.
Тохтуево
Я не жил в селе Тохтуево,
Но скажу определённо я:
Жизнь в селе – одноимённая.
Не спасает даже курево.
Шпарят шахты соликамские —
Лес кругом, а не надышишься.
Но народ и с этим свыкшийся,
Пьёт по праздникам шампанское.
Между праздниками – водочку,
Между водочками – химию;
Дети инглиш учат: he, me, you…
Что не так? – захлопни форточку.
Эй, тохтуевцы – ату его!
Топоры по Волге плавают —
Железяки, только ржавые.
Стопудово из Тохтуева.
У тебя подошва слабая?
На фуфайке нету пуговиц?
Ты, наверное, тохтуевец.
Я, пожалуй, то же самое.
И, подвигав переносицу,
Мы завяжем на три месяца —
И столица переместится
К Соликамску за околицу.
Северная элегия
Хмыри, хмыри, хмыри, хмыри…
Глаза откроешь и закроешь —
Со стаканом чумазый кореш,
Чабоном делится: «Кури!»
Раскисший берег. Март, апрель…
И сажа валится с котельной.
И Саша валится, отдельно
От Вани, в лодку, как в постель.
Всё тут же: клуб и магазин,
Каркас конечной остановки.
И на велосипеде, ловкий,
С одной ногой рыбак один.
Он будет, только сгонит лёд,
Стоять в реке с утра до ночи:
Два колеса, нога, комочек
Червей, клюёт и не клюёт.
Кентавр наших дней, навек
Прирос он к велику, и даже
Он из портрета стал пейзажем;
И, в общем, каждый человек —
Не человек, а так, топляк,
Что головой в воде качает;
И лещ его не отличает
От валунов и от коряг.
…Мой путь как дерево ветвист:
От корня – ствол, дороги, тропки,
Дрожащий лист, потом короткий
Взмах ветра – и на землю вниз.
Где, сжаты створками зари,
Её кровавым перламутром,
Ещё видны, ещё окурком
Последним делятся хмыри.
И где сутулый силуэт
В реке, как будто знак вопроса…
Его стирает ночь. Так просто
Обозначая свой ответ.
Но я пока ещё ползу
По ветке, и пока не с краю,
Я в памяти перебираю
И узнаю всех по лицу —
Ивана, Сашу, рыбака —
В промозглом ветреном апреле…
И пепел сыплется с котельной,
И живы мы ещё пока.
Огонь к огню
Такая ночью в печке тяга,
Что страшно вылететь в трубу —
Как в космос врежешься, бедняга,
И рухнешь со звездой во лбу.
А рассказать потом кому-то
О зимней ночи – засмеют:
«Ну что за печка, звезданутый?
Теперь беспечен наш уют»
Но я-то знаю, я-то помню,
Как рвался мой огонь к огню,
А космоса огонь бездомный
Ночами бился в дверь мою!
Малой
Передо мной стоит малой
И говорит, блестя соплёй:
– Эй, ёптель, угости-ка сигаретой!
– А ты не мал? – Ты чё, блатной? —
Плюёт малой. – Да нет, родной.
Я не блатной, но сигареты нету.
Малой живёт вдвоём с отцом,
Отец бухает и спецом —
Проходчиком колымит по сезону.
И хоть он ходит молодцом,
Конец не сходится с концом.
А деда привезли сюда на зону.
И дед был тоже не блатной,
Он загремел по бытовой,
Зашёл в барак, ему: «А ну-ка, фраер,
Давай махорочку, чудной!»
А он им: «Сёдня выходной»
Его и запинали за сараем.
Но он поправился. Потом
Амнистия. Поставил дом
Недалеко, не мудрствуя лукаво.
С женой, скотом и животом
Прожил. И умер. Но притом
Себе потомка вырастил на славу.
Теперь потомок наравне
С отцом, на той же глубине,
Ворочает каменьями всё лето.
А сын потомка в ноги мне
Опять плюёт. И в стороне
Закуривает, сука, сигарету.
“Я куплю себе всё купе…”
Я куплю себе всё купе —
И поеду вот так на юг.
Чтоб в вагонной не преть толпе,
Не бояться детей и ворюг.
И меня назовут «буржуй»,
А скорее – «Такой урод!».
А я даже в сортир не схожу,
Не хочу я ходить в народ.
Всё равно человек – один,
Хоть обнимется весь вагон.
И всё дальше край холодин —
С перегона на перегон.
“Снилось мне, что я иду по дну…”
Снилось мне, что я иду по дну,
Что вдыхаю пасмурную воду,
Как туман в октябрьскую погоду,
На земле, которой не верну.
Озираясь в поиске людей,
Вижу рыб, скрывающих зевоту.
Будто знают рыбы – никого тут,
Им вода в две стороны видней.
И они не плавают за мной,
И из рук моих не ускользают.
Будто рыбы всё на свете знают,
Будто я им тоже не впервой.
“Я помню, хариус коптился…”
Я помню, хариус коптился —
И белый дым лежал огромно,
А с облаков срывались птицы,
А из реки кивали брёвна,
И лето, в скомканной зевоте,
На крыши прыскало из нёба,
И люди в сонном самолёте
На рыбный дым глядели в оба,
Твердя в тревоге и печали:
«Горят, горят леса отчизны!»
Но, засыпая, улетали;
И оставались тропки, избы,
А из реки кивали брёвна,
А с облаков срывались птицы —
И продолжался мир укромный,
В котором хариус коптился.
“Лежу в земле по всей стране…”
Лежу в земле по всей стране,
По городам, по деревушкам —
За свет, за дыры на броне
И просто так, ни за понюшку.
А по земле хожу не я —
Идут моими же ногами
Те, о которых говорят:
«Они давно уже не с нами».
Мазурик
Не знаю фамилию, имя,
Помню кличку – Мазурик.
Пальцы в шрамах и «Приме».
Наверное, нынче жмурик.
А мог намахнуть литру,
Бревно закатить на крышу.
Носил круглый год свитер.
Наверное, весь вышел.
Родился, не пригодился.
Ограбил, убил, сдался.
А срок отмотал – спился.
Наверное, волновался —
Когда говорил: «Надо ж,
И прожил своё Мазурик…» —
И в чёрных губах ландыш
Крутил на фоне лазури.
Герои
Герой отважный, мускулистый,
Герой летающий, железный,
Зелёный, синий, серебристый,
Нарядный, с дамами любезный…
А мой герой – он забулдыга,
Он матерится на соседку,
С женой дерётся за бутылку
И пьёт сердечную таблетку.
Он режет лес на пилораме,
По воскресеньям рыбу ловит
И раз в полгода ходит к маме.
Там напивается – и воет.
Его выводят из оградки
Герои нашего посёлка:
Один бьёт с сотни куропатку,
Другой в три взмаха валит ёлку.
Я среди них – герой четвёртый!
Несу закуску и чекушку.
Меня б давно послали к чёрту,
Не будь для них я «сука, Пушкин».
Они мне часто говорили,
Плечо отхлопав чёрной лапой:
«Пока нас нахер не зарыли,
Пиши, пожалуйста, патлатый…»
И я пишу, чего от боли,
Чего от радости и горя…
И над землёй летят герои.
И под землёй лежат герои.
“Снег сошёл – заборы, лавки…”
Снег сошёл – заборы, лавки
Вон из глины, вкривь и вкось:
Не выносит стылой давки
То, что врыли на авось.
И что вкопано на славу,
Не бежит хромой судьбы:
Как беспомощные травы,
Гнутся дюжие столбы.
Лишь, пожалуй, на погосте
Нет надёжней глубины:
Из земли не лезут кости —
Только надписи видны.
“В недетской страсти третий лишний…”
В недетской страсти третий лишний,
Стою, горюющий подросток,
И жадно рву ночные вишни
Под фонарём в селе Покровском.
А где-то в городе далёком
Свернулась девочка в калачик,
Ей невозможно одиноко,
Она в подушку слёзы прячет.
Ей суждено моей любовью
Стать посреди февральской вьюги,
Но впереди у нас обоих
Ещё пятнадцать лет разлуки.
“Просыпаешься: дождик. А ты…”
Просыпаешься: дождик. А ты
Никуда, в общем, не собирался.
Обвалилась на пол мошкара вся,
А в сенях фонареют коты.
Греешь чаю – чтоб стало тепло.
И признав, что немного обидно,
Прилипаешь к окошку – где видно
Свет заплаканный через стекло.
“Глядя в бинокль на переливающуюся звезду…”
Глядя в бинокль на переливающуюся звезду,
Я ждал дня, чтобы снова сбежать с пацанами
За гаражи и железную дорогу – где, как цунами,
Песчаный обрыв. И сосны. И до сих пор жду —
Не то вспоминая, не то придумывая слова,
Которые так явственно и невероятно
Говорила вылезшая из облаков огромная голова,
Говорила громко и непонятно.
“Птичка еле видная летит…”
Птичка еле видная летит
В вышине, как пулька из рогатки.
Ей, как пульке, не упасть обратно,
У неё такой на землю вид!
А у нас – апрельские ручьи,
Наперегонки несутся спички,
И шумит за лесом электричка,
И копёр настойчиво стучит
В бездну, с девяти и до пяти…
Достучится. Свистнет электричка.
Птичка улетит, утонет спичка.
Пулька упадёт – но не найти.
“Так всё обыденно и просто…”
Так всё обыденно и просто —
Деревья, мокрая трава,
И в анорачке не по росту
Ты руки прячешь в рукава.
А сапоги – с тремя носками,
Под капюшоном красный нос.
И мы шагаем с туесками
За земляникой под откос.
Гроза, огромная, как остров,
За горизонт, гремя, ползёт…
Так всё обыденно и просто —
И так невероятно всё.
“Над полусном заныл комар…”
Над полусном заныл комар —
Надсадный знак начала лета! —
И так обрадовало это:
Я разметался, как кальмар,
И звал: «О, вестница тепла,
Цеди меня, младая самка!» —
И выгибалась наизнанку
Моя рубиновая мгла…
А с утренним кукареку,
Объятый солнечным пространством,
Я к насекомому подкрался —
И припечатал к потолку.
“Поедем в деревню…”
«Поедем в деревню,
Поможем хоть бабке:
Подрежем деревья,
Потяпаем грядки,
Нельзя же всё лето
Просиживать в чатах,
Порадуем деда,
Покажем внучаток!»
Вот так и сказали
Родители Тане,
Боясь на вокзале
Девичьих рыданий.
Но Таня спокойна
И радостна даже,
Проворной рукою
Пакует поклажу:
Ведь, помнится, был там,
У клуба на танцах,
Громила и дылда,
С глазами испанца!
Ещё – у соседей
Племянник поджарый,
На велосипеде,
На всякий пожарный.
“Здесь неразличимо дно колодца…”
Здесь неразличимо дно колодца
И хрустят ракушки на зубах,
Южное безоблачное солнце
Вялит падаль кошек и собак.
Не дыша проходишь, как андроид,
К улице, где дом твой и твой сад —
И стекает с крыши рубероид,
И цветы безумные стоят!
Южная элегия
На лавочке у МСО,
Где завершался моцион
Пацанский наш – под фонарём
Два алкаша сидят втроём.
Они кивают пустоте —
Ушедшей то ли по статье,
А то ли вовсе на века —
Не разберёшь издалека.
Но чтобы лучше рассмотреть,
Не подходи к ним и на треть,
Там есть особая черта,
Где не поможет ни черта.
Где, расцелованный в лицо,
Ты вроде с ними пьёшь винцо —
Но так же ясно, словно днём,
Они виднеются вдвоём.
“Водопроводная вода…”
Водопроводная вода
Всегда немного впереди нас:
Она сгущается на минус,
Когда ещё не холода.
И вот её казённый хлор,
И сладкость ржавого железа —
А ты лишь кожицу порезал,
Проверив бритвенный набор…
А если нет её, стоишь,
Бездумно к крану прикасаясь:
И пустота хватает палец —
И детский страх в себе таишь.
“И день такой… Как будто мальчик…”
И день такой… Как будто мальчик
Встаёт рассказывать стихи,
В костюме грозного команчи,
Двенадцать строчек чепухи,
Которой вовсе не бывает,
И потому он каждый раз
Начнёт и тут же забывает,
И смотрит ясными на нас.
И мы его наперебой
Зовём, подсказывая слово —
А он ревёт, яркоголовый,
И с мамой просится домой…
Потом не вспомнит ничего,
Лишь на полу оставит перья —
И пропадёт во тьме империй,
Играя жизнью кочевой.
“Предрождественская тоска…”
Предрождественская тоска…
Забирайся в свою избу.
Вынимай не спеша резьбу
Из картофельного глазка.
Продолжаясь две тыщи лет,
Ты и века-то не нажил —
Вот и точишь свои ножи,
Вот и топчешь свой туалет.
Фотокарточки на стене:
Выцвел дед – разбери, что дед.
Да и ты, где тебе семь лет,
Тоже словно бы из теней.
Сто друзей и сто два врага,
Шрам на скуле, на сердце – боль.
Говоришь себе: «Бог с тобой!» —
По привычке, наверняка…
Всех позвал – никто не пришёл.
Остаётся копать в себе.
И заноза стучит в стопе —
Сам не вырвал, и не прошло.
Но увидишь – идёт звезда,
Ледяную вскрывая мглу.
И заплачешь в своём углу…
Раз. До смерти. И навсегда.
“Меня по отчеству не звали…”
«Меня по отчеству не звали,
Я семь десятков просто Любка,
Мы, как приехали с Алупки —
Всё на Урале, на Урале…
И я почти не помню моря,
Ну, что округлое – и только…
А мне пора уже на дойку —
Стою, вот, видишь, руки мою…»
«Любовь Ивановна, у вас же
Телята – лучшие в районе,
И о секретах в рационе
Никто подробней не расскажет!
…Ну что вы плачете, не стоит,
Любовь Ивановна!..» А Любка,
Подолом вылинявшей юбки
Закрыв лицо, тихонько воет.
«Пережила детей и мужа,
Всё время здесь, а дома – страшно.
Я говорю с животным каждым,
А что ещё теперь мне нужно…»
…И чётко, словно фотоплёнка,
Всё, что не схватится душою,
Вмещает чёрное большое
Глазное яблоко телёнка.
Рыба-облёт
Рыба-облёт совершенна, как ни взглянуть.
Даже летучая рыба под одноимённым созвездьем,
Если не падает снова в зубастую глубину,
То пропадает среди сухопутных бестий;
Даже оляпка, нырнувшая к сытному дну,
Крылышки складывает, чтоб на берег обратно…
Даже Луне не поднять из воды луну.
Рыба-облёт рассказала бы, вероятно,
Как застывал на чахоточной коже нерпичий жир,
Как вырезал старик на моржовом бивне:
Вот он с копьём, а на льдине кричат моржи —
Только у рыбы голоса нет и в помине.
Если и ты, когда-либо встретив подводный лёд,
Выстоишь вниз головой, как ни в чём не бывало,
Вспомни, как рыба-облёт в облаках дышала,
Просто молчи. Молчи, как рыба-облёт.
“И через двести лет, если не сгинет мир…”
И через двести лет, если не сгинет мир,
Будут снимать жильё, будут жильё сдавать.
«Нет ли недорогих комнат или квартир?»
«Есть – на окраине. Тумбочка, стол, кровать».
Что же, устроился. Тихая, так, семья:
Шепчутся за стеной. Котик игрив и тощ.
«Вот вам тарелочки. Это комплект белья…»
А у хозяйки-то милая, в общем, дочь…
А за окном стоит солнечная листва
И тополиный пух катится по двору.
Кажется – вот, сейчас, век пролетит, и два,
Два пролетят, а я – я никогда не умру.
“Бывало, сижу с конструктором…”
Бывало, сижу с конструктором,
Как со словарём стихоплёт,
Кирпичиками орудую —
И дом под руками растёт.
Гляжу в темноту за окошками —
И вижу внутри людей…
Опять не пошёл в художку я,
Мне неинтересно в ней.
Художка моя, на Репина,
Обшарпанная кругом,
Всего-то великолепия —
Рябина с репейником.
И помню, как выйдет красная,
Быстрее других, гуашь —
Оставишь затеи с красками,
И шепчет своё карандаш.
И сонные эти мамочки
Проходят мимо моих
Прекрасных цветов и бабочек,
И ягод… графитовых.
“О, в летний вечер слушать рельсы…”
О, в летний вечер слушать рельсы,
На грядках выстояв полдня!..
Когда с тележкою путейцы
Пройдут, железками звеня,
И электрички змей двумордый
За «скорым» вытянется вслед,
А над пустынною платформой
Вдруг разольётся белый свет;
И мы, смотрителя тревожа,
Гадаем, вслушиваясь в даль,
Кого в грунтовом бездорожье
Примчит божественная сталь!
“Что-то ещё, кроме дождика, кроме сумерек…”
Что-то ещё, кроме дождика, кроме сумерек,
Между землёй и небом, на дымах поселковых зиждется…
В ёлках за речкой, в редких фигурках утренних,
В мальчике, засыпающем над яичницей —
Что-то ещё, кроме дыхания, кроме молчания,
Там – где блуждают глаза, тут – где руку вытяни,
Кроме окна с огромными молочаями,
Дальних увалов с тучами первобытными.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!