Читать книгу "Самоучки"
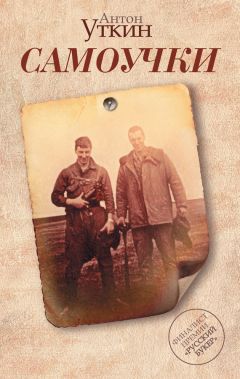
Автор книги: Антон Уткин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Однако Павел, распределяя вспомоществования, хотел судить самостоятельно и беспристрастно. Всего скорее, затем-то он и обратился к образованию, ничуть не пеняя на судьбу, которая отвела ему во время оно такие скромные возможности.
Если выйти из метро на «Маяковской» и миновать мрачную колоннаду Зала Чайковского, спуститься по тротуару Садового кольца, повернуть налево и обойти несколько мусорных контейнеров, как раз попадете туда, куда однажды угодил и я, повинуясь бесцеремонной Пашиной прихоти и вопреки своему желанию, – в восемь часов вечера, в самом начале осени. Павел позвонил мне утром и сказал, что собирается на выставку. Сам он появился у меня в половине восьмого, одетый прямо-таки вызывающе.
– Ну-ка, – озабоченно проговорил он, – дай я на тебя погляжу… Нет, так не годится. Есть у тебя костюм?
Я ответил, что костюма у меня нет, но, чтобы придать себе более солидный вид, я готов переодеться в строгие брюки. Павел придирчиво осмотрел этот ансамбль: низ ему потрафил, а вот моя кофточка никак не вязалась с его представлениями о гардеробах порядочных людей. Надеясь на чудо, он сунул печальное лицо в душную темень одежного шкафа, вместо выходных костюмов заваленного книгами и съежившимися от старости апельсиновыми корками.
– Нехорошо опаздывать, – изрек он, когда застоявшийся автомобиль выскочил на Садовое кольцо.
Минут через пять Чапа затормозил у первого же магазина, где продавали одежду. Паша ворвался внутрь, напялил на меня пиджак, подтащил к зеркалу, повертел, помычал, оторвал этикетки, схватил с вешалки первый попавшийся галстук, с полки прихватил белую сорочку, расплатился и под шальные взгляды весь день скучавших продавцов выскочил на улицу. Свой туалет я завершал в машине. Через пять минут я экипировался надлежащим образом и был готов предстать пред очи самых строгих ценителей классического костюма.
Впрочем, к началу мы все равно не поспели. Прежде всего я увидел каких-то людей, стоящих в темноте у входа в подвальчик, своим неровным косяком напоминавший богатырский зев русской печки. Каждый держал в руках по одноразовому пластмассовому стаканчику. На свету, застывшем в дверном проеме, клубился пар. Мы спустились вниз по выщербленным и неровным ступеням. Коридорчик, в котором вежливо потягивало «травкой», геометрически вильнул, и нам представилась ярко освещенная комната без окон, метров пятидесяти площадью. На дальней от входа стене, в лучах боковой подсветки, висел сам предмет – кусок фанеры, на котором в четыре кольца клейкой ленты была продета свежеспиленная ветка ясеня. Рядом в опрятной рамке находилось отпечатанное лазерным принтером moralite´.
Помещение, полное серым дымом сигарет, было еще полно мужчинами и женщинами, в основном молодыми, и все они тоже отхлебывали из белых пластиковых стаканчиков рубиновую жидкость, а жидкость после каждого глотка кровавыми каплями задерживалась на ребристых стенках, в канавках колец. Мы выделялись в толпе своими пиджаками и галстуками, потому что, кроме нас, никакой строгости ни в ком заметно не было. Напротив, все намекало на то, что мы попали на выставку, так сказать, костюмированную.
Бал здесь правила мода разогнанного Тишинского рынка, когда вещи настолько стилизованы, что никак не поймешь, то ли это ужасное старье, то ли плод годичных трудов и гордость какого-нибудь парижского ателье. Мужчины щеголяли платками и ушными серьгами, а девушки с изможденными лицами носили с трогательным изяществом черные бушлаты, вызывающие в памяти казенные наряды революционных матросов. И девушки, и юноши дружно топтали пол массивными альпинистскими ботинками, наличие которых как будто намекало на то, что их обладатели время от времени вырываются из чахоточного града и покоряют горные вершины, хотя это все-таки было и не так.
Вежливо и даже по-приятельски здороваясь с некоторыми из них, Павел протиснулся прямо к произведению. Подойдя вплотную, он долго стоял и смотрел на загубленную ветку. Я читал пояснение:
«МОЙ ПУТЬ – ПРОНЗАТЬ ОДНИМ.
А что скажет Ю?»
– Ну как тебе? – наконец спросил он озабоченно.
В ответ я сделал головой, руками и даже всем корпусом некий неопределенный жест, который должен был изобразить степень моего восхищения.
Между тем комната наполнялась новыми и новыми поклонниками неизвестного мастера. Входящие мельком взглядывали на композицию, живо напоминавшую украшение только что отстроенного лютеранского храма, и после бурных приветствий подключались к тесному разговору. Впрочем, это храм и был.
Только один молодой человек, едва появившись, тут же отправился изучать экспозицию, внимательно посмотрел на стену, оглянулся в поисках поддержки с чуть виноватой улыбкой человека, не знающего, как тут быть: отнестись ко всему как к шутке, или здесь было бы уместней морщить лоб и наслаждаться долго, то отходя, то приближаясь, постоянно меняя угол зрения. Если не считать меня, он был единственный зритель. Я ответил ему загадочной улыбкой, и тогда он тоже улыбнулся открыто и облегченно, охотно признавая себя дураком. Потом, я видел, он отыскал каких-то своих знакомых и весело с ними болтал, однако то и дело воровато находил глазами экспонат и несколько испуганно на него поглядывал.
К нам протиснулся высокий человек, с большой лысиной и седеющей бородой, облаченный в видавшие виды джинсы и какую-то распашонку.
– А это мой друг, подающий надежды… – попытался представить меня Разуваев.
– Дожить до ста, – поспешно договорил я, ибо начало этой затертой до дыр рекомендации сулило несусветную чушь. Наверное, он слышал ее в каком-нибудь фильме.
– Ну, эти надежды мы все когда-то подавали, – сказал хозяин бороды и зашелся тяжелым кашлем. – Юра, – добавил он, потоптался, повел бородой по пустым стенам, как бы желая спросить отзывы, но стесняясь.
– В этом искусстве много сложной философии, – уклончиво молвил я.
Он посмотрел на меня как архиерей на старообрядца – пристально и настороженно, стараясь взвесить меру иронии, но улыбнулся снисходительной улыбкой светского человека.
Паша, наверное, переживал тяжкие минуты. Было хорошо видно, что ему за меня стыдно. Юра по-прежнему натянуто улыбался.
– Хотите вина? – спохватился он.
В ту же минуту в наших руках оказались пластмассовые стаканчики.
– Молдавское, – поспешно сообщил Юра, прочитав вопрос в легком движении лицевых мускулов. – «Кодру».
Очень скоро Юра нас оставил. Мы торчали посреди зала в своих пиджаках, словно и сами превратились в экспонаты этой странной выставки – в экспонаты, до которых никому нет дела, напоминающие к тому же сотрудников известных органов на детском празднике. То и дело возбужденный гул взрывался всполохами хохота, а квадратные метры задыхались от сомнительных благовоний, и пустота просачивалась сквозь голые стены, словно кровь, пот и слезы красивших их маляров.
Однако искусство искусством, а жизнь ковыляла своим чередом. Я хочу сказать, что за первым стаканчиком последовал второй, а там и третий, и следующий по счету. Точнее, стаканчик-то был один – все тот же пластмассовый. Каким-то образом я оказался вовлеченным в разговоры с людьми, с первого раза показавшимися мне очень знающими.
– Граббе зря написал эту статью, – говорили мне. – Знаете Граббе? Нельзя писать о том, чего не знаешь! Нельзя.
Граббе я не знал, статьи его не читал, однако постарался ответить таким образом, чтобы в случае чего не сойти за обманщика.
Мой неизвестный собеседник распалился не на шутку и потрясал номером «Газеты». Я подливал горючего в его праведное негодование и вместе с ним безжалостно судил проступок неведомого мне Граббе.
В эти минуты у входа образовалось скопление людей – как будто две волны встретились и столкнулись, рассыпая сотни брызг.
– О-па, – обрадованно воскликнул толстяк. – Минутку. – Он протиснулся к этому скоплению.
Я посмотрел туда, куда он указал, и увидел человека лет сорока в грубом сером свитере, висевшем на острых плечах, как поникший парус. На локтях свитера были нашиты кожаные кружки. Цвет лица у него был нездоровый, и глаза окружали темные овалы. Глаза были совершенно неподвижны, их взгляд выражал какую-то отрешенную усталость, пока он разговаривал с толстяком, они смотрели куда-то в сторону и жили жизнью, самостоятельной от всего остального.
– Кто это? – спросил я, когда толстяк снова оказался возле.
– Это гений. – В его взгляде появилось умиление, которое так хорошо дается полным людям.
В этот момент гений прошел совсем рядом, и я хорошо видел его остановившиеся глаза.
– Придуманное искусство – это уже не искусство, – заметил мой новый знакомый.
Очередная порция рубинового вина смягчила мою нетерпимость. С этой минуты я принялся разглядывать экспозицию несколько более благосклонно, но еще позволял себе рассуждать:
– Как на это посмотреть. Это ведь тоже придумать надо: ветку спилить, скотч купить. Ю-то что об этом говорит? – сказал я, робко поглядывая на гения, безжизненную руку которого вот уже минуту безжалостно трясла и мяла какая-то пожилая женщина с пучком седых волос на затылке и кошельком из джинсовой ткани, который покоился у нее на груди.
Несколько мгновений толстяк осмысливал мои слова, болтая в стаканчике остаток вина, потом спросил:
– Вы кто?
– В каком смысле? Пока никто. Студент вообще-то.
Толстяк покачал головой с таким видом, как будто знал ответ наперед. Он стряхнул со своей лоскутной жилетки черные капли пролитого вина и заговорил уже спокойнее:
– Губит людей социология, губит.
В этот момент гений прошел еще ближе, и я хорошо видел, с каким мучением ему давался каждый шаг. Очевидно, он слышал мои слова, потому что повернулся и посмотрел на меня своими студеными глазами. Они были настолько неподвижны, что нельзя было разобрать, какое выражение скрывается в этом взгляде.
– А вы что же, в самом деле смысла ищете? – спросил толстяк миролюбиво.
– Боюсь, что так, – ответил я.
– Это все социология, – снова сказал он. – Подумать только.
Мне показалось, что он вот-вот заплачет – так проникновенно это прозвучало, и я ощутил, что неизлечимо болен социологией.
– Вот, кстати, и Граббе…
Голова моя сокрушенно закачалась, словно давая понять, что я очень разделяю его недоверие относительно человеческого рода, по крайней мере относительно некоторых его представителей. Я еще пытался защитить принципы, но при виде всеобщего воодушевления махнул рукой и, потягивая искрометное, соглашался решительно со всем. Пустота стен казалась мне уже исполненной вдохновенного, первозданного смысла. «Надо же, – думал я, – ничего лишнего, святая простота», а ветку на куске картона я соединил с удивительной волей мужественного творца. Мне показалось даже, что на мгновенье и я усмотрел в ней смысл – тоже первозданный. Она казалась мне образом, символом, знаком. Мой собеседник почувствовал слабину и глухо зарычал:
– Вербальная культура умирает, визуальная наступает.
– А то нет, – милостиво согласился я.
– Никто больше ничего не читает. Буква шелухой становится.
– Еще бы, – отвечал я с воодушевлением. – В самый корень глядите.
Вокруг бурлило море общения. В гомоне голосов я различал свой собственный:
– Сюжет умер, фабула сгнила – все передохло. Впрочем, туда и дорога.
Белые стены еще оставались белыми и блестели масляной краской, сияние их ослепляло, но потом стены потекли и накренились. Потом пропал Паша, и я понял, что катастрофа близка. Дальше пошло уже не кино, а настоящий фотофильм. Живые картины сменяли друг друга в последовательности непризнанного искусства…
Помню еще высоченные потолки абсолютно незнакомой квартиры, куда мой пьяный взгляд просто не дотягивался, в желто-зеленых потеках и хлопьях вздувшейся и отставшей побелки. Я был представлен каким-то людям, восседавшим, как судилище, за огромным кухонным непокрытым столом, – впрочем, готов присягнуть, что никого не интересовало, кто я таков. У стены размещался дубовый резной буфет – мне казалось, что он вот-вот свалится мне на голову, когда кто-нибудь, выбираясь из-за стола, случайно его задевал, и он, громыхая скрытой за дверцами посудой, трепетал и трясся, как анатомический скелет.
Напротив меня восседали невозмутимые и неразговорчивые молодые люди и время от времени прикладывались к стаканам, совершая сдержанные, изящные глотки. Если на свете еще есть те англичане, которых так любили уничижать в прошлом столетии все остальные, то мне казалось – это именно они. Их невозмутимость и брезгливое достоинство обнаруживали способность укрощать безумства общения. Впрочем, они назвались драматургами, а неуемная хохотушка, руководившая весельем, оказалась ведущей какой-то радиопрограммы.
– Где мы? – осведомлялся я через каждые три минуты.
– Мы на Рождественском бульваре, – терпеливо поясняла какая-то незнакомка, – у меня в гостях.
Какие-то люди приходили и уходили, был еще какой-то ребенок, мелькала женщина в халате – совершенно из другой оперы, один раз ухнула пробка из-под шампанского, но вот пил ли я его, этого я – как говорили много лет назад уничижители англичан – решительно не умею сказать.
– Где Паша? – мусолил я свой неразрешимый вопрос.
Драматурги смотрели на меня укоризненно.
– Какой еще Паша? – удивлялась радиожурналистка и, не глядя на стаканы, добавляла в них бурой жидкости.
– Надо же! – восклицал я, прихлебывая. – А мне всегда казалось, что я ненавижу виски!
Радиожурналистка хохотала и плескала на стол неизъяснимо отрицательный напиток. Драматурги все время молчали и только пускали дым. Потом они куда-то ушли…
Мы с радиожурналисткой сидели на мокрой скамье, рядом стояли пресловутые пластиковые стаканчики и все время падали, до тех пор, пока коктейль из водки, дождевой воды и прелых листьев не придавил их наконец к скользкому дереву. Она почему-то плакала и беспрестанно твердила: «Бунюэль – стерильность кадра» (знаки препинания здесь, конечно, условность). А я говорил: «Дух изгнанья» – и пытался то ли высказать какую-то застарелую обиду, уже и не помню на кого, то ли сделать из нее союзницу в каком-то жестоком и принципиальном споре. И мне казалось, что, наверно, это очень романтично и совсем не плохо – быть Демоном и парить над землей, презрительно поплевывая вниз. Напоследок небесные хляби разверзлись и окропили нас материнским сочувствием природы. Так плакала осень, и мы плакали вместе с ней.
Очнулся я дома.
Утром, если четыре часа пополудни можно считать утром, я дал себе три клятвы: первая – никогда не пить никакой жидкости крепче кефира, вторая – прекратить эти дурацкие уроки, но выполнил только последнюю, а именно: к вечеру привел себя в порядок и крепко стоял на ногах. Моя одежда оставалась у Павла, и ее нужно было выручать, ибо я совсем не привык к представительским костюмам. К тому же один из них – именно тот, который я познал в эту волшебную ночь, нуждался в серьезной чистке. Схватив свою голову в руки и следя за тем, чтобы она не раскололась, как переспелый арбуз, я побрел в контору, по три раза останавливаясь в каждой подворотне. В конторе было, как всегда, пусто, только Алла сидела за своим столом и, глядя в маленькое зеркальце, подкрашивала губы.
«Чего они все красятся?» – злобно подумал я, будто мне было до этого дело.
Алла предостерегающе кашлянула, энергично потерла губу о губу, спрятала зеркальце и сказала:
– Он не один.
Я отпрыгнул от двери, как тактичный кузнечик.
– Да нет, – строго сказала она. – Там режиссер. Денег просит на фильм.
– На какой еще фильм?
– Ну, фильм он хочет снять, кино. На съемки.
Я распахнул дверь. Павел важно сидел в кресле, словно первый секретарь горкома средней руки, и внимательно слушал длинноволосого молодого человека, бродившего по комнате и потрясавшего папкой из черного дерматина, откуда загнутым углом, как манишка из смокинга, выглядывала девственно-белая бумага.
– …Виктор дотрагивается до нее… – Режиссер оглянулся на шум и замолчал.
– Виктор ее трогает… – напомнил Павел, весело на меня взглядывая.
– Не трогает, а дотрагивается до нее, – с плохо скрытым неудовольствием уточнил кинематографист. – Дальше…
– А зачем он ее убивает? – перебил вдруг Павел. – Можно же, наверное, как-нибудь по-другому решить вопрос.
Режиссер опешил и несколько мгновений не произносил ни звука.
– Но ведь он – киллер, профессиональный убийца, – невнятно молвил он. – Это же сценарий… – начал он, однако тут же сник.
Я слушал этот диалог, мои глаза метались между ними, потом в ожидании уставились на режиссера, а режиссер смотрел на картины, изображающие нечто, с тоской и сочувствием.
– Почему бы им не полюбить друг друга? – спросил Павел и ткнул пальцем в страницу сценария.
– И пожениться, – с тихим презрением добавил режиссер.
– А что? – невозмутимо воскликнул Павел. – Жениться-то надо. Никуда не денешься. – Сказано это было с трогательным смирением перед глупыми людскими обычаями.
Паша обладал драгоценным свойством пленять сердца нестяжательной внешностью и простотой – он не боялся казаться смешным. Это подкупает людей, как будто давая им чувство превосходства, а главное, успокаивает, если они верят неподдельности таких проявлений, и люди мягчают в ответ.
– Что значит – надо? Не надо, – обреченно упрямствовал режиссер.
– Почему это?
– Такова жизнь, – коротко, но емко, как сам кинематограф, ответил тот.
– Неужели у жизни не бывает хороших концов? – вздохнул Павел.
– Это не жизнь, – хмуро отбивался режиссер, – это искусство.
– Да вы не сердитесь, – сказал Павел значительно мягче, – я в этом ничего не понимаю.
– Тут чувствовать надо, – тихо ответил режиссер.
– И не чувствую, – радостно подхватил Павел. – Вон у меня специальный человек, – он повел головой в мою сторону, – чтобы все пояснять. Человек, что ты скажешь?
Режиссер недоверчиво на меня посмотрел, уверенный, что перед ним ломают комедию.
Я, как ни был возмущен таким поворотом, постарался придать своей физиономии брезгливую значительность критика и сноба и не знал, как бы поправдоподобней отразить на ней неизбывную думу об искусстве. Более того, я вспомнил, что, согласно Бодлеру, человеческое лицо призвано отражать звезды, но звезд под рукой не было, и я, как смог, отразил прохладный свет неоновой лампы.
– А в чем спор? – полюбопытствовал я небрежно.
Режиссер молчал, устремив глаза горе, словно призывая в свидетели нерожденную десятую музу и ее стареньких сестричек.
– Ну хорошо, – сказал Павел, – все хорошо, все, в общем, у нас получается, позвоните двадцать первого. А сценарий оставьте.
– Слушай, – обратил он ко мне свои сомнения, когда режиссер нас покинул. – Я что-то не пойму. Мы вот с тобой изучаем литературу, все такое… Там все про любовь или про… – Он замялся, подыскивая слово.
– Про все такое, – помог я.
– Вот-вот. Да и люди все порядочные. Ну, Сонька там проститутка, ну это ладно… А сейчас – он ее убивает, они его убивают. Он мне говорит, режиссер, что в этом фильме… как его… американца какого-то… – сморщился он, – сто шесть убийств – это подсчитано. А у нас, сказал, будет на два больше. Сто восемь жмуриков, – промолвил Павел, брезгливо поджав губы. – Целая рота, даже больше.
– Жанр, наверно, такой, – ответил я неуверенно. – Надо быть солидней, – с издевкой указал я на картины. – Пока эта гадость будет здесь висеть, так они и будут ходить и просить на свои убийства.
Павел поднялся с кресла, сунул руки в карманы брюк и остановился напротив своих живописных шедевров.
– Да ты знаешь, сколько они стоят?! – возмутился он.
– Ты мне говорил, – напомнил я. – Но надо заменить.
– Но я не хочу про убийства. – Он выругался. – Я хочу про любовь. Расскажи мне про любовь, друг.
– Расскажу, – буркнул я обреченно.
И я в нарушение графика рассказал ему, что однажды над морем парили паруса, такие же алые, как губная помада фирмы «Ревлон». Паша ничего на это не сказал, но я понял, что история пришлась ему по душе.
– Я хочу море, – решил он. – Давай купим море. Хорошее море.
Мы бросились на поиски моря, в один день объехав девять антикварных магазинов. Нашим взорам представали орденоносцы, рогоносцы, домохозяйки в чепцах и даже один поручик в распахнутом сюртуке, как две капли воды похожий на Лермонтова, – без сомнения, все жестокие крепостники, самодуры и красноносые пьяницы.
Вперемежку с тяжелыми канделябрами, которыми, наверное, аристократы били по головам подневольных актрис и совращенных горничных, нашлись и пейзажи на любой вкус, но только не на наш: пашни густого коричневого цвета да бесчисленные деревеньки – исконная прелесть русских мест.
За деревеньками державно стояли еловые стены и нагие березовые рощи томились светлой любовью, раскрывали свои клювы непременные грачи, крупный рогатый скот топтался на миловидных полянках, а в роскошном салоне при «Метрополе» имелось даже альпийское озеро, похожее на опрокинутое и чудом не расколовшееся зеркало, в которое гляделся мрачный донжон. Этот плод болезненной меланхолии под потемневшим лаком нам пытались всучить как образец немецкого романтизма, но мы-то хотели жгучего юга – моря и солнца, отвоеванного нашими предками у горских народов.
– Посмотрите на раму, – говорил продавец с чувством, но вежливо. – Вот это рама.
Однако Павел оказался на высоте и по очереди отверг все притязания хитрых надувал.
– Отвали, – сказал он продавцу.
Человек, возросший на природе, инстинктивно чувствует красоту.
Словом, было все – не было только моря, живого, мутного, покрытого блестящей чешуей волн, сверкающего под солнцем, как кольчуга витязя, как скользкая кожа дракона, на взволнованную поверхность которого можно было красным фломастером подрисовать алые паруса далекого судна, несущего рукотворное чудо.
– Алла, – сказал тогда я, – позвони своему антиквару. Если это удобно.
– Это удобно, – сказала Алла, потянулась, как кошка, и флегматично потыкала кончиком пальца в кнопки набора.
Ближе к вечеру перезвонил антиквар и пригласил на смотрины.
– «Море» есть? – спросили мы его.
– Есть, – заверил он. – Есть два «моря».
Антиквар жил и работал на Большой Никитской. Когда мы проезжали через площадь, я показал на церковь, одетую в реставрационные леса.
– Смотри быстрей, – вскричал я, – чтоб ты знал. В этой церкви Пушкин венчался.
Павел повернул голову, Чапа притормозил.
– Пушкин был фуфло и баклан, – раздраженно сказал Павел, а Чапа взорвался бешеным хохотом.
Я беспомощно замолчал, уставившись на церковь без крестов, которая спряталась от нашего конкретного времени за строительный забор. Куполок ее был несоразмерен массе трансепта и притвора, как головка крупного животного, вымершего многие тысячи лет тому назад. Сразу за забором вековые тополя, распустив ветви, как наседки свои крылья, охраняли покой традиции.
– Почему баклан? – спросил наконец я.
– Надо было козлу этому голову отстрелить, – сказал Павел. – Этому…
– Дантесу, что ли?
– Да, Дантесу, – значительно проговорил Павел. – И было бы все хорошо. Писал бы свои стихи, и все бы его уважали.
– Существует мнение, – возразил я, – что это было скрытое самоубийство.
– Что-то я не догоняю, – покачал головой Павел.
Мне показалось, что ему до слез жалко Пушкина и что, попадись ему Дантес в каком-нибудь ночном клубе, он не задумываясь его бы прикончил, не прибегая к услугам дуэльного пистолета и глупых формальностей.
– Время было другое, – сказал я. – Понятия другие.
Вообще, глядя Чапе в бритый затылок, я изрекал непозволительно много банальностей, утешаясь единственно тем, что банальности не что иное, как непреложные истины, а они всегда кажутся нам не заслуживающими внимания, потому что пугающе просты.
– Странные понятия, – заметил Павел.
– Здесь вроде, – сказал Чапа и тем положил конец спору. – Приехали.
Мы внимательно осмотрели антикварные «моря», томившиеся за железной дверью, как невольницы в гареме у безобразного султана. Одна картина изображала пустынный брег, каменной трапецией врезающийся в темную поверхность воды, на которой дрожала лунная дорожка и, приспустив косые паруса, дремала фелюга, но Паше понравилась другая – боковой вид с горы, утыканной кипарисами; она, кстати, была и побольше. Ее мы и выбрали и вечером водрузили над письменным столом в Пашином кабинете. Полотна новых кистей – эти мерзкие фавориты дурного вкуса – попали в опалу и были тут же свергнуты в чулан.
И в нашем времени при всех недостатках есть приятные черты: то, что Хрущев давил бульдозерами, мы удаляли бережно и не забыли вытереть пыль.
– Ну-ка, ну-ка, – озабоченно выдохнул Паша, усаживаясь в кресло и оглядываясь на пейзаж. – Так ничего не видно. – Он вышел из-за стола и опустился на диван рядом со мной. – На Туапсе похоже, – сказал он. – Горы такие же. Все такое же.
– Красота! – сказал я. – Хорошие у вас места?
– Хорошие, – хмуро ответил он. – Даже очень хорошие. Если там не жить.
Встреча с кровожадным кинематографистом навела меня на мысль о театре. Не то чтобы я хотел передоверить этому искусству свои просветительские обязательства, но пьесы пишутся для сцены, и я рассудил, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Очень кстати одна моя знакомая закончила репетиции дипломного спектакля, и наступал долгий период премьер. Правда, пьеса была французская и не имела отношения к русской классике, но мне показалось разумным начать знакомство с театром в более непринужденной обстановке.
При встрече с подопечным я был краток: древнее искусство, читать ничего не надо, надо сидеть и смотреть. Всего-то ничего. Камерный зал, все по-домашнему, люди простецкие, сиденья жесткие.
– А какой в этом смысл? – спросил, зевая, Разуваев.
Театра я не переносил и частенько бывал к нему несправедлив.
– В том-то и дело, что никакого. Фиглярство, одним словом.
– Что? – переспросил он.
– Ну, это когда кривляются, – пояснил Чапа.
– Когда кривляются, – подтвердил я.
Тайное общество скрытых эрудитов сжимало свои объятия.
– Ладно. – Он бросил взгляд на часы. – Разок глянем.
В тот же день я повидался со знакомой, которая носила звучное имя Анастасия, и она провела нас в пустой зал, стены и потолок которого были оклеены черной бумагой. Слева, похожая на боковую кафедру готического собора, нависла кабина, откуда во время представления режиссер управляет светом.
Это была пьеса Этьена Лорана, написанная в один из двадцатых годов. Дело там было вот в чем: в маленьком французском городке находился при смерти человек, наживший значительное состояние в каких-то туманных, далеких и давних колониальных авантюрах. Человек имел сына Алена, Ален имел жену Софи. Женщина эта угнетала слабовольного супруга. Ален не видел дальше собственного носа, а это всегда создает нехорошие обстоятельства, ибо глупость – вот главная основа большинства трагедий. Ален тайком попивал, человек был неплохой, но безвольный. Старый дедушка, которому давно отказали в здравости рассудка, бесстрастно наблюдал, как все обитатели дома изводят служанку по имени Алекс, и только иногда позволял себе улыбнуться в седые усы затаенной улыбкой.
Служанка была совсем молоденькой девчушкой, ее взяли из деревни. В то время как хозяева предавались мечтаниям и один за одним создавали химеры, достойные Манилова, она в одиночку вела весь огромный дом и все успевала. Вытирая пыль, она напевала гасконские песенки. На нее зарился конюх – грубый детина, которому были недоступны высокие чувства.
Все там крутилось вокруг этого наследства: дома, сада и каких-то бумаг. В дом приходили гости. Среди них являлся бедный художник-парижанин; было непонятно до конца, любил ли он Алекс или просто ощущал в ней родную душу, но приходил он в этот дом именно из-за нее, терпеливо снося глупое празднословие самодовольных хозяев, кюре и офицера местного гарнизона.
Был еще и старик-аптекарь, который время от времени появлялся на сцене, но я никак не мог понять, какая роль на него здесь возложена.
В общем, то была немного странная пьеса.
– У нас тут банкиры были. Ну до чего ж идиоты! Везде охранников своих рассадили. Только для них играли – никого в зале больше не было, – щебетала Настя, пока мы шагали по коридору, обшитому зеркалами.
– Ну мы-то не банкиры, – самодовольно улыбнулся Павел.
Он молча высидел все три акта, в перерывах глотал ледяное пиво, а потом внимательно смотрел на сцену из коричневого полумрака импровизированного партера.
Актеры в пьесе были заняты молодые, играли они почему-то неважно. Только служанка привораживала к себе взгляд. Свою роль она понимала как будто лучше остальных. Павел первым обратил на это внимание, однако мне и самому так показалось.
– Так не бывает, – заметил он, когда мы вышли на улицу под ленивый моросящий дождик.
Вместе с тем другое, не менее важное обстоятельство заявило о себе. «Море» возмущало его душу и вызывало законный интерес к «визуальному искусству», как изволил выражаться присной памяти выставочный толстяк. Не мешало бы взглянуть, что оставили нам живописцы. Само собой, что и тут мы прибегли к суррогату, скупая альбомы у отвратных спекулянтов, облюбовавших козырек Дома книги на бывшем Калининском проспекте. Цены там были баснословные, но влюбленные, как известно, денег не считают, особенно когда они есть.
Автомобиль понемногу заполнился искусством. Оно лежало грудами на заднем сиденье, книжечки поменьше забили бардачок и приступку лобового стекла. Чапа ворчал и норовил выбросить альбомы из салона. Однажды Паше тоже захотелось узнать, что таится в здании, окруженном станом сомнительных букинистов, и, пока я копался снаружи, он проследовал в магазин.
Я нашел его в отделе, который торговал по принципу комиссионного магазина. Он стоял у прилавка и один за одним уважительно, почти благоговейно перебирал тома. Издали он был похож на случайно разбогатевшего кандидата наук, не желающего расставаться с квалификацией. Павел изучал книги со знанием дела и даже зачем-то пробовал их на вес, как отборные плоды диковинного авокадо.
– Смотри, – показал он мне одну, – обложка заклеена, – он полистал страницы, – здесь остался след шоколада. Что можно сказать?
Книжка была озаглавлена так:
Мирра Лохвицкая.
«Под небом родины».
Стихотворения.
СПб.
1892.
Я пожал плечами:
– По крайней мере, ее читали.
– Да, эту книгу читали, – согласился Паша. – Ее читали в лучшие времена, потому что во время чтения могли есть шоколад. Книгу берегли, потому что скотч постарел – обложка заклеена давно.
– Наверное, денег нет у людей, – сказал я. – Деньги, наверное, нужны.
Воображение есть первый шаг в направлении добра. Многие добрые дела обязаны этой тягостной способности.
– Хорошо жили, – повторил Павел и вздохнул. – Шоколадки ели. – Он открыл книгу наугад. – «Я хочу умереть молодой», – наморщив лоб, как первоклассник, прочитал он первое, что попалось на глаза. – Странное желание. – Обложка захлопнулась. – Ребята, вижу, были чумовые! – заметил он с чувством.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































