Текст книги "Психотея"
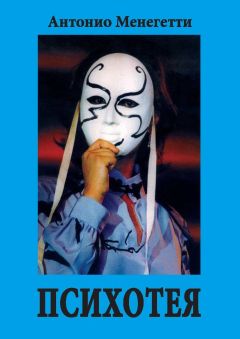
Автор книги: Антонио Менегетти
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Эдип винит Аполлона, но сколько раз мы слышали такие высказывания: «Да исполнится воля божья» или «Это веление бога?». За так называемым смирением скрывается инфантильность человека, проявляющаяся в двуликой ситуации – желанной и навязанной одновременно. Ослепление Эдипа символизирует три аспекта реальности: это человек, который не видел, не хотел видеть и не должен был видеть ничего, кроме близости с матерью.
Слов Эдипа недостаточно; только оставшись наедине с собой, он сможет все понять. Ему нельзя позволить умереть, потому что тогда игра закончится. Люди дорожат своей жизнью, смерть близкого тревожит их. А Эдип еще может послужить, иначе как показать тех, кто будет заботиться о бедном слепом старике? И он уходит – изгнанный, оборванный, жалующийся на невзгоды своей судьбы. Люди уважают слепых, считают их мудрыми. И действительно, Эдип добрел до Колона[4]4
Странное название города ассоциируется с колонизацией.
[Закрыть], где снискал славу мудреца и героя, пользуясь жалостью тех, кто его встретил и к нему прислушался.
Машина уже притворилась человеком, отпечатавшись на его челе. Теперь она достигнет Колона, где под прикрытием мощного оружия – мудрости – приумножит свои жертвы и обретет новых сторонников. Так будет до тех пор, пока люди не прозреют.
1.4.2. Краткие выводыИтак, я бы дал следующее объяснение трагедии «Царь Эдип» и эдипову комплексу: человек, погрязший в семейственности, материнском расположении, становится слепым. Я не разделяю интерпретацию Фрейда, поскольку великие греческие драматурги были ко всему прочему выдающимися философами, теологами и метафизиками. Фрейд с его точкой зрения не мог уловить точности и аутентичности Софокла, Еврипида и Эсхила.
Фрейдовский анализ трагедии «Царь Эдип», сюжет которой в том или ином виде перенят всеми драматургами, начиная с Шекспира с его «Гамлетом» и «Макбетом», задал ошибочное прочтение из-за материнского комплекса Фрейда по отношению к его родной матери.
«Царь Эдип» – это не столько проявление сексуальности сына в отношениях с матерью, сколько констатация факта, что любой мужчина, достойный стать великим, замыкается в семейственном круге и впоследствии теряет способность видеть. Эдипу не удается встать на путь выдающегося человека, учителя, царя. Он остается во власти материнского семейно-прародительского дома. Ребенок, который не достигает психологической взрослости, не оставляет семью и не становится «продуктивным действием» в обществе, утрачивает онтическое видение.
Лидерский потенциал субъекта уменьшается и прекращает развитие под воздействием всего, что складируется, редуцируется, отдается в залог, интровертируется в семейственной утробе на протяжении поколений, всего, что подавляется, а затем выливается в преступность и патологию.
1.5. Актер и интенциональность на сцене
Можно исследовать фигуру актера[5]5
В контексте данной книги понятие «актер» рассматривается в широком смысле слова без технического разделения на две категории – актеров и исполнителей роли. Актерами являются, например, Альберто Сорди или Джон Уэйн: это персонажи, которые всегда сохраняют свою идентичность и проявляют ее в многочисленных ролях. Джон Уэйн – это всегда Джон Уэйн: сперва мы видим личность, а затем роль, которую он играет. В определенном смысле актер уже одарен от природы. Исполнитель же – это тот, кто проходит становление в зависимости от воплощаемой роли. Исполнительство требует большего искусства, школы, техники. Мы видим исполнителя в роли и не узнаем его, потому что исполнитель – это в первую очередь персонаж, за которым впоследствии видна личность.
[Закрыть] на двух уровнях:
1) на уровне анализа различных структур, эстетики, рационального содержания, проксемики, профессионализма, психологии, взывая к систематизированности с позиций сознательной интенциональности;
2) а также на уровне анализа, нацеленного на поиск динамической точки выражения, бессознательного содержания сценической деятельности.
Мы проведем анализ второго типа, то есть учтем все, что было сказано по данной теме в исследованиях, посвященных актерскому искусству, и пойдем дальше.
Каждый спектакль есть взаимодействие между предъявленным значением и актером. В театре значение передается актером при содействии режиссера; в фильме – посредством образов выдуманной реальности, выстроенных актером. Я не ставлю себе задачей поиск различий между театром и кино, однако ясно, что в театральном действе актер кожей ощущает контакт со зрителем, физически модулирует взаимодействие, управляет связью «актер-зритель», которой и характеризуется театр. Именно актер посредством своего особого способа «бытия» на сцене определяет, какое послание и смысл предъявлять зрителю. Театральная реальность строится на семантическом поле актера во взаимодействии с публикой.
Основополагающая точка связи «актер-зритель» лежит в поле бессознательного, там, где происходит движение и модулирование психической интенциональности – первичной или динамической причины, структурирующей реальность. В финальном гештальте спектакля вступают во взаимодействие три типа интенциональности. Опустим намерение автора текста, поскольку режиссер и актер, выбирая конкретный текст, перенимают это намерение. Выбор текста обусловлен сходством потребностей всех троих.
На первом месте оказывается интенциональность режиссера, который использует все средства (актеров, сцену, музыку, свет, хореографию, грим, монтаж, план постановки), чтобы выразить вовне свое сознание и бессознательное. Создавая спектакль, режиссер сталкивается с переменными, которые не зависят от его сознательной воли. К ним относятся эмоции, эстетика, отношения с актерами, обстоятельство, вкус, искусство, экономика средств, господствующая идеология. Эти переменные мало контролируются рациональностью и выражают содержание бессознательного. Режиссер становится настоящим катализатором сценического действа, в котором переплетаются психические динамики.
Во-вторых, мы имеем дело с интенциональностью актера, который управляет сценой и имеет наибольшую возможность самовыражения в данном персонаже и в данном действии. Выбор режиссером актеров также отражает сходство их бессознательных структур и образов. На первый взгляд кажется, что выбор рационален и обусловлен логикой спектакля, однако зачастую он оказывается случайным или же определяется аффективностью, когда, к примеру, режиссер видит только эту актрису и никакую другую. В основном выбор актеров происходит в силу психического сходства (на уровне чувств, эмоций, семантики), которое мотивируется вовне логико-технической диалектикой. Для других это исключительно рыночная экономика.
Выдающиеся режиссеры всегда отбирают актеров и актрис в силу комплексуального сходства. Анализируя актера, мы также проникаем в содержание бессознательного режиссера. Взаимодействие между актером и режиссером разворачивается не столько на сознательном, культурном уровне, сколько на уровне бессознательной органической информации. Семантические поля в этой связи становятся очевидными. Режиссер управляет актером не только внешне с помощью слов, жестов, советов, но и посредством психической интенциональности. Работа в тесном проксемическом пространстве приводит к взаимозависимости бессознательного режиссера и актера. В первую очередь требуется готовность актера, либо бессознательная комплексуальная интенциональность режиссера выбирает наиболее подходящие для себя моменты.
В-третьих, это интенциональность публики. Действительно, действие-выражение режиссера и актера всегда ориентируется на получателя знаков. Интенциональность данного типа вступает во взаимодействие в молчании, исподволь обуславливает одним лишь присутствием или отсутствием. Любой спектакль является итогом взаимодействия интенциональности режиссера, актера и публики.
Теперь зададимся вопросом о той бессознательной интенциональности, что движет актером на сцене. Данный вопрос возникает из рассуждения о том, что в обычной жизни в действиях человека присутствует не одна причина и что основные его мотивации лежат в бессознательном. Человеком управляет неведомая ему причинность даже тогда, когда он думает, что совершает выбор по собственной воле. Точно так же внешнее сценическое действие приводится в движение причинами, лежащими в бессознательной части психики.
Настоящий актер-художник всегда стремится в своем профессиональном действии «творить», создавать искусство доступными ему органическими средствами. Так проявляется стремление раскрыться навстречу миру бессознательного. Помимо того, что хороший актер владеет техникой игры, он входит в таинство инстинктивности, импульсов, содержания бессознательного настолько, что оживляет их на сцене, позволяет зрителю распознавать за пределами рациональной данности. Актер должен задействовать свое тело; через действие он конкретизирует многочисленные мотивации и содержание бессознательного, от первого лица проживает противоречия между сознанием в-себе и бессознательным. Он должен дать жизнь персонажу, другому человеку. Он словно бы забывает себя и свою сознательную личностную структуру, чтобы в этот момент воплотиться в другого. Актер устраняет себя и раскрывает другого. Это возможно только в том случае, если он уже каким-то образом в своем бессознательном является тем другим. Тогда актер просто выявляет и включает в действие ту реальность, которую он проживает изнутри.
Когда говорят о техническом мастерстве, следует помнить, что техника – это всего лишь способ достижения раздвоения, перехода, вхождения в образ. Хороший актер передает не технику, а эмоциональную эстетику. Даже притворяясь персонажем, он в этом притворстве приводит в движение динамики, относящиеся к миру своего бессознательного. Именно в фальши, предполагаемой созданием образа своего героя, актер представляет истину индивидуального бессознательного в совпадении с бессознательным коллективным.
Вхождение в модус бытия, который в обычной жизни не предусматривается социальной ролью актера, дает ему возможность быть собой и выражать мотивации бессознательного. Притворство позволяет отделиться от сознательной, внешней данности и войти в глубинную, мотивирующую поверхностный пласт реальность. Находясь на съемочной площадке или на сцене, настоящие актеры не притворяются: в наиболее сильных моментах они действительно страдают и наслаждаются, по-настоящему и всецело переживают, срастаясь с ролью. Поэтому и в сцене, выстроенной на комплексе, актеры смакуют болезнь: они вовлекают в действие публику, если реально, но под видом притворства, живут тем, что исполняют. С дарованной такой «игрой» уверенностью не только актеры, но и многие другие люди получают возможность с любовью проживать собственную болезнь.
Очевидно, что видимым образом актер и зритель встречаются в рамках имитации жизни, но в действительности они находят друг друга в общей истине, выраженной в действии третьего лица – персонажа. Используя персонаж, актер сокращает сознательный пласт, чтобы дойти до той точки, из которой он воссоздаст персонаж, но уже в соответствии с собственной внутренней реальностью. Актер на самом деле «забывает» свое социальное «Я», чувства, заботы, каждодневную рутину, чтобы войти в измерение своего персонажа. Так называемое «если бы»* актера воссоздает само по себе любого персонажа. Вхождение означает отбрасывание сознательной роли и принятие психологической типологии, основанной на мотивах, внутренней инстинктивности, бессознательных потребностях.
Что выражает собой сценическое действие? Что на самом деле семантически сообщает актер? Принимая во внимание мнения самих актеров, суждения театральных и кинокритиков, содержательную и побудительную силу представленного на сцене персонажа, можно утверждать, что зритель становится свидетелем драмы, пределов страдания человека. В ролях, персонажах, ситуациях, символах проявляются повседневные страдания человека. В качестве примера приведу слова Габриэля Лавии, напечатанные в одном из ежедневных изданий: «Мне нравится изучать сумасшествие человека, его шизофрению, раздвоенность его «Я» и погружаться в героя настолько, чтобы начать чувствовать его боль и радость».
Рассмотрев сценическую игру актера, можно заметить, что самыми любимыми для него оказываются роли, в которых всплывает животное начало, сумасшествие, агрессивное саморазрушение. Самый хороший актер тот, кто больше всех подвержен ревности, агрессии, наваждениям, сумасшествию, кошмарам, судьбе, страдает от любви и непонимания окружающих, что на сцене может быть представлено и в комическом, развенчивающем ключе, однако содержимое фрустрированного существования останется в неприкосновенности. Более того, кажется, что без всего этого невозможны ни театр, ни кино.
Продолжая разговор об устном сообщении, о работе актера, режиссера и критика, Генри Лабори утверждает: «Для меня тоска проистекает из подавления действия, а при встрече с другим – из его речи. Этот другой неумело управляет пережитым, которое не совпадает с моим опытом, и мы впадаем в тоску, поскольку лишены возможности действовать. Человек счастлив, когда встречает другого, несущего в себе нечто поистине абсолютно фундаментальное, глубинно выражающего самолюбование и одиночество, но не на словах, а на языке тела. Считается, что невротик говорит на языке тела потому, что он способен лишь на истерическое проявление, например, своего одиночества. Думаю, что все мы в той или иной степени невротики, просто общественная культура не позволяет нам подобных проявлений, иначе бы мы не были хорошими производителями. На собраниях, подобных этому, у нас есть возможность побыть невротиками всем вместе. Для меня быть невротиком означает просто быть человеком, понять, осознать, что тоска есть в начале и в конце и одновременно в середине. Более того, мы безоружны перед этой тоской – тоской смерти».
Исполнительское искусство признает тоску не только прерогативой человека, но и считает высшим художественным достижением. Это означает лишь инфантильную проекцию утраты собственной реальности, неадекватности в существовании, неспособности к полной жизни. Это проявление подлости по отношению к жизни, несмотря на то что тоска заняла прочное место в человеческом существовании. Многие полагают, что рожденное от навязчивой идеи искусство может помочь человеку в жизни. С позиции психологического роста возникает вопрос, как искусство, являющееся выражением невроза и психических конфликтов, может способствовать росту, самореализации, усилению жизни.
Субъективность, передаваемая нам актером, это «если бы» зачастую представляет собой реальность невроза, страдания и инфантильности. Актер – это человек с наиболее ярко выраженной чувствительностью. Почти всегда сценическая работа помогает ему уклониться от собственной тревожащей реальности, которая вызывает тоску. Насколько свободно, вне морали и предрассудков актер представляет своих героев, настолько он робок и подавлен в частной жизни. В конечном счете, на сцене проживаются и вероятнее всего находят признание вытеснения актера.
Роли, которые может исполнить актер, так же бесчисленны, как бесчисленны проявления комплекса в повседневности. Кажется, что актер производит синтез и разоблачает игру в прятки, которая позволяет невротическому симптому комплекса выглядеть латентным или «нормальным». Если симптомы многочисленны, то матрица-стандарт, на которой и покоится любое отклонение от оптимальности Ин-се, только одна. Каждый человек наделен фильтрующей структурой, которая закрепляет фиксацию на опыте первых лет жизни и производит отбор данных, не соотносящихся с природной организмической проприоцептивностью.
В первые годы жизни ребенка окружающая среда предопределяет в амебообразной свободе индивидуации референтные ментальные коды, задает переход структуре, которая модулирует различные типы комплексуальных моделей. Отбор данных осуществляется решеткой, действующей на клеточном уровне системы рецепторов. В процесс опосредования сознания к организмической целостности встроилось селекционное реле, которое предустанавливает и обрабатывает все данные, поступающие в сознание. В результате из обусловленных таким образом возможных ответов выстраивается иерархия, которая предусматривает единообразие мышления, схематизирование любой морали, навязчивости, веры. В ответ на каждый поступающий стимул матрица-фильтр автоматически, по памяти восстанавливает уже прожитую ситуацию-ответ, даже если последняя не является функциональной для индивида в актуальности жизненного момента. Из-за подобного вмешательства большая часть потенциала индивида остается неосознанной. Субъективная реальность выносится вовне и заменяется информацией, которая провоцирует фиксирующую навязчивость и обусловленное рефлективное действие.
Выплескивая в персонаже то, что ему наиболее близко, актер приближается к матрице, или модулю решетки, становится ее вестником, передает от нее информацию. И матрица, таким образом, получает художественное признание. На сцене актер, наконец-то, может жить. Вся запрещенная, цензурированная, неосознаваемая в повседневности жизнь обязательна на сценических подмостках. Вытесненный материал продолжает существовать, потому что его латентное присутствие гарантируется убеждением, что все представленное актерами – нереально, и самое большее – является лишь «искусством». И в преподнесении этого вытеснения обнаруживается (с помощью онтопсихологической методологии) воронка монитора отклонения, засасывающая жизнь через секс, деструкцию, навязчивые состояния. Все, создаваемое человеком, – от кино до театра и искусства в целом, – притянуто к этим трем моментам, имеющим всевозможное симптоматическое выражение.
Действительно, актер и режиссер выплескивают на сцене свою тоску, фиксированную аффективность, перверсию, прикрытые бунтом, идеалами, политикой, профессионализмом, искусством, и прекрасно при этом знают, что за семиологическим дискурсом о символах, о ценности данной работы стоит одна лишь реальность их механической навязчивости. Исследование фигуры актера выявляет его моральные и экзистенциальные границы как человека. Никто всерьез не рассматривал актера-человека. И, говоря честно, никто из нас не относится к актеру с серьезностью. Мы можем хвалить его, делать популярным, но при этом не видим его человеческой ценности. По сути, это человек, который притворяется другим.
На уровне бессознательного публика, критики, режиссеры выдают по отношению к актеру реакцию трех типов. 1) Ему приписывают абсолютно низкий интеллектуальный уровень (управляет сценой тот, кто находится за ней, он же – самый умный и использует актера в своих целях). 2) Зритель проявляет неподдельный интерес комплексуального порядка, в котором проживает перенос собственной вытесненной сексуальности и агрессивности. 3) Осуществляется перенос на себя внешней ситуации, схожей с матрицей-фильтром, действующей внутри (распознавание ее во внешней ситуации обеспечивает мгновенную разрядку страха или напряжения).
Можно было бы возразить, что в этом, пусть даже скованном, действии актер остается самим собой, проявляет человеческую природу и что в определенном смысле ее высвечивание является положительным моментом. Тем не менее, предъявленное действие есть хорошо завуалированное, расцвеченное с помощью превосходных технических средств выражение подавления, комплекса, поражения. Актеру позволено открыто играть болезнь, исполнять анти-искусство, утверждать нонконформизм по отношению к человеческим ценностям, уничтожать то, ради чего изначально появились искусство и исполнительское мастерство.
Как актеру удается положительно высказать вытесненное еще в детстве действие? Практически всегда формирование невроза завершается к 6–7 годам, поэтому 40-50-летний актер предъявляет публике подавленное и фрустрированное детство. Обожествляя актера, мы тем самым принимаем выражение патологии не только в смысле подавленного в человеке действия, но и патологии как чего-то невзращенного, неразвитого, инфантильного. Мы предъявляем этот материал сознанию как воспитание. В таком случае патология уже предстает под светом рампы, передает послание, утверждает эстетику, исполняет воспитательную функцию: коллективное воспитание в коллективном неврозе.
Культура тоски, насилия, отчаяния превозносит больше остальных актера, способного наилучшим образом воплотить и передать именно эти чувства. На сцене актер выражает невроз и одновременно скрывает его за техникой и под маской персонажа.
Актер не обязательно должен быть невротиком. Артистическая деятельность приближена к значению жеста, знака, слова, танца, к тому, через что опосредует себя Ин-се человека. Настоящий актер, который хочет передать успех, совершенство, рост должен уметь осознавать и исторически воплощать посредничество бытия в существовании. Если понаблюдать за зрелым человеком в момент говорения, то можно увидеть, даже не слушая слов, что движения рук, модуляция губ, взгляд передают порядок жизни, который воссоздает позитивность. При этом признанные технически совершенными жесты, телодвижения, танец многих танцовщиков и актеров вызывают некроз и стресс, что особо чувствуется на висцеральном уровне. Иногда в ходе спектакля мы оперируем лишь ментальными категориями в головном мозге, начисто забывая о постоянно функционирующем восприятии посредством всего висцеротонического поля. Часто исчерпывающий жест опровергает то, что предъявляется нам на менальном и культурном уровне.
В этом смысле мы не можем признать за общепризнанным искусством катарсической функции, потому что оно не только не устраняет вытесненного, но и подтверждает его существование, поскольку представляет, освящает вытесненный материал как искусство. Подлинный катарсис происходит лишь тогда, когда человек преодолевает собственные комплексы, достигая собственной сущности. Всякая артистическая деятельность должна возвращаться к онто Ин-се с целью реализации существующего человека и его соотнесения с формальным эстетическим действием. Искусство дарует человеку свободу, свободу от обычных забот и страха. Общество позволяет ему отбросить удушливые роли и пребывать в истине своей индивидуации, входить в фантастическую модальность. Человек может свободно проявлять свою глупость, инфантилизм, невроз, агрессию, нежность, покорность, а также выражать точку, которая опосредует оптимум существования за пределами любой идеологии.
Действие актера вызывает у зрителя выплеск эмоций, вскрывает внутренний мир, дает передышку. В такие моменты публика освобождается от действия «Сверх-Я», а установившаяся непринужденность пробуждает сексуальность и неистовство. В этом смысле сцена высокоэффективна: в условиях видимой свободы вместо навязчивого внедрения фиксирующих кодов невроза она может стимулировать к развитию зрелости, гармонии, преодолению, истинному познанию себя. Тогда зритель приходит к познанию своего внутреннего мира в обход комплексов, страхов, навязчивости. Театральное искусство может создаваться для управления сущностной точкой индивидуализации, в которой человек обретает экзистенциальное и психологическое равновесие. Некоторые ищут эту точку в области театра и кино, однако ее выражение в силу всевозможных трудностей сведено к единственной форме – навязчивости.
Свобода в искусстве означает не только забывание роли и повседневности, но и аннулирование ментальных кодов и любой обусловленности, которая программирует навязчивость, страх, агрессивность, инфантилизм. Это вхождение в «Я», которое становится прямым сознанием Ин-се, там, где приобретает форму наше существование.
С позиций жизненной функции бесполезно превозносить искусство человека, потерпевшего крах в своей эгоичности. Только возвращение к истинному человеку может произвести коренной переворот в театре и породить, наконец, искусство бытия.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































