Текст книги "Вавилонская башня"
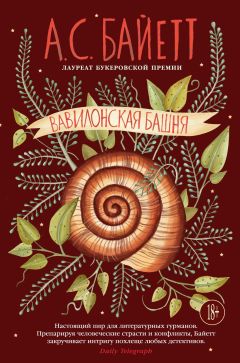
Автор книги: Антония Байетт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
IV
…и около того времени, как завелись пышные празднества в Театре Языков, но не учредились еще обряды в капеллах Богородицы и Невинных Младенцев, госпожа Розария повадилась, ускользнув незаметно из Ла Тур Брюйара, совершать в одиночестве конные прогулки в лесу. Случись кому-нибудь спросить, откуда это увлечение, она не нашлась бы что ответить, потому и уезжала она тайком, дабы избежать подобных вопросов, – а может, и затем, чтобы не пришлось отвечать на них себе самой. Если бы кто-нибудь все же и пристал с расспросами, она бы сказала, что одинокие эти прогулки – ее прихоть, под стать прихотям и фантазиям тех, кто, раскрасневшись, облизываясь и не скупясь на жаркое дыхание, участвует в действах, что разыгрываются в Театре Языков. Но избежать расспросов она жаждала всей душой, ибо на страсть к уединению Кюльвер смотрел косо – по крайности, если замечал ее в других. Они много рассуждали о том, как согласить между собой непримиримые страсти Дамиана, Кюльвера и Розарии. Кюльвер был преисполнен надежды, что согласие будет достигнуто. Госпожа же Розария, напротив, гордилась, что не принадлежит ни одному мужчине. Было это в ту пору, когда замысел их еще расцветал, как вешний сад.
В этих краях как раз наступила или наступала весна. Госпожа Розария выезжала в стеганом жакете, но уже не надевала меховой капор и меховую пелерину, а лишь набрасывала легкий плащ с капюшоном. Она обнаружила множество просторных конских троп, которые, уходя в лес, превращались в извилистые стежки, ведущие к очаровательным полянам, где из зеленой травы уже выглядывали цветы аконита и чемерицы, первоцвет и робкие фиалки. Она спешивалась и в рассеянности бродила меж темных стволов, наблюдая, как из недели в неделю умножается число ярких крохотных почек, и мысленно присваивая себе эти укромные уголки: «А первоцветы мои растут и там, где я их раньше не видела» или «Ишь как мой дрозд в моем орешнике заливается!». Она уже воображала себя дриадой, пестуньей этих деревьев, хотя она всего лишь ходила меж ними, смотрела на них и улыбалась. Осмелев, она уходила все дальше и дальше, расширяла свои владения, упивалась благоуханием поросли и птичьим щебетом в чаще, размышляя порой, как она теперь будет век вековать в Ла Тур Брюйаре, смутно воображая, что сейчас делается там, за долиной, в городах и портах, на дорогах и трактах, на реках и на морях. Дорогу ей перешла фазаниха, за которой тянулся выводок фазанят, и госпожа Розария нагнулась, чтобы взять один мягкий комочек в руки, но птенцы распищались и бросились врассыпную. Тогда она, подобрав юбки и отодвигая колючие ветки, начала пробираться сквозь заросли ежевики вслед за фазанихой, не спуская глаз с медно-рыжего оперения, мелькавшего в жухлом папоротнике. Она шла, шла, и вот перед ней открылась другая поляна. Деревья там были выше, чернее, без почек, но странные плоды висели на них. Поляна была круглая, деревья раскинули свои крепкие черные руки, а на них, поворачиваясь из стороны в сторону, болталось что-то непонятное. Сначала госпожа Розария приняла их не то за огородные пугала в человечьей одежде, не то просто за одежду, но, приглядевшись, она увидала, что это люди и есть: лица почернели, глаза выклевали птицы, чрева вздулись и смердели.
Они поворачивались туда-сюда, деревья стояли неподвижно, слышался стук и скрип веток.
И раздался за спиной госпожи Розарии голос, от которого у нее душа замерла:
– Хороши дары леса, сударыня?
Трепеща от страха и гнева, она обернулась и увидела рядом с собой полковника Грима: он, должно быть, незаметно появился здесь, когда она продиралась сквозь ежевику, и, пока она смотрела на мертвых, подкрадывался все ближе и ближе.
– Et ego in Arcadia[64]64
«И я жил (родился) в Аркадии» (лат.). Традиционно – надпись на гробнице, посмертное воспоминание о счастливых днях, выражение, сходное по значению с «Memento mori» («Помни о смерти»).
[Закрыть], не правда ли, сударыня? Извините, если напугал. Позвольте увести вас от этих висюлек и препроводить к вашему пасторальному обиталищу.
– Я не слыхала, как вы подошли.
– Немудрено. Вы были заняты другим предметом, а я бывалый ловец зверей и человеков. Позвольте, я раздвину перед вами ветки.
– Я пришла сюда, чтобы побыть в одиночестве.
– Это ясно как день. Вы и останетесь в одиночестве, однако что бы я был за кавалер, если бы удалился незамедлительно, когда вы пришли в смятение, увидав наших собратьев по роду человеческому в таком виде?
– Кто они?
– Это мне неизвестно. Такие собрания в этих уголках леса, увы, не редкость. Принято считать, что это жертвы кребов – ну да кребам, как и всякому кровожадному племени, приписывают множество злодеяний, в которых повинны не они.
– Я ничего о кребах не знаю, – сказала госпожа Розария, неподвижно стоя спиной к собеседнику: оборачиваться не хотелось, ибо тогда возникла бы какая-то связь с грузным телом полковника Грима.
Как и большинство обитателей Ла Тур Брюйара, если не все, она всегда брезгливо держалась от полковника подальше. Знал он об этом, нет ли, но он взял ее за руку и повел через кустарник на ту поляну, где она была прежде, и предложил присесть на замшелый пень и перевести дух. Во времена революционных войн, от которых госпожа Розария со всей решимостью бежала, ей случалось видеть зрелища и пострашнее, и сейчас она охотнее всего вернулась бы к своему коню, если бы не смутные опасения нажить врага в лице полковника Грима. Поэтому она, поигрывая хлыстом, присела на пень и приняла из рук полковника стопку аквавита из его баклаги.
– Кребы, – начал Грим, – не то народ, не то племя, населяющее или оскверняющее своим присутствием лесные чащобы и горные пещеры. Они приземистые, смуглые, тела их обросли волосами. От них исходит запах, нестерпимый для человека с тонким обонянием, речь их невразумительна, точно они рычат или плюются. Людям они не показываются, выезжают на охоту стаями, в меховом одеянии, с маленькими кожаными щитами на запястьях. Ученые мужи много спорят о том, принадлежат ли они к роду человеческому или нет. Даже мертвецов своих стараются они не оставлять в руках людей, оттого и не удается нам их рассмотреть. Кребов женского пола никто не видел, разве что они неотличимы от мужчин и так же, в меховых одеяниях, сражаются с ними бок о бок. Пленных они не берут, и, если верить молве, всякого, кто их видел, лишают зрения или чаще убивают. Приближаться к местам, где они побывали, опасно – даже разглядывать эти висюльки, сударыня. Я приметил необычные кожаные петли, в которых они висят: работа кребов. Мне, однако ж, известно – положено знать по долгу службы, – что шайки разбойников и беззаконников, которые рыщут в этих лесах, не прочь создать видимость, будто их злодейства – деяние кребов, чтобы чужаки обходили их тайные пристанища стороной.
– Много же вы о них знаете, – заметила госпожа Розария.
– Я, дитя мое, несу дозор на границе Кюльверовой державы, – объяснил старый солдат. – Южные рубежи ненадежнее, чем ему представляется, и оттого, что он отгородился и отвернулся от внешнего мира, он этот мир не отменил. Не ездили бы вы больше по этим полянам, если не хотите, чтобы от вас остались разметанные по траве кости да расклеванный птицами череп.
Он обозрел ее прелестное лицо, пухлые губы, ясные глаза, отливающие жидким блеском, и госпожа Розария почувствовала, что под нежной плотью он прозревает черепной костяк, зияющие глазницы, носовые отверстия, сухую челюсть, жемчужные зубы, выбивающие дробь. Она безмолвно потупилась, а собеседник продолжал:
– Осмелюсь полюбопытствовать: отчего вы так часто выезжаете на прогулку в эти леса и всегда в одиночестве? Люди с нечистым воображением, чего доброго, заподозрят, что вы имеете с кем-то любовные свидания, но я незримо сопровождал вас в этих поездках с самого начала и ручаться готов, что в шашнях с чужаками вас не обвинишь.
Грудь и шею госпожи Розарии как жаром обдало, и она дала давно обдуманный ответ:
– Кюльверу угодно, чтобы мы безраздельно предавались всем человеческим страстям, которые, по его убеждению, сами по себе суть высшая ценность, ибо они человеческие. Я же недавно обнаружила в себе страсть к одиночеству и укромности – одиночеству, укромности и дикой природе, страсть не скажу чтобы редкая, даже заурядная, – вот ей я и предаюсь. Лучше сказать, предавалась, ибо минуту назад вы открыли мне, что одиночество это обманчиво: пренеприятное открытие.
– Я бы мог вам сказать, что боялся, как бы вам не понадобилась защита от кребов, – отвечал Грим, усаживаясь на соседний пень и, как видно, настроившись на долгую беседу. – А мог бы сказать, что боялся от вас измены нашему обществу, – ну да это, признаться, не заслуживает никакого вероятия. А мог бы сказать – и это, сударыня, чистая правда, – что мною владеет стародавняя страсть добывать сведения, за верное узнавать слова и дела людей. Я, сударыня, был в свое время соглядатаем, а это занятие, которое таким, как я, доставляет неизъяснимое наслаждение. Здесь эту страсть можно не таить. Здесь она вреда не принесет. Если вы, вняв моему совету, откажетесь от прогулок в здешних лесах, вам не узнать, от каких ужасных опасностей спасла вас моя нескромная страсть.
Госпожа Розария поджала прелестные губки: она понимала его правоту и вместе с тем ощущала горькую досаду от его слов.
– Сдается мне, рассуждения Кюльвера об удовольствиях, в которые он пускается в собрании, вам удовольствия не доставляют? – заговорил зловещий человек более непринужденным тоном. – Я заметил, вы не частая гостья в этих восхитительных собеседованиях, до которых большинство наших сограждан такие страстные охотники.
– Прискучило мне слышать одно и то же, – отвечала госпожа Розария. – Разговоры их сбивчивы и однообразны, мысли всё повторяются и не идут дальше сказанного в самом начале. Не спорю: сотоварищи наши получают жгучее наслаждение от этих дружественных словопрений, но как нету в моей натуре столь женской склонности к злословию и пересудам, так нету склонности и к таким диспутам, – продолжала она, столь увлекшись мыслями о себе, что позабыла о недоверии к собеседнику. – Именно эта сторона моей натуры, которая побуждает меня удаляться от людей, искать уединения, убегать от забот о делах общественных – дел пустых, а то и опасных, – именно эта сторона натуры моей делает меня исключительно неспособной иметь участие в непрерывной, почти лихорадочной работе, которой занялось наше общество в силу, как видно, естественных причин. Меня восхищает – всегда восхищала до благоговейного трепета – сила Кюльвера, и обаяние, и могучий ум его. Я понимаю разумность его стремлений переменить – или восстановить – человеческую натуру. И все же я не склонна – не готова – не убедилась еще в неопровержимости его рассуждений и поэтому не могу предаться душой всем его начинаниям.
– Помнится, – молвил полковник, – нынче утром предметом беседы должны стать приятность и боль, доставляемые испражнением и мочеиспусканием, а равно и интерес, который питают иные, в том числе из нашего общества, к их отходам, жидким и твердым, а равно и знакомая иным связь между этими отправлениями с сокровенными – даже наедине с самим собой – проявлениями любви и страсти. Верно ли я изложил?
– Почти верно, – отвечала госпожа Розария и обратилась мыслями к собственным маленьким приятностям того же рода.
Но тут она покраснела с головы до ног: если, как говорит полковник, он всегда был ей спутником, то, уж верно, видал, как она присаживается среди кустиков чистотела и, вздыхая с облегчением и наслаждением, орошает струей мшистую почву. Отводил ли он взгляд, наблюдал ли с удовольствием? Юбку она поднимала высоко, и живительный теплый воздух ласкал ей точеные белые ягодицы, сомкнутую теплую щель, которую Кюльвер мечтал явить на сцене восхищенным взорам всего общества… Упивался ли Грим этим зрелищем, а если да, то что это было за упоение? Мысль, что за ней тайком наблюдали, досаждала, дразнила, тревожила, отзывалась в укромных уголках тела – куда сильнее, чем затея Кюльвера выставить ее на общее обозрение.
– Если ему удастся расположить публику к тому, чтобы она почувствовала расположение к этим материям, – невозмутимо продолжал полковник, – он учинит незаметный переворот в укладе общественном и будет на пути к разрешению важной задачи житейского свойства. Нам без равноправной дерьмовозной повинности никак нельзя, друг-сударыня, это дело жизни и смерти. Я наблюдал, какие страшные моровые поветрия открывались в тюрьмах и военных лагерях по причине гниющих отбросов.
Розария не отвечала, она все так же поигрывала хлыстом.
– Он, должно быть, подумал о том, что будет, когда собеседования о высвобождении страстей коснутся до страсти причинять боль ближнему. Я не о тех оказиях, когда кандалы на запястьях тесноваты, не о бичеваниях, когда уд бичуемого блаженно вздымается от обиды: такое еще можно было бы признать полезным как источник наслаждения или средство назидания – на сцене, в спальне, в каземате. Нет, я любопытен узнать, что будет, когда Кюльвер задумается об удовольствии разодетой, как на праздник, толпы, глядящей, как под топором падает с плеч голова или как львиные клыки терзают яремную жилу гладиатора. Готов ли он разыграть на сцене казнь через повешение – но не до смерти? Может, найдется меж нами самоубийца, согласный разок – один-единственный раз – ублажить охотников полюбоваться на корчи человеческие? Ну да больше найдется таких, кому случалось вольно или невольно испытать несказанное блаженство, когда на шее затягивается петля и брызжет семя, – как сказал бы поэт: испустить дух в метафизическом смысле… Вот и с теми горемычными висюльками было такое, только веревку никто вовремя не обрезал. Забава опасная, мадам Розария, да и любители корчей останутся недовольны.
– Угождать одним за счет других – Кюльвер и мысли такой не допустит, – отрезала госпожа Розария, хотя на душе у нее было неспокойно: как-то устроится взаимное угождение у нее, Кюльвера и Дамиана? – Вас же всякого рода зверства, – продолжала она, – занимают потому, что таково ваше кровожадное естество, о котором вы сами, помнится, говорили и от которого отреклись.
– Мои вкусы, – отвечал полковник, – в известной мере следствие занятий военным искусством, которому в нашем укромном, затворническом мире места нету: оно пригодится, если придется этот мирок защищать. Впрочем, мои досужие и, может быть, неосновательные рассуждения, как видно, повергли вас в уныние, а я, право же, не любитель терзать воображение особ слабого и прекрасного пола. Не вернуться ли нам в Ла Тур Брюйар?
– Мне бы не хотелось, – вполне учтиво отвечала госпожа Розария. – Воздух такой благоуханный, цветы и деревья навевают покой, если забыть о страшных плодах на колючих ветвях по соседству. Я бы лучше продолжила путь.
– Настоятельно вам советую от этого удержаться, – сказал полковник. – Места здесь недобрые, для людей простодушных опасные, несмотря на все улыбки весны. Позвольте, мадам, я вам кое-что покажу.
– Только к висюлькам я не пойду, – сказала Розария: она с умыслом употребила словцо полковника, чтобы он не заметил, что при одной мысли о них ее мутит.
– Нужды нет, мадам. Извольте сломить с дерева на этой поляне веточку – молодую, не сухую.
– Для чего?
– Отломите.
Она протянула руку и отломила свежую веточку, унизанную тугими, бодрыми почками. И выдавился из надлома темный сгусток крови, медленно, словно выползающий на волю слизень печеночного цвета, а за ним струей хлынула алая кровь, и мелкие капли забрызгали ее одежды. Она отпрянула, издала крик, принялась стряхивать с юбки кровь, отчего и пальцы ее заалели. Она умоляла полковника растолковать, что сие означает и отчего происходит.
– За верное сказать не могу, – отвечал тот. – Тому представляют разные объяснения, все до одного гадательные, некоторые, можно сказать, метафизические. Вы, дама просвещенная, без сомнения, знаете, что божественный поэт Данте Алигьери в рассказе о своих странствиях по Аду изобразил это явление при описании Леса Самоубийц, и воображение местных жителей упорно относит этот кровавый древесный сок на счет висельников. Есть и проще объяснение: об этих местах рассказывают, что будто столько народу здесь пало от рук кребов, столько земля приняла в себя крови и костяного крошева, что деревья не в силах претворить эту кровь в безобидную сукровицу, или древесину, или сок, но принуждены исторгать ее с ужасом и омерзением. Одна легенда дает объяснение и в обратном смысле: деревья-де эти и почва людей ненавидят – как кребы, которые в известном смысле суть их благоприятели и охранители, – поэтому им в радость поглощать мертвецов и неосторожных путников, прилегших отдохнуть у их корней и под их сенью. Есть поверье вроде тех, какие можно услышать по всему свету, разве что лишь в этих местах его связывают с кровавым соком: будто деревья суть преобращенные мужчины и женщины, вон хоть преобращенные кребы, и, может статься, кребы – деревья, умеющие ходить, или же деревья и кребы связаны меж собой, как гусеница и бабочка. Изобретательность человеческая и человеческое воображение измыслят причину чему угодно, как пчелы выделывают мед, а дерево приносит плоды. Одно скажу неложно: для меня все здесь дышит болью и ненавистью. Я здесь гость нежеланный. Да и вы тоже.
При этих словах госпожа Розария содрогнулась от безотчетного страха и омерзения и позволила наконец отвести себя туда, где стоял ее конь, а полковник сел на своего.
Вдвоем они выехали из леса и направились к Башне, а Розария мысленно обращалась то к одному предмету, то к другому. Мчались по небу тучные облака, точно летучие фрегаты, точно нетвердые на ногах бражники, точно скакуны, обгоняющие ветер. Взметнувшаяся ввысь Башня то одевалась густой тенью, то озарялась золотистым сиянием. С этого места вид у нее был неказистый. Уступы и террасы налезали друг на друга, так что кое-где воображалась то груда мусора, то нагромождение камней, то куча обломков. Но даже издали в лучах солнца было заметно, как по проходам и галереям деловито снуют обитатели Башни, отчего казалось, что жизнь в этой громадине так и кипит, как в муравейнике. И госпожа Розария, неспешно едучи бок о бок с мужем крови, гадала: что это, желанный домашний кров и пристанище или по доброй воле In-pacе[65]65
Букв.: В мире (лат.). В некоторых средневековых монастырях так называли карцеры, куда заточали особо провинившихся монахов до конца жизни («глухой покой»).
[Закрыть], сиречь каземат?
– Мы общество защиты Фредерики, – объявляет Тони Уотсон.
– Общество благоустройства существования Фредерики, – поправляет Алан Мелвилл.
Они собрались на квартире Александра Уэддерберна на Грейт-Ормонд-стрит: было решено, что здесь Фредерике будет удобнее всего, а если ее примутся искать, то вряд ли в первую очередь бросятся сюда. Взбудораженный телефонными звонками ни свет ни заря, Александр уступил свою кровать Фредерике и ее сыну: его от матери не оторвать. Кровать просторная, удобная. Пробудившись после беспокойного сна, Фредерика лежала в его кровати, в его рубашке и мрачно размышляла об иронии судьбы: наконец-то она там, куда безнадежно стремилась попасть несколько лет. Она даже оставила в постели в память о себе два-три пятна крови от воспаленной раны на бедре. Сам Александр прекрасно выспался в свободной спальне, но сейчас выглядит озабоченно. Друзья, не скупясь на красочные и зловещие подробности, описали ему буйный и мстительный нрав Найджела, которого Тони не очень удачно, пожалуй, окрестил «Тот С Топором»[66]66
Тот С Топором – прозвище неизвестного убийцы-маньяка, действовавшего в Новом Орлеане в 1918–1919 гг.
[Закрыть].
Говорить о будущем оказывается адски трудно из-за Лео: малыш сидит на диване с полотняной обивкой рядом с Фредерикой и прижимается к матери так, словно хочет с ней срастись. Вид у Фредерики нездоровый. Тони советует обратиться к врачу. Он уже подумывает о разводе: надо, чтобы рану освидетельствовал врач, и как можно скорее, но заговорить об этом не решается.
– Да рана-то не очень серьезная, – говорит Фредерика.
– Но и не пустяковая, – возражает Тони. – Я же вижу, тебе больно.
Александр наливает всем кофе из голубого кофейника. Из этого же кофейника, вспоминается ему, он наливал кофе Дэниелу Ортону, когда тот бежал из Блесфорда в Лондон. Все обращаются за помощью ко мне, думает Александр, но какой из меня помощник, какой от меня толк? Не душевный я, не отзывчивый.
Наконец Хью Роуз спрашивает Фредерику напрямик:
– Что думаешь делать?
Фредерика одной рукой обхватывает голову Лео: обнимает, но и прикрывает уши.
– Вернуться я не могу. Говорю без колебаний, это вопрос решенный.
Лео поджимает губы. Молчит.
– Мне нужен угол, чтобы отдышаться и собраться с мыслями. Нужна работа. Я должна стать независимой.
Все смотрят на Лео.
– Надо будет все продумать шаг за шагом, – продолжает Фредерика. – А пока нужно устроиться где-нибудь вместе с Лео. Позже… Лео должен решить…
– Я решил, – говорит Лео. – Я хочу с тобой. И ты хочешь со мной, я знаю, что хочешь. Со мной.
– Конечно хочу, – отвечает Фредерика. – Вот только…
Она вспоминает его пони, его привычные маршруты из кухни и с конского выгула, его крошечный мирок. Она думает, каково будет строить карьеру с маленьким беспокойным ребенком на руках.
– Только… – повторяет Лео, по его лицу пробегает дрожь.
– Только – все. Найдем где-нибудь жилье. Какое-нибудь.
– Идея, – произносит Александр. – И кажется, очень недурная. Что ты скажешь о Томасе Пуле? У него квартира в Блумсбери – я как-то там жил, – человек он одинокий, вернее, отец-одиночка. Жена его бросила, ушла к актеру Полу Гринуэю, который в моей пьесе играл Ван Гога. У него два сына-подростка, девочка лет двенадцати и еще малыш Саймон, ему восемь, он покрупнее Лео. Томас руководит Институтом образования для взрослых имени Крэбба Робинсона[67]67
Генри Крэбб Робинсон (1775–1867) – английский юрист и публицист.
[Закрыть] и почти наверняка пристроит Фредерику преподавать – сейчас многие женщины так подрабатывают. Квартира большая, место найдется. Пул – это выход, у него искать не додумаются.
– Он мне нравился, – замечает Фредерика, вспомнив Пула, коллегу Александра и своего брата по Блесфордской школе. – Он хорошо сыграл Спенсера в твоей пьесе.
И Александр, и Фредерика помнят, но не упоминают романчик Томаса Пула с красавицей Антеей Уорбертон – тогда еще, как и Фредерика, школьницей, – который закончился беременностью, абортом и угрызениями. Больше угрызался, как запомнилось Фредерике, Томас Пул. Впрочем, чужая душа потемки.
– Если ты не прочь подрабатывать преподаванием, – вмешивается Алан Мелвилл, – я тебе хоть сейчас устрою несколько часов в училище Сэмюэла Палмера. Там художники получают степень и должны слушать разные курсы, у них не только творческие дисциплины. Мы им и курс литературы читаем. Очень интересно.
– А я могу попросить Руперта Жако взять тебя корректором и внутренним рецензентом, – добавляет Хью. – Работенка нудная, но можно работать дома. Вот тебе и способ проникнуть туда, в этот мир.
– А телеигра Уилки? – напоминает Тони. – А то попробуй устроиться журнальным рецензентом. Это нелегко, но работа тебе по плечу.
– Работа… – произносит Фредерика. – Работа мне нужна.
– А об остальном подумаем после, – продолжает Тони. – Чем тебе заняться. Всерьез.
– Да, можно так, – соглашается Фредерика.
Александр, Фредерика и Лео отправляются к Томасу Пулу. Квартира его расположена на пятом этаже большого эдвардианского дома в Блумсбери. Александр квартировал здесь в 1950-е, когда писал «Желтый стул». Жена Пула, Элинор, в 1961 году неожиданно бросила мужа и ушла к Полу Гринуэю, игравшему в новой бродвейской постановке «Пигмалиона». Четверым детям Пула, Крису, Джонатану, Лиззи и Саймону, было тогда четырнадцать, двенадцать, девять и пять лет. Сейчас им семнадцать, пятнадцать, двенадцать и восемь. Старшие сыновья учатся в Блесфорд-Райде, где Александр и Томас познакомились: они преподавали под началом отца Фредерики. Александр все еще относится к Крису и Джонатану как к детям, хотя Крис уже готовится поступать в университет. Он расспрашивает о них, когда Пул ведет друзей в гостиную, некогда служившую Александру спальней. Это просторная комната с эркером, из окна которой видна построенная недавно башня Почтамта, напоминающая кольчатый, унизанный дисками и усиками антенн инопланетный корабль.
Обсуждать планы Фредерики при Лео невозможно, и оторвать Лео от Фредерики невозможно по-прежнему. Он сидит рядом с ней на шведском диване бледной расцветки, запустив руку в складки ее юбки. Появляется Вальтраут Рёде, молодая австрийка, невесомая, как птичка, с каштановыми кудрями и лицом лепестковой нежности. На губах играет застенчиво-спокойная улыбка. Она сообщает: Лиззи купается, Саймон у себя в комнате. Говорит Лео, что сейчас принесет ему чай и torte.
– Торте? – не понимает Лео.
– Торт. Я сама готовила. Вкусный.
Фредерика оглядывает комнату. По всем стенам книги, книги, книги. Она украдкой вздыхает. Томас спрашивает ее об отце, она отвечает, что от него никаких известий. Александр рассказывает, что тот с ним несколько раз связывался – по делам комиссии Стирфорта.
– Он в своей стихии, – говорит Александр. – Внуки, дома на пустоши, вечерние занятия. Мы-то беспокоились: как он переживет, что остался не у дел? А он в своей стихии.
Вальтраут возвращается с подносом, на котором стоят чашки с чаем, потом приносит шоколадный торт. Не устояв перед тортом, появляется Саймон Пул, длинноногий паренек с изящной шеей и каштановыми волосами с блестящим отливом, спадающими на лоб. Застенчивый, но вежливый, он здоровается с гостями. Вальтраут говорит Лео, что Саймон хочет показать ему свою железную дорогу. Саймон дружелюбно бормочет что-то в подтверждение. Вальтраут, чей словарный запас разнообразнее, чем можно заподозрить по ее акценту, рассказывает, что железная дорога – это три полотна, поворотный круг, две станции и пульмановский вагон. «Я сейчас еще стрелки по-новому наладил», – добавляет Саймон. То ли малыш убеждается, что Вальтраут и Саймон люди приветливые и безобидные, то ли он устал держаться за мать, то ли шоколад подействовал умиротворяюще, так или иначе он позволяет себя увести. Фредерика замечает, что руки у нее дрожат. Она единым духом выпаливает, что не может говорить при Лео, не может вернуться к его отцу, что ей нужна работа, нужно начать все сначала, что она никак не сообразит, как быть с сыном.
– Вернуться я не могу, оставить с собой не могу, отправить обратно не могу. Я ничего не соображаю! – твердит она, а Томас и Александр смотрят на нее ласково и озабоченно.
Как и надеялся Александр, Томас предлагает пока пожить у него. Места достаточно – по крайней мере, пока старшие мальчики в Блесфорд-Райде. Он, Вальтраут и Фредерика могут присматривать за Лиззи, Саймоном и Лео и заниматься каждый своим делом. Он может устроить Фредерике курс в Институте Крэбба Робинсона: у преподавательницы тяжелая беременность, ей велели посидеть дома. «Развитие романной формы» или что-нибудь такое.
– Насколько я тебя знаю, это по тебе, – говорит Томас Пул и неосторожно добавляет: – Это, надо думать, наследственное.
– Я давала себе слово никогда не преподавать, – признается Фредерика.
– Кто из нас такого слова не давал? – возражает Александр.
– Я ведь только предлагаю, – говорит Пул.
Фредерика обводит взглядом книги.
– Да нет, – говорит она. – Я не отказываюсь. Я как Саймон и Лео, когда увидели шоколадный торт. Жадность обуяла. Жадность, и все.
А былого азарта в лице нет, замечает про себя Александр.
Томас интересуется, как идут дела у Александра в комиссии Стирфорта. Александр рассказывает: работа увлекательная, и это, похоже, общее мнение. Есть опасения, что, если на выборах произойдет смена правительства – а это неизбежно, – комиссию могут распустить. Александр загорелся еще и потому, что ему нравится наблюдать, как по ходу работы складываются отношения между людьми: возникают союзы, вспыхивают споры, то мелкие треволнения, то недоразумения. Копают глубоко: сам Александр уже посетил и будет посещать школы в городах больших и маленьких, процветающих пригородах, в сельской глуши, начальные школы, школы для подростков. Каждый судит об учебе и образовании по своему опыту, вспоминая свои школьные годы, рассуждает он, заглядывая в задумчивое лицо Пула, сосредоточенное лицо Фредерики, словно желая убедиться в их поддержке.
– Нам всем казалось, что жизнь – она не в классе, она где-то там, вот в чем все дело, – говорит он.
Ему вспоминается назойливый дух неизбывной скуки, которую навевал бурый линолеум, пыльные окна, томительно медленное тиканье часов, кляксы и росчерки въедливых чернил. И сквозь эту безбрежную бурую муть и унылый меловой туман вдруг что-то проблеснет: теорема какая-нибудь, последние строки хора у Еврипида, Гамлет, произносящий: «Слова, слова, слова». Это настроение улавливает он и сейчас – в средних школах. А вот в начальных что-то происходит – переворот, ни больше ни меньше: появляются новые представления о том, что такое дети, каковы их способности. Иногда кажется, признается Александр, что он и его коллеги, как Алиса, очутились в мире, где жизнь ярче, вроде Страны чудес или Зазеркалья: какие бумажные леса в убранстве из стихов и нарисованных птиц, какие картонные башни, какая многоцветная целеустремленность, созидательность, жажда пробовать новое!.. Он общается со специалистами по развитию речевой способности и психологии обучения и теперь знает: по части порождения речи ex nihilo[68]68
Из ничего (лат.).
[Закрыть] маленькие дети творят чудеса, и когда это поймут все, муштровать и натаскивать школьников не придется…
– Да, очень любопытно, – замечает Томас. – Лишь бы эта лихорадочная деятельность кому-нибудь не повредила. Взять хотя бы Саймона, моего сына. Он, по-моему, тихоня по натуре. А говорят, что он не умеет найти с другими детьми общий язык.
– Мне кажется, мальчик умный, – осторожно говорит Александр.
– Я тоже так думаю. Но он, похоже, психологически неблагополучен сильнее, чем я подозреваю. Я пытался сделать так, чтобы он и без матери рос нормально…
У Александра внутри что-то обрывается и летит кувырком. Он почти убежден, что Саймон – Саймон Винсент Пул – не сын Томаса Пула, это его сын. В этом была почти убеждена мать Саймона Элинора и после его рождения не без удовольствия объясняла Александру, на чем именно основана ее почти убежденность. С тех пор мысли о Саймоне не давали Александру покоя. Когда он был еще маленький, а Элинора еще жила с мужем и детьми, малыш вызывал у него тревогу и озабоченность – стараниями Элиноры, которая, то соблазняя, то насмешничая, нарушала его душевное спокойствие. Он опасался за свою дружбу с Томасом, которой он дорожил и которая в конце концов победила. Когда Элинора ушла от мужа, Александр несколько месяцев мучительно пытался ответить на вопрос, в каком положении окажется Саймон: отец ему не отец, мать его бросила. Желания сблизиться с Саймоном не было. Маленьких детей он не любил. Саймон рос вместе с братьями (пусть и сводными братьями), жизнь его устоялась. Как-то нелепо заявить права на сына, когда оснований для этого – разве что память о минутном наслаждении и случайная комбинация генов. Если комбинации генов бывают случайными. И встреч с Саймоном он избегал.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































