Текст книги "Стоять на краю страшнее…"
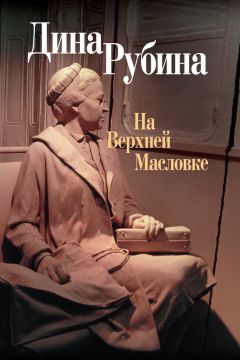
Автор книги: Дина Рубина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Дина Рубина
Стоять на краю страшнее…
Дина, кто-то из знаменитостей сказал однажды, что смерть – огромное событие в жизни писателя. Думаю, и в судьбе любого человека она – огромное событие, но жизнь писателя отличается от жизненного пути других людей тем, что после него остаются книги, и вот их-то дальнейшая жизнь во многом зависит от судьбы и таланта их творца. Поэтому и отношение к смерти у писателя иное. Как вы считаете, смерть – это дар или наказание?
Если б мы могли узнать при жизни: смерть – дар или наказание, – это в корне изменило бы все наше существование. Вы мне задали один из основополагающих вопросов философии, над которым мучались тысячелетьями великие умы, и думаете, я сейчас отвечу, дам рецепт, заверю в чем-то непреложном? И, кроме того, смерть ведь разная бывает: величественная, ничтожная, своевременная или наоборот… Все зависит от обстоятельств конкретной человеческой судьбы. Смерть (небытие) всегда так по-разному трактовалась людьми и религиями! И как дар – мученику, и как кара – преступнику… Что касается того, что смерть писателя – огромное событие в его биографии… Да, – скажу я осторожно… При условии, что свора исследователей и литературоведов, да и просто любопытных не вооружится лопатами, кирками и ломами в воодушевлении полномасштабных раскопок. Кажется, у Лоренса Даррелла где-то написано: «Смерть художника – не повод для раскопок. Должно только улыбнуться и отдать поклон».
А какие, помимо страха, чувства она вызывала в вас?
Сейчас – смирение. В конце концов, что есть человек, говорили еврейские мудрецы, как не звено в цепи между Адамом и Мессией? А знаменитый раби Нахман из Брацлава говорил: «Смертник сидит в повозке, влекомой двумя лошадьми, которым известен путь к виселице. Эти лошади зовутся День и Ночь, – и как скачут они, как несутся!»
В детстве же, особенно, когда я еще не догадывалась, что умирают все, и я, в том числе, умру, – смерть была для меня громадной величиной: страха, тайны, бездны… Я в детстве жила в огромном дворе с кучей ребятни. И вот в одной семье умер ребенок, младенец. Семья пригласила священника совершить обряд отпевания, почему-то в квартире. Двери, естественно, были открыты, и вереница соседей потянулась в эту квартиру. Не говоря уже о нас, малышне. Мне было лет девять. Я тоже побежала – было страшно любопытно. Во-первых, потрясающе интересна эта неполадка в механизме природы: ведь умирают только старики, как же это произошло, что вдруг не с того конца отрезало? Во-вторых, опять же, поп. В длинной черной рясе.
Квартира была забита людьми, они толкались в коридоре и комнате, приходили, уходили, глазели на маленький гробик… Поп зычно нараспев читал не по-русски, а на таком как бы передразнивающем русский языке… Ну, и для поминок, вероятно, родственники наварили кастрюлю киселя. Она стояла в кухне на плите – огромная розовая эмалированная кастрюля. Поп то и дело прерывал свое пение, склонялся к плачущей бабке покойного ребенка и просил: «Еще кисельку, а?»… Она вытирала слезы, бежала в кухню, черпаком деловито наливала киселя в стакан и несла в комнату, где минут через пять сцена повторялась.
Странно не то, что меня, девятилетнюю, эта ситуация поразила каким-то непотребным смешением слез с кисельком, – странно, что и сегодня это воспоминание заставляет меня думать о природе человеческого восприятия смерти.
Но с годами она как-то уменьшается, съеживается; не то, что над плечом маячит, но присутствует в сознании всегда, на всякий случай. Вот так, на всякий случай зачем-то носишь с собой какие-то вещи, документы – вдруг пригодятся…
Корректирует ли она ваши поступки и решения, и в глобальном и в бытовом смысле?
В бытовом смысле любой вменяемый человек на Западе после сорока лет уже решает все эти проблемы с адвокатом. У него уже на всякий случай записано – что должно произойти с семьей и имуществом после того, как – извините за подробности – гроб с его телом опустят в могилу. Оставим пока глобальный смысл Искусству и Вселенной, которая, кстати, и не догадывается, что в ней живут люди.
В России, как известно, издавна почитали и предпочитали глобальный смысл разумному устройству человеческой жизни (и смерти!), игнорируя человека и его нужды. Но Россия – великая страна с огромным населением, она может себе это позволить.
Израиль неизмеримо меньше. Так вот, в израильской армии первое, что выдают солдату – личный номер, который носят в капсуле на груди, для опознания тела в случае гибели; такой же личный номер вделан в подошвы ботинок – на случай, если оторвет ногу, ну, и так далее…
Не хочу сказать, что смерть в Израиле привычней и обыденней, чем в России, но у нас она, конечно, ходит на более коротком поводке…
Одна моя знакомая, – она много лет живет в Израиле – рассказывала о сцене на Тель-Авивском пляже, свидетельницей которой стала году эдак в восемьдесят шестом. В те годы не так часто, как сейчас, но время от времени взрывались бомбы в разных многолюдных местах. Бывало, люди обнаруживали чью-то бесхозную сумку в автобусе, в магазине, на пляже… Немедленно вызывалась полиция… Но в те годы еще не был изобретен робот, который сегодня приближается к подозрительному предмету и расстреливает его. В то время с этим работали живые люди, саперы, и можете вообразить – как это было опасно. И вот, на пляже, в Тель-Авиве, в самый разгар сезона среди дня обнаружена сумка. Мгновенно с воем примчалась полицейская машина, народ был разогнан на безопасное расстояние, и парень в спецодежде, сапер, стал медленно приближаться к сумке, брошенной на песке. Вокруг стояла поразительная тишина, в которой слышны были только крики чаек. Замерев, люди следили за каждым движением этого парня. Даже дети молчали… Прошло несколько мучительных минут… Наконец, все облегченно ахнули, задвигались, засмеялись: в сумке оказались детские вещи, забытые какой-то рассеянной мамашей. И надо было видеть, как, все еще стоя на коленях, смеялся этот парень, сапер, как встряхивал, прижимал к лицу распашонки и ползунки!..
…Да нет, решения, пока живу и надеюсь пожить еще, я принимаю вполне адекватно, сообразуясь с, так сказать, текущим моментом. Не стану заверять, что, чистя зубы по утрам, непременно помню и думаю о смерти, но – повторяю – как любой западный человек, – имею в виду и этот финт ушами. То есть – страховки, то, се, чтобы дети не выплачивали, высунув языки, квартиру… Словом, в бытовом смысле я абсолютно вменяемый человек. В то же время некий писательский интерес к тому, что произойдет post factum, тоже присутствует. Писатель ведь, между нами говоря, с молодости присматривается – на кого взвалить хлопоты по подготовке посмертного собрания его сочинений. Кто-то из писателей – чуть ли не Светлов – пошутил однажды, что у литератора должна быть хорошая вдова, тогда его произведения останутся жить подольше. Пример – Елена Сергеевна Булгакова.
У каждого народа свои ритуалы, свое отношение к смерти. Вы родились и выросли в России, сейчас живете в Израиле. Вероятно, вам уже приходилось присутствовать там на похоронах. Сильно ли отличается ритуал похорон от православного?
Отношение евреев к смерти не допускает никакого заигрывания с ней, никакого любования мертвым телом, пусть даже молодым и прекрасным. Никакого украшательства. Помните? – «Оставьте мертвых мертвым»… Это из еврейской традиции.
Ритуальный аскетизм, доходящий до суровости. Обескураживающая простота и мгновенное прощание – до захода солнца. Полностью покрытое тело, быстрое предание земле, горсть земли (песка, глины), брошенная в могилу, короткая поминальная
...
конец ознакомительного фрагмента
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































