Текст книги "Кальвин"
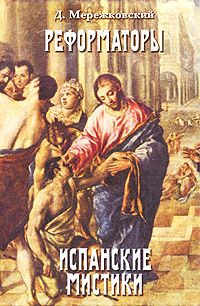
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
40
Как ни сказочен, призрачен образ Кальвина на единственном, кажется, исторически подлинном портрете его в Женевской Библиотеке, но, может быть, в тайну лица его он глубже всего проникает. Ужас Предопределения – в трупно-зеленой бледности этого лица, а на красных, точно свежей, только что высосанной кровью запачканных губах Вампира – запекшаяся кровь Михаила Сервета, Жака Грюэ, братьев Компаретов и скольких еще замученных жертв.[412]412
Doumergue, 27.
[Закрыть] Но, судя по другому, мало известному, резанному на дереве, портрету Кальвина, он жилист, костляв, сух, – кожа да кости, но крепок – Кощей Бессмертный – кремень. «Худенькое тельце твое скорее знак, чем тело», – говорит ему один из друзей (ton petit corps est un signe plutôt qu'un corps)».[413]413
Moura et Louvet, 332.
[Закрыть] Семь смертельных болезней гложут, гложут его и все не могут изглодать. «Мое здоровье – вечная смерть, – говорит он, в сорок лет, и в те же годы. – Я все еще молодой человек (ma santé est une mort perpétuelle… combien que je sois jeune homme)».[414]414
Henry, III, 572.
[Закрыть] Это соединение старости с молодостью, может быть, самое страшное в нем, потому что кажется нездешним, сверхъестественным. Слишком понятно, что не только взрослые пугаются, но и маленькие дети плачут от страха, завидев на улице этот движущийся, желтой кожей обтянутый скелет в черном длинном плаще-таларе женевских проповедников, в плоском берете черного бархата, с длинной, узкой, черной, как будто приклеенной к щекам бородой и с глазами, горящими, как вставленные в пустые глазницы раскаленные угли.[415]415
Stähelin, III, 366–367.
[Закрыть] Мимо людей он проходит, не глядя на них и низко опустив голову, как будто стыдясь чего-то: так, может быть, выходцы с того света перед живыми людьми самих себя стыдятся.
Главное впечатление от этих двух лиц, призрачного и действительного, – тишина, но где-то в их самой тайной глубине, а на поверхности – буря. «Часто я бываю увлекаем такою бурею гнева, что не могу ей противиться. Но, по справедливости, не должно бы меня обвинять в том, что я делаю невольно (multis turbinibus invalvor)».[416]416
Henry, I, 460.
[Закрыть] «Больше всего я вам благодарен, досточтимые Сеньоры, за то, что вы всегда терпели так кротко мою безумную вспыльчивость», – скажет он, умирая. «Этот мой грех я от всей души ненавижу, так же, как и все остальные, но твердо надеюсь, что Господь мне его простит». «Ни один из многих и великих грехов моих не стоил мне такой тяжкой борьбы, как вспыльчивость. Благодарю Бога за то, что мои усилья не были совсем тщетны, но все же этого дикого зверя я еще не вполне в себе укротил», – говорит он и в середине жизни.[417]417
Stähelin, II, 462, 383.
[Закрыть] «Я вырвался из себя самого, как бешеный конь из-под всадника (je me suis échappé à moi-même)».[418]418
Doumergue, 17.
[Закрыть]
«Я всегда прощал и забывал тягчайшие обиды врагов моих и могу сказать по совести, что, как бы безбожные люди ни оскорбляли меня, – нет у меня во всем мире ни одного личного врага».[419]419
Stähelin, II, 381.
[Закрыть] Когда какая-то женщина назвала его почти в лицо «злыдней» и была за это предана суду, он за нее вступился и ходатайствовал об ее помиловании.[420]420
Henry, I, 455.
[Закрыть] Много ли было таких случаев, трудно сказать, но слишком часто он отождествлял не только свое учение, но и себя самого с Богом. «Бога они в моем лице оскорбляют». – «Там, где о чести Бога моего дело идет, я предпочитаю бешеный гнев никакому».[421]421
Stähelin, II, 386; Henry, I, 464.
[Закрыть]
Кто-то из членов Консистории назвал его «лицемером», и он тотчас потребовал, чтобы обидчик был предан суду, а несколько человек, смеявшихся во время проповеди его, посажены были в тюрьму. Таких случаев за один только год – больше трехсот.[422]422
Henry, II, 216–217, 444.
[Закрыть]
«Надо делать людям добро вопреки их воле (il faut procurer leur bien malgré qu'ils en ayent)».[423]423
см. сноску выше.
[Закрыть] Это опасное правило приводит его нечувствительно к оправданию пыток. «Пытка» и «допрос», quaestio, так же неразличимы на словах, как на деле. «Что касается пытки, то, по достоверным свидетельствам, вся она сводилась к тому, что пытаемых приподымали от земли, подвесив их за руки».[424]424
Stähelin, I, 474.
[Закрыть] Кальвин ссылается на «достоверные свидетельства», потому что сам он слишком «чувствителен», чтобы смотреть на пытки, и умалчивает о том, что у вздернутых на дыбу вывихнутые суставы трещат.
«Ты знаешь нежность, чтобы не сказать „слабость“, моей души», – говорит он одному из друзей своих.[425]425
Benoit, 169.
[Закрыть] «Когда я вспоминаю о его любви ко мне… я не могу не чувствовать, что потерял в нем больше чем друга – как бы родного отца», – вспоминает Бэза.
В 1541 году в Страсбурге умер от чумы любимый ученик Кальвина, Луи де Ришбур (Richebourg). «Смертью вашего сына я был так потрясен, – пишет он отцу его, – что несколько дней ничего не мог делать, как только плакать и рыдать, и хотя перед Богом меня еще укрепляла сила Его, но перед людьми я был, как ничто, и для всех предстоявших мне дел, как полумертвец… потому что этого прекраснейшего юношу, погибшего во цвете лет, я любил, как родное дитя».[426]426
Stähelin, I, 177–178.
[Закрыть] Так люди не лгут, и если Кальвин действительно чувствовал так, то еще неизвестно, что перевесит в последнем Божьем суде над ним – зло или добро.
41
Высшего сияния достигает эта красота внутреннего лица его в том, что он называет «святою дружбою (sancta amicitia)».[427]427
Henry, III, 572.
[Закрыть]
Тот, кто был ему другом однажды, остается им навсегда. Дом его на улице Каноников окружен множеством этих вечных друзей, потому что все они хотят жить поближе к нему.[428]428
Doumergue, 58; Op., XXI, 65.
[Закрыть] «Кальвина, за несколько дней до смерти его, посетила благородная дама из одного прекрасного города Франции, слышавшая проповедь его лет тридцать назад; посетил его также один почтенный старик, бывший другом его в годы учения и не видевший его после изгнания из Франции». Оба они хотели его увидеть еще раз перед тем, как умереть, и «он пригласил их к ужину, чтобы порадоваться с ними в ожидании воли Божьей».[429]429
Op., XXI, 103.
[Закрыть]
Тот самый Меланхтон, которому последние годы жизни его с Лютером кажутся несносной тюрьмой, только одного желает – «склонить на грудь Кальвина усталую голову, чтобы на ней умереть».[430]430
Stähelin, II, 410, 455, 409.
[Закрыть] «О, если бы нам с тобой умереть в один и тот же самый день, чтобы друг о друге не плакать и тотчас же встретиться снова в небесном отечестве!» – пишет Кальвин одному из друзей своих, и другому: «Если бы Господь разрушил землю, чтобы установить на ней Царство свое, то мы с тобой и там были бы вместе, потому что узы дружбы нашей так святы, что разорвать их ничто не может».[431]431
см. сноску выше.
[Закрыть]
«Неземная любовь» у других, а у Кальвина – «дружба неземная».
«Даруй нам, Боже, смирение, да послужим Тебе, по воле Твоей, как открыл нам Твой Сын Единородный!» – молится он в жизни, и скажет в смерти: «Все, что я сделал, ничего не стоит (tout ce que j'ai fait n'a rien valu). Я знаю, что злые люди обратят эти слова мои против меня, но я повторю еще раз: все, что я сделал, ничего не стоит, и я – только жалкая тварь. Одно могу сказать: я всегда желал добра и ненавидел пороки мои, и корень страха Божия всегда был в сердце моем».[432]432
Moura et Louvet, 341; Stähelin, II, 466.
[Закрыть] Если пред лицом смерти люди не лгут, то опять неизвестно, что перевесит в последнем Божьем суде над Кальвином – зло или добро.
Нечеловеческий труд его – шестьдесят две книги в восьмую долю листа, около сорока тысяч печатных страниц, и двести восемьдесят шесть проповедей, сто восемьдесят шесть университетских лекций в год.[433]433
Stickelberger, 145.
[Закрыть] «Спал он очень мало, – вспоминает Бэза, – и как бы ни уставал, всегда готов был к работе. Даже в те дни, когда не проповедовал, приказывал, лежа в постели, приносить себе книги, с пяти часов утра, и диктовал; а когда проповедовал, то, вернувшись из церкви домой, ложился в постель, клал себе на живот припарки и снова диктовал. Так сочинил он почти все свои книги, и этот труд был для него блаженством». Но сам он считал его «праздностью». «Весь в жару лихорадки и в несказанной слабости, он все еще работал и говорил, что праздности своей стыдится», – вспоминает тот же Бэза. «Я со стыдом читаю похвалы моему трудолюбию, потому что я слишком хорошо знаю, как я ленив и празден».[434]434
Benoit, 156, 157, 344 b; Benoit, 159.
[Закрыть]
От преждевременных родов 1547 года Иделетта уже не могла оправиться и в течение двух лет медленно умирала на глазах у Кальвина, тоже смертельно больного.
«Бог Авраама и отцов наших, сколько веков люди на Тебя надеялись и не были постыжены! Надеюсь и я», – шептала она невнятно свою любимую молитву перед смертью. Больше Христа был для нее Авраам, а больше Авраама, может быть, Кальвин.[435]435
Stickelberger, 75.
[Закрыть]
Вечером 29 марта 1549 года началась ее агония. Кальвин должен был покинуть ее, чтобы посетить других умирающих, а когда вернулся к ней, она уже не узнала его. В восемь часов отошла так тихо, что никто не заметил ее последнего вздоха.[436]436
Stähelin, II, 438.
[Закрыть]
Если душа Кальвина – всегда обнаженная рана, то это горе было для него как прикосновение горящего угля к ране. Но видно по его несокрушимой твердости в нем, что он – один из самых мужественных людей, какие только были и будут в мире.
42
Два великих Книжника, Умственника, «Интеллигента», по-нашему: первый – св. Августин, второй – Кальвин, отец бесчисленно расплодившегося и весь мир наполняющего племени нынешних «интеллигентов». Самое глубокое, детьми от отца унаследованное свойство их – отвлеченность, умственность – преобладание «металлического», мертвого, над живым, «растительным». Меру этой отвлеченности лучше всего дает отношение Кальвина к детству. Что такое для него дети? «Маленькие кучи грязи (des petites ordures)».[437]437
Op., XXXII, 498, XXXIV, 549.
[Закрыть]
Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфей, 18:3) —
что это значит, меньше всего понял Кальвин.
В 1530 году появилась книга Коперника о круговращении Земли. За тридцать лет Кальвин не удосужился ее прочесть. «Небо вокруг Земли вращается», – пишет он в последнем издании, «Установления христианства».[438]438
Stähelin, II, 355.
[Закрыть] В звездах на небе так же ничего не понял, как в детях на земле.
Чтобы почувствовать преобладание «металлического», мертвого, над живым, «растительным», в Кальвине, стоит только заглянуть в главную и, в сущности, единственную книгу его, «Установление христианства».
«Я в моих писаниях обладаю сжатою краткостью и остаюсь всегда твердым в выражении того, что хочу выразить», – хвалится он (en mes écrits j'ai une brièveté restreinte et demeure toujours bien ferme et arrêté à traiter le point que j'ai une fois pris en mains)».[439]439
Henry, I, 462.
[Закрыть] «Я, по моей природе, довольно склонен к поэзии (je suis d'un naturel assez porte a la poesie)».[440]440
Moura et Louvet, 195.
[Закрыть] В этом он ошибается. Но у него есть то, что, может быть, не хуже красоты и не меньше поэзии, – сила. «Царственная краткость» (imperatoria brevitas) – главный признак этой силы. Та же красота у него, как у Левиафана чудовища:
Не умолчу о… силе его и красоте… Крепкие щиты его – великолепие… один с другим, лежат плотно, не раздвигаются… На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас… Нет на земле подобного ему… Он – царь над всеми сынами гордости (Иов, 41, 4–26).
Но вся эта красота и сила Кальвина напоминают иногда страшный «металлический сон» великого «городского поэта» наших дней:
Сон мой был полон чудес,
потому что, по прихоти странной,
я изгнал из него навсегда
все живое, растущее,
и упивался лишь камня, металла, воды
опьяняющим однообразием…
И все – даже черный цвет —
было ярким, сверкающим, радужным;
и воды заключали славу свою
в луче, затвердевшем в кристалл…
И не было ни одного светила,
ни солнца, даже на краю небес,
чтобы эти чудеса озарять,
лишь внутренним светом сиявшие,
И над всем их движением царила, —
новизна ужасающая, —
все для зренья, для слуха ничто, —
тишина бесконечная.
Бодлер. «Парижский сон». Цветы зла.(Ch. Baudelaire. Fleurs du mal, СII. Rêve parisien).
«Вечно-женственного» Кальвин, «умственник» так же не понимает, как «Вечно-детского».
Долго не хочет верить, что гнусный, рыжий, горбун, восьмидесятилетний Фарель, женился на восемнадцатилетней девушке, а когда, наконец, поверил, то «онемел от удивления». «Года еще не прошло, как он мне сам говорил, что надо быть дураком, чтобы жениться в такой старости на молоденькой девушке».[441]441
Stähelin, II, 407.
[Закрыть] А года через два Кальвин узнал, что невестка его, жена брата Антуана, десять лет бесчестила дом его прелюбодеянием с таким гнусным горбуном, как Фарель. В городе знали об этом все, кроме Кальвина. Когда же, наконец, узнал и он, застав любовников на месте преступления, то онемел от удивления, еще большего, чем при известии о женитьбе Фареля.[442]442
Op., XVI, 382.
[Закрыть] Может быть, на одно мгновение открылись у него глаза, и он вдруг увидел, как при блеске молнии, целую половину мира, которой никогда раньше не видел. Но молния потухла, и он снова ослеп, – впрочем, не совсем, потому что каким-то вторым, «ночным зрением», видел всегда и ту, для его «дневного зрения», невидимую, половину мира, и еще потому, что он – слепой, отвлеченный «интеллигент», «умственник», только в одной половине существа своего, а в другой – великий «реалист» – деятель.
«Должно учиться не мыслить, а жить». «Если тех, кто слушает меня, я не учу действовать, то я – богохульник» (il s'agit d'apprendre nоn à déviser, mais à vivre – comment. II Timoth. 3, 16: «Si je ne procure pas l'édification à ceux qui m'écoutent, je suis sacrilège)».[443]443
Op., XII, 647.
[Закрыть] Только для отвлеченного «умственника» вся плоть мира ничтожна или презренна, а для жизненного деятеля та же плоть свята.
Кальвин издает строжайшие законы о рыночных ценах на хлеб, дерево, уголь, овощи, мясо и рыбу; и о том, чтобы все испорченные припасы немедленно выкидывались в Рону; и о проведении водосточных труб. Требует с церковной кафедры очистки «таких мест, о каких говорить непристойно» (de la propreté des latrines et de ces choses même dont il n'est pas honeste de parler)».[444]444
Moura et Louvet, 244.
[Закрыть] Строит великолепные больницы, странноприимные дома и богадельни. Основывает шерстяной и шелковый промысел – будущее богатство Женевы.
«Меньше всего мы видим то, что у нас под носом, – пишет он Магистрату. – Так как почти все окна в Женеве без перил и ставен, то маленькие дети, то и дело падая из окон, разбиваются до смерти». И, по настоянию Кальвина, объявляется торжественно, под трубный звук, Великим Глашатаем новый закон, чтобы все окна женевских домов снабжены были перилами и ставнями.[445]445
Stähelin, I, 371–372.
[Закрыть] Может быть, в эту минуту, маленькие дети кажутся ему уже не «маленькими кучками грязи», а чистейшим и драгоценнейшим из всего, что есть в мире.
После невылазной грязи и удушливого смрада городов – особенно таких больших, древних и почтенных, как Рим, Лондон, Париж, – путник входил в новую, чистую Женеву, в самом деле, как в «Царство Божие», и запах снега, веявший от Мон-Бланских ледников, был для него как бы запахом этого Царства. Город будущего, где люди заживут впервые не по-свински, в собственном смраде задыхаясь, а в чистоте, – вот что такое город Кальвина, Св. Женева.
Люди пятнадцать веков, как забыли, что значит «мыться»; Кальвин им это напомнил, и впервые снова «омылись» они – «крестились», потому что первый и глубокий смысл этого слова именно таков: «креститься» значит – «омыться», «очиститься».
43
«Там, где Бог является людям во всем величии своем, – самые гордые падают во прах, объятые смертным ужасом», – учит Кальвин. «Мы должны умереть, потому что увидели Бога», – говорили чада Израиля.[446]446
Stähelin, II, 415.
[Закрыть]
Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем; не ко тьме, мраку и буре; не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо не могли они выдержать того, что было им заповедуемо: «Если и зверь прикоснется к Горе, да будет побит камнями… (или поражен стрелою)». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живого, к Небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему Собору и Церкви Первенцев, написанных на небесах, и ко Судии всех, Богу (Евреям, 12:18–23).
Таков религиозный опыт Кальвина: Новым Заветом начинает он, а кончает Ветхим. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не прейдет из закона» (Матфей, 5:17–18). Что это значит, Кальвин понял, как никто. «Все, что людям нужно знать для совершенной жизни, Господь заключил в Законе так, что им прибавлять к нему ничего не остается». «Будем же во всем неподвижны (tenons-nous cois)».[447]447
Inst., 1, IV, c. X, 7; op. XXXV, 64.
[Закрыть]
Maran atha.
Господь грядет, —
в этих двух словах бьется вечное сердце христианства; перестанет биться – христианство умрет. Кальвин меньше, чем кто-нибудь, понял, что это значит. Вот почему Апокалипсис для него бессмыслица. В «Царстве Божьем» у него все, от водосточных труб до пыточных орудий, устроено так, как будто мир вечен, и Господь никогда не придет. Это тем удивительней, что высшее для него сияние святости – в кровавом венце Исповедников, и что пастырь их – он сам.[448]448
Benoit, 183.
[Закрыть] «Лучше вам сто раз умереть, чем покинуть то место, на котором вас поставил Господь. Но как мне стыдно, что нет у меня для вас ничего, кроме слов! О, насколько бы лучше мне с вами умереть, чем вас пережить и оплакивать! Но я знаю одно—что нельзя больше страдать, чем я за вас страдаю».[449]449
Stähelin, II, 397.
[Закрыть]
Мучим был за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились (Исайя, 53:5), —
этого никто не мог бы понять лучше Кальвина. Пристальнее, чем кто-либо, заглянул он в лицо Распятого и увидел в Нем брата: «Вот Он, Сын Божий, – наш Брат».[450]450
Op., LIII, 321.
[Закрыть] «Должен был Иисус в агонии бороться, лицом к лицу, со всеми силами ада и с ужасом вечной смерти, погибели вечной для Себя самого: иначе жертва Его за нас была бы неполной. Наше примирение с Богом могло совершиться только Его сошествием в ад».[451]451
Inst, 1. II, c. XVI, 10.
[Закрыть]
К Сыну Божию – Брату Человеческому – никто не подходил ближе Кальвина. Но вот подошел, заглянул в лицо Его, и прошел мимо – мимо Сына к Отцу. Этого он, конечно, сам не знает и, если бы это сказали ему, – не поверил бы, а если бы поверил, то сошел бы с ума или умер бы от ужаса.
В этом – нездешний, нечеловеческий, сверхъестественный, чудовищный грех Кальвина. Но, может быть, этот грех не вменится ему, потому что не он сам его совершил, а Кто-то – за него; не он сам пожертвовал собой, а Кто-то пожертвовал им для будущего, всемирно-исторического действия Трех.
44
В 1559 году, в Сочельник, Кальвин, проповедуя в переполненном соборе Св. Петра, должен был сильно напрягать голос, чтобы все могли его слышать. На следующий день, только что он сел обедать, сделался у него такой припадок кашля с кровохарканьем, что он должен был встать из-за стола. Раза три пытался возвращаться к нему, но кашель возобновлялся с большей силой, так что он вынужден был, наконец, лечь в постель. Позвали врача, и тот, осмотрев больного, сказал, что это чахотка.[452]452
Doumergue, VII, 168–169.
[Закрыть]
Вместе с этой болезнью возобновились и все прежние с новою силой: перемежающаяся лихорадка, кровавый понос, почечуй, камни в почках, камни в печени и такие головные боли, что он почти лишался чувств.[453]453
Moura et Louvet, 331.
[Закрыть]
Радоваться могли бы мщению все в женевских застенках запытанные: разнообразные муки терзали его, как раскаленные клещи, иглы, тиски и другие бесчисленные орудия пытки. Но если бы ему сказали, что все эти муки посланы ему для того, чтобы он покаялся в муках, причиненных другим, то он, вероятно, не понял бы и почувствовал себя невиннее, чем когда-либо.
В минуты крайних мук он подымал глаза к небу и, как будто с недоумением, спрашивал: «Доколе же, Господи? (Usque quo, Domine?)»[454]454
Henry, III, 578.
[Закрыть]
Может быть, надо ему было пройти сквозь какой-то нездешний очистительный огонь страданий и, чтобы подойти к тому огню, надо было пройти сквозь этот.
Как искусный палач наблюдает за пытаемой жертвой, чтобы не слишком скоро умерла и чтобы мука продлилась, так и болезни, терзавшие Кальвина: только что пытки достигали крайней степени, и он уже начинал надеяться, что смерть его избавит от них, как болезни давали ему отдохнуть перед новою, злейшею пыткою. Так суждено ему было промучиться пять страшных лет.
Только что ему становилось полегче, он снова начинал проповедовать, читать лекции, заседать в Советах, принимать посетителей со всех концов мира и, «ползком перебираясь с постели к рабочему столу», писал бесчисленные письма и новые книги. А когда сам уже не мог идти в Церковь, приказывал нести себя туда на кресле, потому что «хотел исполнить работу Господа до последнего вздоха».[455]455
Benoit, 142.
[Закрыть]
В 1560 году усилилось гонение на гугенотов во Франции. Всюду пылали костры, и мученики всходили на них несметными толпами. Но мученик величайший был Кальвин. Лежа в постели, он диктовал чуть слышным голосом утешительные письма к идущим на смерть. Но чувство стыда, что «нет у него для них ничего, кроме слов», росло в нем бесконечно.
5 декабря Франциск Первый умер.[456]456
Moura et Louvet, 320–321.
[Закрыть] Это была последняя земная радость Кальвина.
6 февраля 1564 года он произнес последнюю речь в общем Народном Собрании для выбора новых Синдиков. 6 марта в последний раз проповедовал в соборе Св. Петра, а 10-го принял у себя на дому нескольких городских и сельских проповедников. «Долго сидел в кресле молча, облокотившись привычным движением о стол, опустив голову на руку и закрыв глаза; потом приподнял кротким светом озаренное лицо и сказал тихим голосом, что надеется еще раз видеть их, недели через две. „Это будет наше последнее свидание, потому что я чувствую, что скоро Господь отзовет меня к Себе…“
В тот же день постановлено в Малом Совете, «чтобы весь женевский народ молился о здравии мэтра Кальвина и чтобы через брата его, Антуана, выдано ему было пособие в двадцать пять солнечных флоринов». Но хитрость не удалась: Кальвин, узнав о пособии, отказался от него, потому что «не заслужил его ничем».[457]457
Stickelberger, 159; Moura et Louvet, 330–333.
[Закрыть]
24 марта, в обычный день открытого взаимного суда – «Цензуры» – все женевские проповедники собрались в комнате больного. Он, как предсказал, чувствовал себя гораздо лучше.
Первого «судили» его, перечисляя все его грехи, явные и тайные: «гнев, упрямство, жестокость, гордыню». Он слушал молча, смиренно, сложив руки на груди, низко опустив голову, и ответил, что «удивляется благости Божией, избравшей такое недостойное орудие, как он». Потом и сам начал судить братьев, говоря каждому, по очереди, в лицо всю правду и обличая такие тайные раны совести, что им казалось, что не человеческому суду предстоят они, а Божьему. Хриплым, задыхающимся голосом, который часто прерывался кашлем, он говорил около двух с половиной часов и не только не чувствовал усталости, но ему даже сделалось лучше, и он объявил братьям, что «Господь продлит ему жизнь до следующего с ними свидания». Потом, начав говорить о некоторых темных словах Нового Завета, велел принести бумаги свои, долго вычитывал из них отрывки истолкования и спрашивал, что думают братья. Все они видели, что «он так побледнел, что боялись, как бы не лишился чувств; но видели также, что эта беседа так сладостна ему, что не смели ее прервать». На следующий день ему сделалось хуже, и снова началось кровохарканье.[458]458
Stähelin, II, 459.
[Закрыть]
27 марта он велел отнести себя в ратушу, на кресле, но сошел с него внизу у лестницы, поддержанный двумя друзьями, поднялся по ней и вошел в палату Совета, где, «стоя и сняв шляпу, благодарил высокочтимых Сеньоров за все оказанные ему благодеяния, особенно за всю доброту их, во время его последней болезни».
«Потому что я чувствую, – кончил он, – что в последний раз имею честь говорить с вами…»
«Он едва был в силах выговорить эти слова; голос его прерывался; он сам плакал, и плакали все»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































