Текст книги "Мой брат Том"
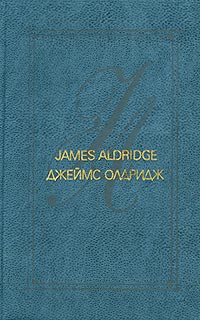
Автор книги: Джеймс Олдридж
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Том ответил на это оскорбление тем, что целых пять минут ожесточенно рылся в обломках, не говоря ни слова.
– Сволочи поганые! – разъяренно прошипела Пегги и вдруг повернулась и пошла прочь.
Ничего особенного во всем этом не было. В нашем городишке не привыкли стесняться в выражениях, и все мы, каждый по-своему, уже как-то приспособились к словесным перепалкам такого рода. Я, например, давно сам стал принимать участие в этих чисто австралийских забавах – в конце концов, я родился и двадцать лет прожил в Австралии, так стоило ли восставать против ее обычаев, тем более зная, что это ни к чему не приведет. Моя пятнадцатилетняя сестра Джин была вспыльчива от природы, но умела себя сдерживать – недаром она воспитывалась в дорогом пансионе. Один лишь Том оказался тут беззащитным, потому что его обнаженная совесть не допускала компромиссов. Из нас троих он больше всего походил на отца, но при этом в нем уже появилось нетерпимое отношение к тому порядку вещей, который охраняла общепринятая мораль, все равно – австралийская или английская, потому что он понемногу приучался смотреть на все с другой, новой точки зрения. Вероятно, тут сыграл свою роль старый Ганс Драйзер, железнодорожник из красных, а может быть, просто сказалось время, в которое мы жили: наше будущее, лишенное перспектив, лицемерие наших политических и церковных деятелей, кризис внешнего мира – мира, где японцы бесчинствовали в Маньчжурии, итальянцы применяли газ против абиссинского населения, а немецкие бомбардировщики превратили Гернику в развалины, пока мистер Иден[3]3
Иден, Антони – английский политический деятель; в 1935 году стал министром иностранных дел Англии
[Закрыть] отстаивал благородную позицию невмешательства.
Однажды я спросил Тома, что ему так нравится в старике Драйзере и его политических взглядах, и получил Обезоруживающий своей наивностью ответ:
– Он хочет спасти мир.
– А как? – поинтересовался я. – С помощью своих книжонок, что ли?
– Не знаю, Кит, но только я бы тоже этого хотел.
– Чего?
– Спасти наш окаянный мир.
Я расхохотался, а между тем это было сказано от самой глубины сердца.
Когда Пегги Макгиббон обратила против новоявленного спасителя мира свой здоровый австралийский (а не католический на этот раз) юмор, Том в качестве самозащиты еще плотнее замкнулся в своем сосредоточенном упрямстве и этим лишь сделал себя более уязвимым. На следующее утро, встретив Тома на улице, Пегги затянула кальвинистский гимн: «Трудитесь, ибо ночь близка…», а дальше перешла на сочиненный каким-то досужим католиком пародийный текст, содержавший довольно грубый намек на то, что кальвинисты днем честные люди, а ночью бессовестные жулики.
Пародия была смешная, но Том возмутился: во-первых, мы вовсе не были кальвинистами, а во-вторых, уж что-что, а в нечестности Тома никто не мог упрекнуть. Он не нашелся, что ответить и попросту оставил выходку Пегги без внимания, но до конца улицы его преследовал ее смех.
Так, на беду, оба они оказались втянутыми в глупейшую и уже не детскую ссору по воле отца и Локки, для которых это была разведка боем накануне генерального сражения, неизбежного, если Локки в самом деле совершил поджог. В сущности, война между ними назревала уже по меньшей мере два года, с благотворительного карнавала в пользу местной больницы, для которого Локки смастерил чучело пуританина, придав ему откровенное сходство с моим отцом. Чучело ехало на повозке, и у него было шесть рук: в одной оно держало Библию, в другой – корону, в третьей – петлю палача, в четвертой – мешок с золотом, в пятой – женскую юбку, а в шестой – цилиндр. Шутка была меткая, но несправедливая, даже нечестная, по мнению отца; ведь он только исполнял свои профессиональные обязанности, а главное, он не мог на эту шутку ответить. Привлечь Локки к суду за клевету было бы слишком глупо, и отец это понимал, даже если и мелькала у него такая мысль. Он только назвал подлецом председателя благотворительного комитета, допустившего появление чучела на улицах, перестал с ним разговаривать и даже отказался защищать интересы больницы, когда один фермер подал на нее в суд, утверждая, что ему без надобности ампутировали ногу (что, кстати, было верно).
Но не случись истории с чучелом, случилось бы что-нибудь другое – слишком уж накипели страсти и требовали выхода. И, видно, не за горами был решительный бой, потому что после своих раскопок на пожарище Том тоже пришел к выводу, что Локки совершил поджог. Это означало, что дело кончится судом, а уж тогда не хотел бы я оказаться на месте Локки Макгиббона.
5
Найти Том ничего не нашел. Но Дормен Уокер объявил отцу, что причина пожара установлена: кто-то налил бензин в большое оцинкованное корыто, стоявшее в ванной комнате, и поджег его через сточную трубу, отведенную оттуда в сад (канализации в доме не было).
– Чушь, – сказал отец.
– Говорите что хотите, а я буду стоять на своем, – заспорил Дормен Уокер.
– Том! Ты поддерживаешь эту нелепую версию?
– Да как будто дело на то похоже, – нерешительно промямлил Том. – Во всяком случае, бензин в корыте был.
– Это можно доказать?
– Как же теперь докажешь? – сердито сказал Уокер.
– А если доказать нельзя, так я больше и слушать об этом не желаю, – возразил отец.
Дормен Уокер, видно, хотел было ответить какой-то дерзостью, но сразу стушевался под взглядом отца – властным и высокомерным взглядом англичанина.
На следующее утро, только мы сели завтракать, в дверь черного хода замолотили кулаком, и послышался голос Локки Макгиббона.
– Квэйл! А ну выходи сюда, иммигрантская сволочь, я с тобой поговорить желаю!
Нам за столом было слышно каждое слово. Отец сорвался с места, швырнул салфетку и, распахнув кухонную дверь, крикнул стоявшему за ней Локки:
– Вон! Сейчас же вон! Вломиться ко мне в дом и позволить себе такие выражения!.. – Он просто заходился от гнева.
– Ах, скажите пожалуйста! – весело сказал Локки. – Вы бы лучше меньше беспокоились насчет выражений, Квэйлик, и больше бы думали, прежде чем пускаться на всякие подлые штуки. Где мое корыто?
– Какое корыто?
– Ваш Том еще с какой-то сволочью по вашему наущению выкрал из моего сгоревшего дома корыто. Где оно?
– Это гнусная ложь! – вскричал отец. – Сейчас же убирайтесь вон, не то я вас хлыстом отстегаю!
– Фу-ты ну-ты! – издевался Локки. Он, как и мой отец, был невысок ростом, и, стоя друг против друга, они походили на двух задиристых петухов, скребущихся в пыли, перед тем как схватиться насмерть. – Я требую, чтобы мне вернули мое корыто, – сказал Локки. – Это самое настоящее воровство. Если до вечера корыто не будет возвращено, я заявлю в полицию.
– Заявляйте! – взорвался отец. – Заявляйте, иначе заявлю я!
– Ну и сволочь! – небрежно бросил Локки, повернувшись, чтобы идти.
– Если вы еще раз скажете это слово, я вас ударю! – заревел отец.
– Сволочь и дурак! – выпалил Локки на прощанье и пошел к калитке.
Отец, скорый на угрозы, но не такой скорый на расправу – по природе он был враг всякого насилия – растерянно смотрел, как Локки, оскалив зубы, изо всех сил хлопнул калиткой, сел в свой серебристый «мармон» и укатил.
Остальные наблюдали эту сцену затаив дыхание. Моя мать была тихая, кроткая женщина, которую состарили раньше времени тоска по родине и постоянная забота о том, как свести концы с концами, но она сохранила гэльский юмор уроженки острова Мэн и передала его мне и моей сестре Джинни. Всем нам было смешно – всем, кроме Тома. Нас даже чем-то подкупало несокрушимое нахальство Локки. Но у Тома были все задатки будущего члена парламента, из тех, что высоко держат знамя оппозиции не только на заседаниях в палате, но и вне ее стен. Воевать так воевать.
Даже отец, вернувшись в кухню, расхохотался и несколько раз повторил, словно это была остроумная шутка, придуманная им самим:
– Корыто! Где мое корыто?
Мы все давно догадались, где это корыто. Очевидно, Дормен Уокер выкрал его ночью, чтобы с помощью химического анализа добыть необходимую улику; и я ожидал, что отец, возмущенный столь недостойными методами, тут же позвонит Дормену Уокеру и призовет его к ответу, но он только смеялся и, подняв голову, вопрошал небо:
– Где мое корыто?
– А все-таки это подло со стороны Дормена Уокера, – сказал Том. – Ведь наверно же он его ночью стащил.
– И поделом Макгиббону, если так, – твердо сказал отец.
Но Том чувствовал себя невольным участником подлости, и это не давало ему покоя.
Вероятно, стоит здесь еще раз подчеркнуть, что Том в эту пору ни к чему не мог относиться равнодушно. Ему было без малого восемнадцать – возраст, когда все приводит или в восторг, или в отчаяние; хорошее и плохое путалось в его переполненной душе. Он даже перестал ходить на танцы (хоть был недурным танцором), потому что усмотрел в этом развлечении долю притворства. А между тем физическая радость жизни бурлила в нем и просилась наружу, но он не знал никакого выхода для нее, кроме охоты да плавания.
Все подростки в Сент-Хэлен были хорошие пловцы, должно быть, потому, что речное купание летом служило как бы ритуалом, снимавшим с нас заклятие зимней спячки. Зимой вода Муррея была холодной, быстрой, недоступной и злой; летом, спадая, она становилась прозрачной и ласковой. Зимой, в полноводье, по реке ходили колесные пароходы, летом наступали время купания и рыбной ловли, и мы, как Том Сойер и Гек Финн, жили тогда только на реке и рекой. Том был одним из лучших пловцов среди городской молодежи, а лето в тот год выдалось жаркое, дни тянулись медленно в пыльной, размаривающей духоте, и по субботам мы все спозаранку спешили к Муррею, к глубокой заводи, где было особенно хорошо купаться. Посреди этой заводи торчал крохотный островок – восемь на пять футов, – прозванный Собачьим островом, потому что его очертания напоминали контур собачьей головы.
Летом, когда вода в реке спадала и обнажала Собачий остров, мы любили играть в такую игру: забравшись на островок, сталкивали друг друга в воду, и выигрывал тот, кому удавалось продержаться дольше. Задача, надо сказать, не из легких: земля на островке, намокнув, делалась такой скользкой, что при самом незначительном толчке устоять на ногах было практически невозможно. Том очень любил эту нехитрую забаву; вероятно, она заменяла ему радости миновавшей поры мальчишеских драк. Порой на Собачьем острове разыгрывались целые шуточные баталии. Том, сильный, ловкий, дольше других умел выдерживать натиск любого противника, но иногда в разгар борьбы на него вдруг нападал неудержимый приступ смеха, и он кувырком летел в воду.
В день, о котором идет речь, пеструю компанию юнцов, плескавшихся в заводи, впервые расколола вражда. Восемнадцатилетний боксер-любитель финн Маккуйл, поклонник и верный приспешник Локки Макгиббона, объявил, что он и его друзья решили больше не пускать на Собачий остров никого из Квэйлов. Финн был австралиец буйного, задиристого нрава, чуть ли не с четырехлетнего возраста стремившийся подражать своим кумирам – знаменитостям ринга. Его отец когда-то водил пароходы на Муррее, но, после того как по его вине разбилось судно на порогах Суон-Рэпидс, примерно в миле от города, он запил и опустился. Мать умерла еще раньше, и воспитанием Финна занимались от случая к случаю соседи и сердобольные монахини, а по сути дела, не занимался никто, вот он и вырос головорезом без всяких нравственных устоев. С девушками он вел себя развязно и нагло, и мне уже случалось видеть, как он в субботний вечер валялся пьяным на улице. Финн состоял при Локки чем-то вроде добровольного оруженосца или телохранителя, – возможно, в благодарность за то, что Локки готовил его в городские чемпионы в легком весе. Дрался Финн грубо. У него была привычка угрожающе шипеть, когда что-нибудь ему не нравилось, словно он собирался сокрушить предмет своего недовольства; он не мог никак отделаться от этой привычки и, выступая в организованных Локки матчах, каждый свой особенно удачный хук или свинг предварял коротким шипением, что значительно уменьшало его шансы сделать карьеру на ринге.
Финн и Том во многом были схожи, но во многом прямо противоположны, и, чувствуя это, они недолюбливали друг друга. Хотя Финн чисто по-австралийски гордился силой своего крепкого, мускулистого тела, они с Томом в детстве ни разу не подрались – до сих пор удивляюсь, как это так вышло. Должно быть, они друг друга побаивались; вернее, побаивались того, чем могла окончиться их драка. Теперь они были уже чересчур взрослыми, чтоб подраться просто так, без причины, но пока причин не было, удобный повод могла дать спортивная игра. И вот Финн Маккуйл, а с ним и его дружки – Джек Доби, по прозвищу Доби-Ныряла, Питер Макгилрэй и Форд Джонсон, все католики, но никто еще пока не враг, – бросили нам вызов. Том принял его с радостью. Мы все забрались на остров, Том сразу же столкнул двоих, в том числе самого Финна, двоих других столкнул я, и мы приготовились к следующей схватке.
Случилось то, что должно было случиться. К ним примкнули их приятели, к нам – наши. Из приятелей Тома оказались на месте близнецы Филби, отец которых был гуртовщиком, и Фред Драйзер, племянник старого Драйзера из железнодорожных мастерских. У меня тоже кое-кто нашелся. Словом, через несколько минут с каждой стороны уже дралось с десяток ребят, не брезговавших ничем, чтобы одержать верх в этой полушуточной-полусерьезной потасовке. Неразбериха голых рук и ног напоминала кучу земляных червей, сплетшихся в огромный тугой клубок, и кончилось дело тем, что мы так кучей и свалились в воду. Но, падая, Том оторвался, налетел на Пегги, которая стояла в стороне и криками подбадривала своих, сбил ее с ног и вместе с ней ушел на дно.
Том не заметил, кто это был, но почувствовал силу удара и еще под водой подхватил отяжелевшее тело и поволок. Пегги хорошо плавала, но удар оглушил ее. Вытащенная Томом на скользкий островок, она лежала на спине и не шевелилась. Мы все вылезли из воды и столпились вокруг. Том, наклонясь, отводил намокшие рыжие волосы с бледного лба в веснушках, и я хорошо видел, какое у него лицо и какое лицо у нее. Постепенно ее взгляд прояснился и, прояснившись, упал на Тома. И Том, взволнованный, растерявшийся, с внезапной тревогой в сердце ответил на этот удивленный взгляд, и я понял, что его беспокойство о ней встретилось с ее неожиданным прозрением, открывшим ей Тома, которого она не знала, – доброго, честного юношу с чуть угловатой, но неподкупной душой, – а может быть, и еще что-то в нем открывшим, неведомое даже мне, и в этой встрече они по-новому увидели друг друга.
– Тебе плохо? – спросил он.
– Нет, – отрывисто бросила она и приподнялась. – Пусти, дай мне встать.
Напряжение разрядилось. Но тут же возникло новое: наши противники стали утверждать, что Том толкнул Пегги нарочно. Том, взбешенный, одним движением сбросил троих в воду. Среди этих троих был и Финн, которого Том считал виновником всего происшедшего. Но остальные набросились на Тома и повалили его, а сами попрыгали в воду и поплыли вдогонку Пегги, которая уже плыла, не оглядываясь, к берегу и звала их за собой. На берегу все ребята католики выстроились в шеренгу и по знаку Финна запели свою оскорбительную пародию на «Трудитесь, ибо ночь близка…» А мы в ответ тянули на разные голоса: «Куда, ах куда девалось корыто Локки? Где, ах где теперь нам его искать?»
Это пустяковое происшествие кое для кого окончилось совсем не пустяками – например, для Доби-Нырялы, одного из сторонников Локки, сломавшего в стычке правую руку у кисти. Доби, тихому, славному парню, вообще не везло в жизни. У него была хорошая голова, он блестяще окончил школу и после окончания пытался найти работу по себе, устроиться хотя бы клерком в банке, но отец его был простой торговец молоком, и сын мог рассчитывать только на место чернорабочего, хотя на контрольных испытаниях в банке он получил самые лучшие отметки. Из всей молодежи, резвившейся на Собачьем острове, только Доби-Ныряла и я имели в то лето работу, да и то временную. Доби работал на маслозаводе весовщиком и упаковщиком. Ему было двадцать лет, как и мне, и он прославился своими прыжками в воду с девяностофутовой высоты городского моста, на что никто другой не отваживался. За это его и прозвали Доби-Нырялой. Но со сломанной рукой нельзя было ни взвешивать, ни паковать масло, и бедняга потерял свое место.
У Пегги тоже не обошлось без неприятных последствий. Она успела наглотаться грязной речной воды и несколько дней пролежала в постели больная. Том все эти дни ходил сам не свой, что нетрудно было заметить.
В прошлом году я пережил внезапную и сокрушительную любовь к одной фермерской дочке, по имени Дженнифер, Дженнифер Оуэн, с которой до того и двух слов не сказал, поэтому мне сразу стало ясно, что происходит с Томом. Я ничуть не удивился, когда сестра принесла известие, что Тома видели вечером возле дома у реки, где теперь поселились Макгиббоны: он сидел под соседним эвкалиптом, глядя на дверь дома, как загипнотизированный тигр. Подобно Деметре, томящейся у ворот ада в ожидании Персефоны[4]4
Деметра – в древнегреческой мифологии богиня земледелия и плодородия; Персефона – дочь Деметры.
[Закрыть], Том ждал, не покажется ли на пороге дома Пегги, та Пегги, которую он впервые увидел несколько дней назад. Прежняя Пегги Макгиббон исчезла, точно сквозь землю провалилась, и появление новой казалось неизбежным.
Мне было любопытно: а что сейчас с Пегги? Заворожил ли ее, как и Тома, один щелчок пальцев неведомого божества? Много лет спустя Пегги рассказывала мне, что она тогда часами лежала, уставясь в потолок жалкой деревянной хибары, весь в грязных потеках, похожих на облака, и видела только невозможно голубые глаза и упрямый рот юноши, обещавшего стать замечательным человеком, – Тома Квэйла.
Неделя прошла, а они все еще не встретились снова. Я как-то увидел Пегги на вокзале, явившись туда, чтобы дать в газету заметку о прибытии членов жюри конкурса песни, большом событии в нашем округе. Пегги встречала миссис Крэйг Кэмбл, преподавательницу народных танцев, конкурс на лучшее исполнение которых должен был состояться через три недели, во время сельскохозяйственной выставки. Пегги собиралась принять в нем участие.
– Как здоровье, Пег? – небрежно спросил я, когда мы поравнялись.
Пегги метнула на меня строгий взгляд, как будто мой вопрос испугал ее. Оттого, что я был братом Тома, вероятно, даже во мне для нее появилось что-то новое.
– Лучше некуда, – сердито ответила она и убежала.
Их обоих томило желание встретиться, но где найти случай? По субботам все магазины и все шесть пивных на Данлэп-стрит, нашей главной улице, были открыты до девяти, и сюда приходили повидать знакомых, показать наряды, полакомиться пирожными, сладким горошком или мороженым, сделать покупки на неделю (если человек жил за городом), наконец, просто пофланировать взад и вперед по освещенному отрезку длиной в полмили, вдоль невысоких, опоясанных верандами магазинов. Под эвкалиптами и перечными деревьями теснились машины, повозки, верховые лошади; стайки привлекательных молодых людей перебрасывались дразнящими шуточками со стайками привлекательных девушек, и в быстрых взглядах, отражавших блеск субботних огней, жило обещание короткой, стремительной любви. Иногда оно сбывалось, иногда нет, но выпадали такие субботы, когда самый воздух на Данлэп-стрит был наэлектризован этими безмолвными посулами молодых глаз.
Разумеется, Пегги, легконогая, дерзкоглазая Пегги, была непременной участницей этих любовных парадов. Но в ту субботу, прогуливаясь вместе с сестрой по Данлэп-стрит, она там искала Тома; ей хотелось – просто так, из любопытства, – чтобы голубые глаза снова посмотрели в зеленые, а зеленые – в голубые. Но Том с некоторых пор не показывался больше на Данлэп-стрит по субботам: вместо того чтобы мерить павлиньим шагом тротуар, он сидел в это время в домике у железной дороги и слушал старого Драйзера, объяснявшего ему, что есть зло и что есть добро в современном мире.
Здесь была для него приманка посильнее зеленых глаз Пегги. Том оказался превосходным учеником для Ганса Драйзера, потому что уроки моральной ответственности, полученные от отца, помогали ему усваивать диалектику, проповедуемую старым немцем. Несмотря на свою нетерпимость, эксцентричный морализм отца тоже сводился к утверждению норм поведения человека в обществе. Мораль, догматически поучал он нас, есть форма самовыражения личности, стремящейся к добру; и если нормы закона всегда предполагают элемент принудительности, то нравственные нормы должны естественно возникать из внутреннего убеждения. Но, доходя даже до признания сократовской идеи, что никто не творит зла ради зла и злые поступки людей являются следствием их невежества, он все же утверждал, что нравственные нормы не заложены в человеке, а предписаны ему божьим соизволением. Во всей своей жизни он исходил из этого противоречивого сочетания рационалистической морали и слепой веры в бога и чуть ли не силой старался навязать свои представления нам.
Меня это, в общем, мало интересовало, но для Тома теперь все рухнуло, потому что никакая религия не могла дать ответ на вопросы, поставленные перед его совестью Драйзером. В быту мораль отца укладывалась в рамки мелочных и несложных житейских правил: ходить в церковь – хорошо, а богохульствовать – плохо, платить долги – хорошо, а играть в карты – плохо, быть добродетельным – хорошо, а пьянствовать – плохо; самое же главное, признавать существующий порядок вещей (бог, король, родина и власть закона) – хорошо, а подвергать его сомнению – плохо. На этот счету него имелись два непререкаемых авторитета: Библия и свод законов.
Но Том успел разочароваться и в том и в другом, хотя по-прежнему проводил целые дни в отведенном ему закутке отцовской конторы, ломая голову над актами английского парламента, решениями апелляционного суда и двадцатью семью томами судебных постановлений. Никакой кодекс, нравственный или гражданский, не мог разрешить проблемы, которые перед нами ставила жизнь. Все мы, как и Том, были во власти силы, более могущественной, чем бог, и подчинялись социальным законам, выходящим за пределы письменных уложений. Любой безработный паренек, из тех, что по субботам пьянствовали на Данлэп-стрит, в глубине души сознавал себя конченым человеком. Он знал, что его жестоко и грубо обманули, что он час за часом растрачивает впустую свою драгоценную молодость просто потому, что ему не на что ее с пользой употребить. Что могли мы придумать, сделать, как нам было сдвинуть те горы шлака, которые погребли под собой наши живые души? Но такого юношу, как Том, жаждущего определить свой нравственный долг перед людьми, бездумные попойки на Данлэп-стрит не заставили бы забыть о несправедливости, горе, нищете, царящих в мире. Нутро в нем горело, а старый Драйзер раздувал пламя, предлагая практические, хоть словно бы и несбыточные решения, каких никогда не находилось у отца. Старый немец говорил, что мир должен быть перестроен, а для этого нужно разоблачить его прогнившие основы, покончить с невежеством, классами, эксплуатацией. Нужно дать каждому человеку возможность плодотворно трудиться, думать, изобретать, нужно открыть перед ним все пути и создать новую, коллективную форму организации общества, которая упорядочит существующий сейчас в мире хаос.
Итак, в эту субботу Том не прогуливался по Данлэп-стрит в поисках случая вновь встретить взгляд зеленых глаз Пегги Макгиббон, а сидел в комнате старого немца, выходившей на реку, освещенную луной, и под многоголосый хор биллабонгских лягушек слушал рассуждения о моральной ценности прямых действий, подкрепленные цитатами из Гете[5]5
Гете, Иоганн Вольфганг (1749—1832) – великий немецкий поэт и мыслитель эпохи Просвещения.
[Закрыть], Лессинга[6]6
Лессинг, Готхольд Эфраим (1729—1781) – выдающийся немецкий писатель и критик эпохи Просвещения.
[Закрыть] и Шелли[7]7
Шелли, Перси Биши (1792—1822) – известный английский поэт, революционный романтик.
[Закрыть].
И, наслушавшись этих рассуждений, Том решил действовать. То, что он задумал, было совсем не просто, далеко не так просто, как может показаться теперь. На следующий день, в воскресенье, Том объявил за завтраком, что не пойдет в церковь.
– Вот как? – сказал отец, застыв, как ястреб в небе перед тем, как ринуться на добычу. – А можно узнать почему?
– Как поверить, что бог есть высшее добро, – произнес Том, – если он, щедро одаряя своими милостями избранных, в то же время еще щедрей сеет в мире зло?
– Что это такое?
Том поплотнее уселся на стуле, чувствуя потребность в опоре, потому что он готовился произнести нечто кощунственное.
– Это Вольтер[8]8
Вольтер, Франсуа Марк Аруэ (1694—1778) – великий французский писатель эпохи Просвещения.
[Закрыть], – сказал он.
– Вон из-за стола сию же минуту! – закричал потрясенный отец. – Как! В моем доме в воскресенье такие слова о боге! – бушевал он, вскочив и наступая на Тома, который не двигался с места. – Ты смеешь повторять здесь гнусности, которым тебя учит этот проклятый немец!
– Я не пойду в церковь, – снова сказал Том, и упрямая складка между его бровями обозначилась еще резче.
Я был изумлен его мужеством, зато отец не помнил себя от гнева; еще немного, и он дал бы Тому пощечину, но тут неожиданно вмешалась мать.
– Оставь его, он одумается, – сказала она отцу. – Не тронь мальчика, слышишь, Эдвард Квэйл!
Когда мать была недовольна отцом, она выражала это тем, что превращала его в некую постороннюю личность, именуемую Эдвардом Квэйлом.
– Одумается? – взревел отец. – Тут уж одумываться нечего!
Буря продолжалась, но Том сидел и молчал, твердо решив вытерпеть все до конца. Отец неистовствовал, грозил, взывал к небу, но он, должно быть, и раньше, догадывался, что Том сошел с его пути, что он ищет других путей, других решений проблемы, и лобовой спор тут ничего не может изменить. Том вышел победителем с помощью матери. В церковь он так и не пошел, а, захватив ружье, отправился на Биллабонг охотиться. За подстреленную лису или зайца можно было выручить немного денег, и он зло сказал, что заставит этого бешеного бога, с которым все носятся, заплатить за сегодняшнее утро.
Тем дело и кончилось, но я хорошо знал, что все это нелегко далось Тому. Как-то, с полгода назад, вернувшись поздно домой, я проходил мимо веранды, которая круглый год служила спальней раньше мне, а теперь Тому, и услышал его взволнованный шепот. Том молился, отчаянно и страстно молился отцовскому богу: «Не покидай меня, господи. Ради Христа, не отворачивайся от меня. Не дай мне окончательно утратить веру!..» Он словно обвинял бога в измене и в то же время звал его на помощь против Вольтера. Но, как видно, бог ему не помог, и вот сегодня дошло до открытого бунта. Я знал: как ни спорь и ни возмущайся отец, мать всегда возьмет Тома под защиту, даже в его богоборческих заблуждениях, потому что, глядя в ясные голубые глаза Тома, все женщины испытывали безотчетное стремление быть на его стороне. Не только мать заступалась за него – наша сестра Джин и та всегда спешила прикрыть его с фланга в любом семейном споре, даже если при этом надо было пойти против отца, которого она обожала. А теперь, верно, и Пегги Макгиббон подпала под действие этих голубых очей. Должно быть, светившаяся в них неподдельная, почти детская чистота внушала женщинам чувство уверенности; они знали, что он не предаст и не обманет. Том, к счастью, не подозревал о таких своих чарах.
Кроме того, мать твердо верила в способность Тома разобраться в себе самом, и я тоже в это верил. Я сочувствовал его бунту, но не пытался ему помочь. В свои двадцать лет я исправно посещал церковь, чтобы не ссориться с отцом. У меня не было никакого желания по примеру Тома расшибать себе лоб о несокрушимые викторианские стены.
Но вот какое соображение пришло мне на ум. Не только для отца, но и для Локки старый Драйзер воплощал в себе опасную угрозу благополучию всех порядочных людей. Если бы Локки Макгиббону и Эдварду Дж.Квэйлу предложили найти одного общего врага, оба указали бы на старого немца, и это еще осложняло положение Тома: ведь и Пегги согласилась бы с ними. Пегги была набожной католичкой и никогда не променяла бы свою религию на протестантизм Тома, – что уж тут говорить о его полном отречении от отца небесного.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!







































