Текст книги "Карлейль"
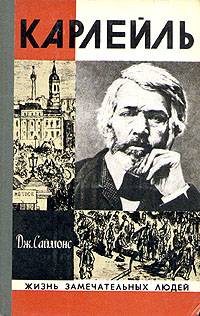
Автор книги: Джулиан Саймонс
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Счастливый философ, постигший «Нескончаемое Да», сделал и другие открытия. Он понял, что жизнь начинается по-настоящему лишь с освобождением от мирских пут, что человек рождается не для бездумного счастья, а для труда: и наконец, что в любой, даже в нынешней плачевной, ситуации всегда есть место для подвига во имя высокой идеи. И тогда на смену мраку и хаосу приходит цветущий и плодородный мир, в котором новообращенный должен напрячь силы своей души, чтобы (как сказано в «Сарторе Резартусе»): «Не быть более Хаосом, но быть Миром, а точнее, Миром Людей! Твори! Твори! И пусть результат будет самый жалкий, бесконечно малый – все же твори, во имя Господа! Это лучшее, что есть в тебе – так отдай его. Все выше, выше! Какое бы дело ни нашли твои руки, вложи в него все свои силы. Трудись, пока Сегодня длится, ибо грядет Ночь, которая положит конец всем усилиям».
Так думал и чувствовал Карлейль, когда он наконец предпринял попытку пером выразить то, что хотел сказать миру. Благодаря хлопотам Ирвинга он получил заказ от «Лондонского журнала» на статью о Шиллере; эта статья в процессе работы выросла в книгу. Кроме того, один эдинбургский издатель и книготорговец заказал ему перевод «Вильгельма Мейстера» Гете. Итак, в труде переводчика и биографа – труде мучительном, требующем полного отречения от своего «я», – искал он самовыражения.
Глава шестая. ...к Джейн Карлейль
Я буду очень покорной женой. Право, я уже начала привыкать к покорности... И это – мое последнее письмо! Что за мысль! Какой ужас – и какое блаженство! Ведь ты будешь всегда любить меня, не так ли, мой Супруг?
Джейн Бейли Уэлш – Томасу Карлейлю, октябрь 1826
В пятницу утром я получил «Последние речи и брачные слова одной несчастной молодой женщины – Джейн Бейли Уэлш». Какая в них восхитительная, почти лебединая музыка!.. Благословляю тебя в последний раз как твой Возлюбленный, это последнее мое письмо к Джейн Уэлш: уж скоро в первый раз благословлю тебя как Супруг, в первый раз поцелую Джейн Карлейль. Дорогая моя! Я всегда буду любить тебя.
Томас Карлейль к Джейн Уэлш, октябрь 1826
Переписка между Эдинбургом и Хаддингтоном все оживлялась. Некоторое время Карлейль не напоминал Джейн о своих намерениях, а писал ей просто как женщине, равной ему по уму. Он такой именно и считал ее, ей же приятна была эта вполне искренняя лесть. В мире, где все были снобами, скрытыми или явными, где акцент или покрой платья до сих пор служит мерилом духовных и социальных ценностей, в этом мире Джейн Уэлш страдала еще сравнительно безвредной, почти похвальной слабостью – интеллектуальным снобизмом. Ей хотелось, чтобы ее считали талантливой, образованной и остроумной; но еще больше ей хотелось встречаться с великими людьми, слушать их: вся ее юность была в какой-то степени подготовкой к этому, залогом того, что она не уронит себя в таком обществе. Она почувствовала великого человека в Карлейле или, по крайней мере, увидела, что он непохож на остальных, кого она знала. Десятки писем, которыми обменялись эти двое, составляют переписку, единственную в своем роде по игре противоположных темпераментов, по глубине ума, по яркости пафоса и юмора. От письма к письму мы видим, как капризный, жадный, дерзкий ум Джейн Уэлш постепенно укрощается и формируется под влиянием мощного, глубокого интеллекта Карлейля.
После своего визита в Хэддингтон Карлейль неизменно называет ее в письмах «милостивая сударыня», да и содержание писем с обеих сторон вполне безупречно с точки зрения миссис Уэлш. Она посылает ему свои переводы с немецкого; он поправляет их. Он приветствует ее намерение писать, поскольку она, как ему кажется, по природе своей обладает драматическим даром. Что она предпочтет: комедию или трагедию? Он пространно рассуждает о возможностях того и другого жанра и даже предлагает в качестве сюжета для трагедии историю Боадичеи, которую он тут же услужливо для нее пересказывает. Мисс Уэлш история Боадичеи не очень вдохновляет, но Карлейль ничуть не обескуражен, он предлагает с каждым письмом обмениваться стихами. Она соглашается и сразу же посылает перевод стихов Гете, затем другие стихи, переводные и собственные, и высказывает мнение, что осада Каркассоне, описанная у Сисмонди, которого она как раз читает, может послужить сюжетом для трагедии. Карлейль в ответ слал свои стихи, сожалел, что осада Каркассоне вряд ли подойдет (впрочем, если ей очень хочется, он соберет все возможные сведения об этом) и что, может быть, ей все-таки лучше попробовать написать Комедию.
Ни одна из сторон не признавала у себя поэтического таланта; да и стихи, которые они писали, интересны, пожалуй, в первую очередь тем, что в них раскрываются характеры их авторов. Карлейлю больше всего нравились эти стихи Джейн Уэлш («образы яркие, язык очень выразительный и звучный, а ритм музыкален и хорошо подходит к теме»): Люблю я горных рек паденье, Их рокот хриплый, громовой, И пенной ярости кипенье В борьбе с упрямою скалой... Люблю, когда, оков не зная, Душа вперед устремлена, Преграды на пути сметая – Горда, неистова, вольна!
За некоторой нарочитостью и подражанием Байрону нетрудно увидеть и свойственный самой Джейн Уэлш интеллектуальный романтизм. Отмечая дурной характер и внешнюю грубоватость Карлейля, кокетство и любовь к пересудам у Джейн Уэлш, мы не должны все же забывать главного: что они оба принадлежали к весьма малочисленному интеллектуальному авангарду своего времени. Нам трудно даже представить, каким источником вдохновения служил для них обоих каждый роман или философский трактат мадам де Сталь; понять, почему Руссо вызывал у Карлейля такое восхищение, смешанное с пуританским осуждением, а у Джейн – открытое обожание; оценить, насколько их общее поклонение Байрону было реакцией на ту злобу, которую он же вызывал у мракобесов. Когда Карлейль получил известие о смерти Байрона, он почувствовал, что как бы «потерял Брата», а его первой мыслью было: «Боже! Столько рожденных из праха и глины длят свое низменное существование до крайнего предела, а он, этот высочайший дух Европы, должен исчезнуть, не пройдя пути до половины». И Джейн Уэлш отвечала ему: «Когда мне неожиданно сказали об этом, я была в комнате, полной народу. Боже мой, если бы мне сказали, что солнце или луна исчезли с небес, это не произвело бы на меня такого впечатления ужасной и горькой потери для мироздания, как слова „Байрон умер!“.
Мнение, что это Карлейль склонял Джейн Уэлш к такой ереси, имеет мало оснований. Она, по ее же словам, сменила свою религию и стала «в каком-то роде язычницей», прочитав Вергилия немного старше десяти лет от роду; она прочла «Новую Элоизу» и полюбила ее дерзкую героиню (хотя и писала, что «не желала бы встретить таких странностей у моих знакомых женщин») еще до того, как Карлейль мог повлиять на нее. Однако же, когда Карлейль от Байрона, Руссо и мадам де Сталь перешел к Гете и Шиллеру, Ирвинг счел, что Джейн нуждается в защите от их вольнодумства. «Слишком много этой мебели, – сказал он мрачно, – наставили в изящной гостиной Джейн Уэлш». Он боялся, что, не имея более трезвых наставников, она совсем выйдет из-под его влияния.
Между тем известность Ирвинга давно вышла за пределы дружеского круга. Ораторская манера, казавшаяся нарочитой в Киркольди или Глазго, здесь, в Лондоне, произвела огромное впечатление. Чуть ли не с первой же его проповеди тесная церквушка в Хэттон Гарден наполнилась слушателями, а вскоре его успех стал общепризнанным, когда Кэннинг, в это время в зените славы, сказал в своей речи в Палате общин об одном из выступлений Ирвинга, что это была «самая блистательная проповедь, какую он когда-либо слышал». После этого в церковь Ирвинга повалили валом: кто из любопытства, кто послушать умного человека, кто в погоне за модой, кто из истинной набожности; но те, кто пришел впервые из одного лишь любопытства, стали приходить вновь и вновь, завороженные внушительной внешностью и значительностью сказанного, а иногда и необычностью его суждений. Несколько недель спустя Ирвинг был уже знаменит, его разносили на первых страницах газет, на него писали злые памфлеты. Его церковь каждую неделю наполнялась публикой из высшего общества, людьми обоего пола и самых различных убеждений; Теодор Хук заметил иронически, но не без оснований, что вход в эту церковь закрыт теперь только для одной категории слушателей – бедных верующих. Все улицы, ведущие к Хэттон Гарден, были на несколько миль запружены экипажами и толпами. Пришедшие спозаранку ждали в длинных очередях, шла бойкая торговля билетами по полгинеи за штуку.
Своим триумфом Ирвинг был в первую очередь обязан ораторскому дару; писатель Де Квинси высоко оценил его как «превосходящего во много, много раз всех ораторов нашего времени», и это мнение разделяли многие. Но публика равным образом восхищалась и словами, которые он произносил, и той страстью, с какой они произносились. С пылом новоявленного Савонаролы он бичевал свою фешенебельную публику за равнодушие к положению бедных, за утрату веры, а заодно и за ее собственную неправедную жизнь. Слушавших, возможно, и не убеждали его слова, но, во всяком случае, они нарушали их покой; и лишь немногие оставались глухи к вере самого оратора в его собственную боговдохновенность. Его первые книги, «Речи» и «Рассуждения в пользу грядущего Суда», мгновенно разошлись в трех изданиях, несмотря на непристойную брань газет и рецензентов, которые ругали и его язык, и вкус, и самоуверенность, и, уж конечно, не обошли вниманием его косоглазие.
Так сбылась половина его пророчества: он стал «первым в церкви», в том смысле, что на несколько месяцев он стал самым знаменитым оратором Британии. Карлейль встретил успех друга с искренней радостью, к которой примешивалась тем не менее и зависть. Он почувствовал себя покинутым: Ирвинг, занятый в Лондоне, теперь не писал ему; более того, «Рассуждения в пользу грядущего Суда» родились непосредственно из возмущения Ирвинга «Видением Суда», автором которого был кумир Карлейля – Байрон. Неудивительно поэтому, что в письме брату Алеку Карлейль писал: хотя мало кто на этом свете больше заслужил славу, чем Ирвинг, все же он, Карлейль, не желал бы для себя именно такой популярности. Понятно также, почему он в письме к Джейн Уэлш сожалел о том, что проповедническая деятельность Ирвинга приняла такой оборот. По его мнению, для Ирвинга лучше было бы остаться «тем, что наилучшим образом ему подходит: проповедником первостатейных способностей, большого красноречия и больших несуразностей, с умом, превосходящим всех по трезвости и безрассудству, и с сердцем в высшей степени честным и добрым». В борьбе зависти с благородством в конце концов победило последнее: «Я готов спорить на любые деньги, что он часто думает о нас обоих, хотя и не пишет нам, и что больше всего ему хочется знать наше мнение об этом фантастическом взлете, об этом громе труб и фанфар, в котором он теперь живет». В том же письме Карлейль вскользь сообщает, что Ирвинг собирается в Шотландию, чтобы жениться на Изабелле Мартин из Киркольди, с которой он вот уже несколько лет как помолвлен.
У Джейн Уэлш были свои причины, неизвестные Карлейлю, к тому, чтобы испытывать смешанные чувства при виде успеха ее учителя. Отношения между Ирвингом и его очаровательной и одаренной ученицей до сих пор неясны, хотя и делалось много попыток их распутать. Мы уже видели, что Ирвинг был весьма подвержен действию женских чар, и, несомненно, Джейн Уэлш была включена б круг тех молодых женщин, которые обращали на себя его благосклонное внимание. Он писал ей письма, в которых обращался к ней «Моя дорогая и Прекрасная Ученица!»; многие из его витиеватых высказываний можно истолковать только таким образом, что он был влюблен в Джейн и тяготился своей помолвкой с Изабеллой Мартин. На обратной стороне одного сонета, который он написал для Джейн, сохранилось несколько загадочных незаконченных строк – часть письма, которое Джейн уничтожила, желая сохранить только сонет. В двух строчках говорится: «Я решил не видеться ни с Изабеллой, ни с ее отцом, прежде чем я...» и «не могу выносить даже их вида, пока это не прояснится и пока» (дальше оторвано). Из этих слов можно заключить, что Ирвинг ходил к отцу Изабеллы и просил освободить его от данного слова. Если так, то он не добился своего. Позднее он писал, что его отношение к Джейн «давно приняло бы форму самой нежной привязанности, если бы не одно препятствующее этому обстоятельство» и что только с божьей помощью может он надеяться найти силы, чтобы «исполнить долг по отношению к другой и сохранить нежные чувства к Вам».
Ничто не указывает нам на то, что эти «нежные чувства» были взаимными. Джейн Уэлш, правда, говорила Карлейлю, что была когда-то страстно влюблена в Ирвинга, но она «страстно влюблялась» за свои двадцать лет по меньшей мере раза два или три; кроме того, в длинных списках ее кумиров, которые она посылала своей подруге Бэсс Стодарт, Ирвинг ни разу не упомянут. Стала бы она его женой, если бы Ирвинг был свободен? Была бы она счастливее с Ирвингом, чем с Карлейлем? Смогла бы она своим острым умом и здравым смыслом уберечь Ирвинга от катастрофы, ожидавшей его? – на все эти вопросы мы уж не найдем ответа, так же как мы никогда не узнаем, какую песню пели сирены, или мог бы Кристофер Марло превзойти Шекспира, если б его не убили. По крайней мере, известие о женитьбе Ирвинга задело Джейн Уэлш, недаром же писала она с таким ехидством: «Расскажите же мне, как он управляется там с женой, – вот, должно быть, смехотворное зрелище!» То, что она сама упустила шанс, немало огорчало ее, судя по тому, как зло она высмеивала Ирвинга за его экстравагантность, за чудачества, за то, что он стал забывать друзей. Удручал ее и контраст между успехом Ирвинга (с каждым днем все более отдалявшегося) и безвестностью Карлейля (который был, пожалуй, даже чересчур к ее услугам – насколько позволяли возможности почты), и она упрекала его в глупости за его пренебрежение к земной славе: «Когда же мир узнает Вам цену, как знаю ее я? Вы смеетесь над моим стремлением к славе; но я подозреваю, что мои чувства на этот счет – если снять с них словесное „облачение“, и впрямь часто фантастичное, – не так уж отличны от ваших собственных; ведь вы недовольны своей жизнью: необходимостью склонять свой гордый гений перед ничтожными заботами о каждодневных нуждах, заглушать огонь честолюбивой души тяжким опытом смирения, растрачивать ее на бесплодные мечты, на несбыточные, безжизненные планы! „Колесо вашей судьбы должно повернуться“ – эти слова я слышала от вас, и у вас есть сила повернуть его – огромная сила. Но когда же предпримете вы это усилие? Когда же ваш гений прорвется сквозь все преграды и займет достойное его место? Он сделает это непременно – „как молния в вышине пронзает черную тучу, стесняющую ее“! В этом нет у меня сомнения! – но – когда? Слышать ваше имя на устах целой нации!»
Она поощряла его работу над биографией Шиллера и переводом «Вильгельма Мейстера» Гете, но не старалась скрывать своего разочарования тем, что он поглощен трудом, который требовал так много времени и так мало таланта. В этом он был с ней совершенно согласен. Работа над Шиллером доводила его до отчаяния ничтожностью задачи, да и перевод «Вильгельма Мейстера» не радовал: он приходил в ярость от несоответствия между второстепенностью своей роли переводчика и тем высоким мнением, которое он имел о своем даровании. Он мрачно предрекал, что его перевод никто не станет покупать, и добавлял, что Гете «величайший гений изо всех, родившихся на протяжении последних ста лет, и величайший глупец изо всех на протяжении последних трех столетий».
Из этих разочарований возникли и другие трудности. Как и следовало ожидать, первое, идиллическое, впечатление Карлейля от семьи Буллеров: миссис Буллер – «одна из самых утонченных, восхитительных женщин, которых я только видел», а ее муж – «прямой, честный, достойный Английский Джентльмен» – не пережило долгого пребывания у них в смиренной роли домашнего учителя. Супруги Буллеры обладали и умом, и широтой взглядов: миссис Буллер была в Лондоне центром кружка радикально настроенных интеллектуалов, да и ее муж, обладая трезвым умом, способен был оценить острый сарказм Карлейля. Они понимали, что имеют дело со странным, но необычайно талантливым человеком, и относились к нему с большим вниманием. Карлейль не был глух к их доброте: в письме брату Джону он говорил, что старшие Буллеры относятся к нему почти как к сыну, а младшие – как к брату; и все же он весьма тяготился своей обязанностью вечерами сидеть у них в гостиной за чаем и светской болтовней, да и переменчивый характер миссис Буллер доставлял ему неприятности.
Проведя зиму в Эдинбурге, Буллеры решили перебраться в меблированный дом под названием Киннерд Хаус в графстве Пертшир. Карлейль не пожелал поселиться с ними, а занял старый флигель поблизости, под тем же названием Киннерд Хаус – «странную, старомодную, впрочем, довольно уютную и совершенно уединенную постройку, утопающую в зелени, всего на расстоянии одного выстрела от нового большого дома». Он подолгу ездил верхом, продолжал работу над Шиллером и переводом Гете; здесь, в полном уединении, его здоровье еще больше расстроилось, и он совсем пал духом. Всю жизнь Карлейль ошибочно считал, что ненавидит общество и может существовать только в одиночестве; на самом же деле он бывал общительным и часто даже веселым товарищем, предоставленный же самому себе, впадал в глубокое уныние.
Его душевный упадок немедленно отразился на мнении о семье Буллеров. Не спасло их и то, что, едва Карлейль пожаловался на плохой сон и объяснил его тем, что перенесли час обеда, они немедленно распорядились, чтобы Карлейль обедал один в удобное для него время, как и то, что ему была предоставлена полная свобода проводить вечера с ними или по его собственному усмотрению, и даже то, что во всем с ним обходились как с равным. Он сам говорил, что только полный идиот может пожаловаться на такое отношение к себе; и все же он становился все мрачнее: его выводили из себя модные посетители, весьма озабоченные тем, как бы, выходя из дома, одеться потеплей, или приходящие в восторг от двух подстреленных ими оленей. К тому же сама пища доставляла ему большие неприятности. Иногда Карлейль думал, что миссис Буллер на редкость плохая хозяйка, иногда же приходил к заключению, что ее благотворная деятельность сводится на нет бестолковостью неопрятных девок (как он называл ее прислугу). Еда причиняла ему даже большие мучения, чем воздержание от нее (если только это возможно). «Стоит мне съесть их свиной овсянки – и я засну, – писал он брату Алеку, – но на меня находит двойная доза одури, и я просыпаюсь очень рано утром с сознанием того, что еще один день моего драгоценнейшего времени бесповоротно потерян, что вчерашний день прошел в муках и так же пройдет и сегодняшний. Мне ясно, что я не смогу ни вернуть, ни сохранить себе здоровья в доме, где хозяйство ведет миссис Буллер. А потому мне ничего не остается, кроме как покинуть его».
За отчаянием, однако, всегда следовали прекрасные намерения. Для преодоления обступивших его неприятностей требовались неимоверные усилия – что же, значит, эти неимоверные усилия будут приложены. «Говорю тебе, Джек, ты и я – мы не должны дрогнуть, – писал он брату Джону, в то время преспокойно продолжавшему учебу в Эдинбурге и, должно быть, слегка удивленному этими страстными заклинаниями. – Трудись, мой мальчик, трудись неустанно. Клянусь, что всем этим тысячам мук, этой жестокой схватке, этому нездоровью – самой страшной из них – не удастся сковать нас... Два безвестных паренька из безвестного местечка Аннандэль еще покажут миру, на что способны Карлейли».
Временами Карлейлю казалось, как, несомненно, показалось и читателю, что все эти горестные причитания и героические призывы были слишком уж несоизмеримы с ничтожностью их повода. Да и места у Буллеров Карлейль на этот раз не бросил, хоть часто и грозился это сделать. Возможно, его удержала благодарность к Буллерам, возможно, он понимал, что в Эдинбурге или где-либо еще ему не будет лучше, чем у них. Он пробыл в Киннерд Хаусе девять месяцев, и, когда по их истечении Буллеры решили перебраться в Лондон, ему был предоставлен трехмесячный отпуск для устройства дел по изданию «Вильгельма Мейстера» и для поездки домой в Мейнгилл. После этого, в июне 1824 года, он последовал за Буллерами в Лондон. Джейн Уэлш надеялась в это же время побывать в Лондоне, с тем чтобы они могли вдвоем погостить у знаменитого теперь Ирвинга, но Ирвинг написал Карлейлю, что его дом пока не готов к тому, чтобы принять даму, а в письме к Джейн Уэлш – что «моей дорогой Изабелле удалось исцелить раны моего сердца, но я едва ли в силах вновь обнажить их» и что лучше было бы ей навестить его через год, когда он «будет в глазах своей собственной совести достоин» принять ее. Что заставило этого человека, которого Джейн звала теперь «великим Ослиным Оратором», написать такой ответ – ревность ли жены, или что-либо другое, – во всяком случае, оно положило конец ее мечтам посетить Лондон вдвоем с Карлейлем. Вооруженный письмами к поэту Томасу Кэмпбеллу и инженеру Телфорду, обладатель 180 фунтов стерлингов, выплаченных ему за перевод «Вильгельма Мейстера», в одиночестве отправился в шестидневное путешествие на яхте в великую столицу.
Ирвинг с обычным для него оптимизмом полагал, что достаточно будет показать Карлейля лондонским интеллектуалам, и его таланты станут всем очевидны. Карлейль думал иначе и был прав. Его безапелляционные суждения часто вызывали обиды, а его рыкающий провинциальный акцент должен был придать им нелепый вид. Его широкая начитанность не только в литературе, но и в истории, философии и естественных науках могла быть оценена только теми, кто наперед приготовится благосклонно его выслушать. А его серьезность и неумение легко и непринужденно пошутить не способствовали пробуждению к нему симпатий. Однако Карлейль не ждал многого от Лондона, поэтому и не был разочарован.
Стоит ли говорить, что путешествие прошло в самом мрачном настроении: частично из-за жестоких ветров, штормов и штилей, встречавшихся в пути, частично из-за глупости общества, собравшегося на борту яхты. Портреты спутников, которые Карлейль дает в своих письмах, по остроте наблюдений и конкретности предвосхищают самые блестящие из его последующих творений. Нам, например, сообщают, что у некоего сэра Дэвида Инниса «голова большая и длинная, как погребальная урна; лицо, изрытое оспой, волосатое и щетинистое, огромно и напоминало формой топор. По многу часов подряд стоял он посреди палубы, положа левую руку на борт, уткнув большой палец правой руки в бедро, уставившись большими голубыми слезящимися глазами в пустоту, изобразив на губастом лице задумчивость».
Наконец путешествие окончилось, и Карлейль встретился с Ирвингом, радушие которого превзошло все ожидания. Их предыдущая встреча кончилась не вполне счастливо. Карлейль провел с Ирвингом и его женой часть их свадебного путешествия в горах, и однажды к ним явился слуга некоего лорда с приглашением к обеду. Через минуту или две прибыл и сам лорд. Наверное, нетрудно было устроить так, чтобы приглашенным оказался и Карлейль, но он уже оседлал свою лошадь и один ускакал домой.
В Лондоне все мигом забылось, если Ирвинг вообще еще об этом помнил: он, как всегда, стремился помочь другу. В первый же вечер Карлейль оказался в пестром кругу религиозных радикалов и синих чулок, где была также миловидная и застенчивая кузина Буллера, Китти Килпатрик. Она обратила на себя внимание Карлейля тем, что в прихожей потихоньку сорвала наклейку с его сундука. Этот странный поступок Карлейль объяснил тем, что Китти хотела показать наклейку другой кузине, миссис Стрэчи. Кстати, Китти Килпатрик и миссис Стрэчи с большим вкусом обставили гостиную Ирвингов к их приезду – счастливчик Оратор вкушал удовольствия новой жизни. Был ли он счастлив? Карлейль не находил этого; он, напротив, видел, что Ирвинг пытается скрыть внутреннее смятение, убеждая себя в благости своей миссии посредника между небом и людскими толпами, которые постоянно окружали его.
Первое впечатление Карлейля от лондонского литературного общества было неблагоприятным. Он принес свое рекомендательное письмо Кэмпбеллу, чьим стихотвореньем «Гогенлинден» он некогда восхищался. Теперь же воспитанному в деревенской строгости Карлейлю не понравилась щегольская внешность поэта: «голубые сюртук и брюки, монокль, парик, даже его манера кланяться – во всем виден литературный денди». Вдобавок к этому Кэмпбелл оказался не очень радушным человеком, а его жена говорила с кельтским акцентом. Неужто в этом и состоит отрада жизни, отданной литературе? – недоумевал Карлейль после своего визита: «глупая жена кельтка, жалкий дар рифмоплетства, страсти не больше, чем в осле бродячего лудильщика, и одна лишь любовь – к собственной презренной персоне со всеми ее потрохами?»
Однако еще большее разочарование постигло Карлейля у Кольриджа, словесный портрет которого он приводит в письме своему брату Джону. Это описание замечательно тем, что дает очень выразительный образ поэта и показывает, каким образом Карлейль обозначал душевные качества через внешние черты: «Представь себе тучную, дряблую сутулую персону со слюнявым ртом, хлюпающим носом, с парой странных карих, робких, но очень серьезно глядящих глаз, с высоким, сужающимся кверху лбом и огромной копной седых волос; вот тебе приблизительный образ Кольриджа... В нем нет твердости. Он избегает боли или труда в любой их форме. Сама его повадка говорит об этом. Он никогда не выпрямляет коленей. Он горбит свои жирные, бесформенные плечи, а при ходьбе не ступает, а шаркает и скользит... Он и хотел бы всем сердцем, да чувствует, что не смеет. И говорит он, почти как я ожидал, – дремучий лес мыслей, из которых некоторые верны, многие ошибочны, а большая часть сомнительны – и все оригинальны в какой-то степени, многие даже в очень большой. Но в его разговоре нет последовательности: он блуждает, словно парусник по волнам, куда только заносит его ленивый ум; что еще неприятней – он проповедует, вернее, произносит монологи... на мой взгляд, он человек большого, но бесполезного таланта: странный, нисколько не великий человек».
Таково было его мнение о двух наиболее выдающихся литераторах, встреченных им в Лондоне. Общее же впечатление от литературной жизни было даже ниже, чем от отдельных личностей. Толпа, лишенная не только благородных чувств, но и простой честности; бессильные злопыхатели; не люди, а орудия для писания статеек – вот некоторые из тех фраз, которые он сказал в адрес современных ему критиков. Интересно было бы узнать, что думали они об этом странном, плохо одетом новичке, вторгшемся в их круг, но взгляды тех, кого он наблюдал столь внимательно, скользнули по нему, не задержавшись на нем. Не этим ли пренебрежением объясняется то, что, когда Карлейль наконец получил возможность поговорить с Кольриджем наедине о Канте и различиях между «разумом» и «рассудком», он смог добиться лишь самых уклончивых ответов?
Визитом в Лондон закончилась карьера Карлейля в качестве домашнего учителя. Переменчивость характера миссис Буллер теперь приняла форму бесконечных колебаний в каждом ее шаге, а это оказалось невыносимо для Карлейля. Ей пришло в голову провести несколько месяцев в Булони, а покуда она хотела поместить Чарльза и его учителя в доме в Кью Грин, который ни Чарльз, ни Карлейль терпеть не могли. Затем она передумала и решила отправиться в Ройстон, что в графстве Хартфордшир. Намерен ли Карлейль жить с ними во Франции, а пока пожить в Ройстоне? Вынужденный дать немедленный ответ, Карлейль отказался. Особых причин для отказа у него не было: просто он устал учить даже столь приятных юношей, как Буллеры, кроме того, он догадывался – или ему казалось, что догадывался, – о желании миссис Буллер отдать Чарльза в Кембридж.
Буллеры и Карлейль расстались дружески. Чарльз Буллер был «охвачен грустью и гневом», сам мистер Буллер немного огорчен, а его жена в целом вполне довольна. Буллер предложил ему двадцать фунтов в качестве прощального подарка. «Проявив излишнюю щедрость, которую я не в силах одобрить теперь, по более зрелом размышлении, я счел сумму чрезмерной и принял только десять, – писал Карлейль матери. – Мы со старым джентльменом пожали друг другу руки, не проронив слезы. Миссис Буллер же произнесла одну из тех прощальных фраз, которые приняты в ее модном кругу равно для друзей и для врагов. Я рад, что мы расстались друзьями... рад, что вообще расстались...» Нужно, однако, помнить, что письма Карлейля не всегда верно отражают события: здесь, например, он дает нам ощущение какой-то резкости в обращении, которую он, должно быть, в большой степени вообразил себе. Миссис Буллер сопроводила вежливую прощальную фразу еще и приглашением на званый вечер, да и вся семья сохранила самое дружеское расположение к этому странному учителю. Часто раздражение Карлейля изливалось только в письмах, и трудно оценить тяжесть выносимых им мук тому, кто не трудился, подобно ему, над ненавистной работой, которая требует лишь малой доли его энергии и вовсе не дает выхода его таланту. Расставаясь с Буллерами, Карлейль радовался прежде всего тому, что его талант получает свободу.
Но какого рода был этот, столь долго пестуемый им, талант? Он пока проявился лишь в биографии Шиллера и переводе «Вильгельма Мейстера». Позднее Карлейль называл жизнеописание Шиллера слабой и жалкой книжонкой. Она, разумеется, непохожа на его лучшие произведения, но ее ни в коем случае нельзя считать ни скучной, ни жалкой. Стиль все еще во многом заимствован у Джонсона, но отличается уже уравновешенностью, твердостью и остроумием самого Карлейля. Уже сейчас его юмор в основном построен на преувеличении. «Загляните в жизнеописания писателей! За исключением Ньюгэтского Календаря, все они составляют самые удручающие страницы истории человечества» – вот один из примеров. В «Жизни Шиллера» есть немало страниц превосходной литературной критики и множество метких замечаний, больше применимых к самому Карлейлю, нежели к предмету его исследования. («Прежде всего он совершенно свободен от шаблонности во всех ее разновидностях, нелепых и отвратительных, – лишен начисто». ) Но замечательнее всего в этой книге, написанной в состоянии душевного непокоя и телесных страданий, ее ясность и спокойствие, удивительным образом выдержанный в ней дух научной беспристрастности и благожелательности. Этот стиль никак не соответствовал характеру Карлейля и его образу жизни, и тем более любопытно, что он ему почти вполне удался.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































