Текст книги "Гетера"
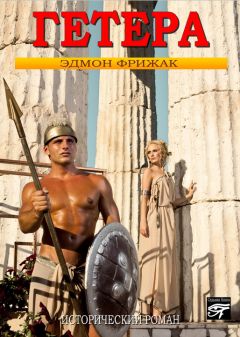
Автор книги: Эдмонд Фрижак
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Он помолчал немного и затем продолжал:
– Но, прежде чем покинуть нас, выслушай, что я хочу тебе сказать, сын мой. Мой возраст и моя опытность дают мне право называть тебя так, и я знаю, что твой отец, который смотрит на меня из Элизиума, одобряет меня. Многие из находящихся здесь заплатили уже вперед за твою будущую победу. Сын Аристовула нашел себе могилу в море в Сиракузах. Двое моих сыновей спят в Сфактерии, а третий, может быть, завтра же будет сражаться на твоих глазах на палубе священной галеры. Аристомен, который стоит там возле жертвенника, еще несчастнее нас; он сам ездил в Тенедос погребать своих троих сыновей. Но, как и все мы, он проливает слезы только дома, где теперь царит вечное безмолвие. Мы все трое говорим тебе: Конон, будь победителем. Ради нашей родины, ради наших очагов, ради всего, что у нас еще осталось и что мы еще любим, ради священного имени Афин, ради священного города, который некогда спас Грецию и который нынешняя Греция хочет уничтожить, Конон, будь победителем! Привези нам, на наших последних кораблях, убранных миртами и лаврами, привези нам сюда под сень крылатой победы счастливый мир!
Глава 4
Когда гости, простившись один за другим с Леуциппой, вышли из зала, в котором происходило пиршество, Конон, оставшись последним, подошел к хозяину дома.
– Быстрый и непредвиденный отъезд мой заставляют меня сейчас же объясниться с тобой, Леуциппа, – сказал он. – Твоя дочь была вчера вечером у Гиппарха, который вместе со мной у тебя в гостях. Я тоже был там. Утром я послал ей подарки, и сопровождавшая ее кормилица принесла мне обратно только половину фиги. Мы обменялись кольцами. Следует ли мне теперь принимать избрание меня в стратеги?
– Разумеется, следует и даже с гордостью.
– И я должен буду уехать, не повидавшись с твоей дочерью?
– Нет, – отвечал, улыбаясь, Леуциппа, – я уже сообщил ей и жду ее… Да вот и она.
Драпировка, закрывавшая одну из внутренних дверей, распахнулась. В комнату вошла Эринна обруку с матерью, придерживая рукой длинные и развевающиеся складки своего платья. Ее волосы поддерживались повязкой, в которой блестели золотые булавки. На шее у нее был надет белый жемчуг, в два ряда нашитый на красной ленте, а обнаженные, без всяких украшений руки виднелись из-под широких рукавов ее туники. Обрамленное волнами воздушных локонов ее прелестное личико производило чарующее впечатление. Она почувствовала на себе его взгляд, подняла глаза и улыбнулась ему.
– Жена, – сказал Леуциппа, – это тот самый молодой триерарх, которому мы обязаны спасением жизни нашей дочери. Я хотел предложить ему украшение для его домашнего жертвенника, золотую чашу, которой мы пользуемся для возлияний богам; но Эринна предупредила меня: она сама отблагодарила за нас своего спасителя и, без нашего ведома, стала со вчерашнего дня его невестой.
Эринна, вся красная и смущенная, бросилась в объятия Носсисы.
– Прости меня, мать моя, я не знаю, какой бог внушил мне поступить так.
– Наивный ребенок, – сказала Носсиса, целуя ее в лоб. – Ни отец твой, ни я не станем препятствовать твоему счастью.
– Нет, – сказал Леуциппа торжественно, – но мы не испросили благословения у богов, и боги уже посылают нам наказание за это. Ослепление людей так велико, что они осмеливаются сами устраивать свое будущее, которое не зависит от них. Дочь моя, судьба послала твоему жениху более высокую награду, чем твоя целомудренная любовь. Голос всего народа вручил ему судьбу отечества. Конон теперь стратег и с нынешнего дня вступает в командование всем флотом и всем войском Афин. Сегодня вечером он отправляется в Самос.
Тяжелое молчание последовало за этими словами. Носсиса почувствовала, как в ее пальцах задрожала горячая рука ее дочери. Она сама изменилась в лице и сказала прерывающимся голосом:
– Итак, Конон, ты покидаешь нас чуть ли не в первый же день нашего знакомства. Желаю тебе успеха в битвах. Не забывай наш дом, который ты, может быть, покидаешь с сожалением. Две бедных женщины, в ожидании твоего возвращения, на коленях будут молить за тебя богов… Ну, дочь моя, простись со своим женихом.
– Оставим их, жена, – сказал Леуциппа снисходительно отеческим тоном. – Оставим их. Останьтесь вместе, дети мои. Пролейте свет в сердца ваши. Конон, этот дом твой. Через два часа я приду за тобой, и мы вместе пойдем в экклезию.
Молодая девушка дрожала, как испуганная птичка. Конон подошел к ней, покрыл ее голову покрывалом и, нежно взяв ее за талию, направился с ней через освещенный солнцем двор под тень платанов. Эринна шла медленно, потому что у нее были сандалии на высоких каблуках. Можно было сосчитать биение ее сердца по тому, как приподнимала тунику ее молодая, волновавшаяся грудь. Когда она села на одну из мраморных скамеек, он опустился на ту же скамью возле нее и сжал ее руку в своих. Эринна, сидевшая с опущенной головой, походила на распустившуюся розу; вся ее душа отражалась на ее очаровательном личике, которому выражение невинности придавало еще большую прелесть.
Девушки похожи на цветы, которые благоухают в самое жаркое время дня. Любовь преображает их, не давая им блекнуть. Пробуждающаяся в них страсть не вызывает чувственных или нечистых помыслов, и их блестящие глаза остаются чистыми. Несмотря на это, они испытывают боязнь. Эта боязнь, этот сугубо физический, безотчетный страх перед тайной, о которой они смутно догадываются, и есть те невидимые узы, благодаря которым они не могут жить только одной душой. Эта боязнь только одна и привязывает их к земле. Мы называем ее стыдливостью.
Они долго сидели так, не произнося ни слова, погруженные каждый в свои мысли. Гордость сияла на открытом лице Конона. Никогда еще ни один афинянин не получал права таким молодым носить пурпуровый плащ стратега, меч с золоченой рукояткой и котурны с золотыми шпорами. Он был уверен, что он не раз выйдет победителем из борьбы с Лизандром. Он в совершенстве постиг всю тактику, все хитрости и все уловки этого искусного полководца. Для того, чтобы побеждать все тонкости и козни Лизандра, у него было хладнокровие, которого не доставало у Алкивиада; он не будет действовать наудачу, защищая священные для него права родины. Но только теперь ему нужно было заставить себя принять то самое назначение, которое всего несколько дней тому назад он принял бы с таким восторгом. Он чувствовал, что какие-то невидимые нити привязывали его к родной земле; они были так крепки, что вся его воля не могла порвать их. Точно тяжелый свинец лежал у него на груди.
Вдруг, приподняв отягченную думами голову и взглянув на Эринну, он увидел на глазах у молодой девушки слезы, как бы помимо ее воли струившиеся из глубины ее переполненного сердца. Тогда он понял, какие узы приковывают его. Он упал перед ней на колени, обвил руками ноги молодой девушки и, не спуская с нее глаз, дал волю словам любви, которыми было переполнено его сердце.
– Ты плачешь, ты плачешь, Эринна. Так вот что такое любовь; я вижу у тебя на лице и слезы, и улыбку, потому что ты плачешь и от радости, и от горя в одно и то же время. Я люблю тебя. Я люблю тебя! Я с любовью преклоняюсь пред тобой, чистое и святое дитя! За тебя, за твой поцелуй я отдам всю мою жизнь! Всю мою кровь! Мне кажется, что сегодня я выпросил бы ее у родины и отдал бы тебе ее всю целиком без жалобы, без сожаления, за то только, чтобы твои губы касались моих! С тех пор, как я увидел тебя, я жил, как во сне. Пока я не знал тебя, мне и в голову никогда не приходило, что я буду чувствовать себя таким счастливым при виде улыбки молодой девушки. Я считал вас, тебя и других молодых девушек, похожими на красивых своенравных птичек с мелкой, пустой душой. Я думал, что с вами, может быть, приятно проводить известные часы дня, вечерние или утренние, когда сердце успокаивается, когда ум позволяет уносить себя на шелковистых крыльях мечты. А теперь я вижу, что возле тебя были бы одинаково приятны все часы дня, все часы жизни, а за ними часы вечности! Любить тебя так, любить тебя всегда! Любить и целовать тебя, пока мы будем молоды, а после любить тебя в память прошлого. Отныне моя жизнь принадлежит тебе. Никогда, никогда по моей вине слеза печали не омрачит твоих глаз, никогда ты не споткнешься так без того, чтобы я не поддержал тебя, каков бы ни был путь, по которому мы пойдем вместе. Эринна, Эринна, отчего ты такая гибкая и такая красивая? Позволь мне поцеловать твои благоухающие волосы, чтобы я унес с собой этот аромат на все время моего отсутствия.
Улыбнись, я хочу видеть твою улыбку. О, какой я буду ужасный в битве! Может быть, у них, у неприятелей, тоже есть невесты. Тем не менее, я побью их и вернусь к тебе. Люби меня, я твой; люби меня. Дай мне свои губы.
Он поднялся и сел возле нее.
– Ты ничего не говоришь мне. Почему ты ничего не скажешь мне?
– Я слишком много думаю, – отвечала она.
– Прежде, – снова заговорил Конон после короткого молчания, – один только час отъезда был печален для меня. Но зато в первый же вечер, сидя у кормы одной из галер, вытащенных на берег, и внимая ухом однообразный рокот морских волн, я спокойно слушал крики диких птиц, смотрел на линию огней в лагере, и я забывал об Афинах, и мне казалось, что я точно никогда и не знал другой жизни. Как все это изменится теперь. Я беспрестанно буду видеть, что ты стоишь возле меня в знойный летний день и смотришь на меня своими большими ясными глазами…
– Не забывай, – перебила его молодая девушка, – что мы должны испросить прежде всего благословения богов. Вели принести сюда твои белые доспехи. Пока ты будешь на собрании, я пойду сама просить благословения для твоих доспехов в храм богини Афины. Я буду ждать тебя спокойно, потому что буду уверена, что ты не будешь ранен. Она защитит тебя.
– Да, ты посвятишь их богине. Она, я уверен, услышит твою горячую молитву. Но эти минуты, пока мы здесь с тобой, не принадлежат богам. Мне хочется столько сказать тебе такого, чего я не говорю, и о чем я буду жалеть, что не сказал тебе, когда я буду далеко от тебя… Думай обо мне и я, клянусь тебе, буду думать только о тебе одной. Судьба, которая уносит меня так далеко от твоего поцелуя, не может удалить меня от твоего сердца… Я вернусь… Я должен вернуться. Я вступлю победителем в Акрополь на золоченой триумфальной колеснице и отдам мои венки тебе для украшения твоего венчального платья.
Эринна инстинктивным и грациозным движением обвила его шею своими руками. Их головы приблизились и губы слились. Опьянение первого поцелуя, дрожь первого прикосновения! Девушка побледнела, ее руки разжались, грудь опустилась. Одну минуту казалось, что жизнь покидает ее. Но слезы наполнили ее полузакрытые глаза. Грудь ее приподнялась от рыданий. Она стала женщиной прежде, чем стала супругой, и, сама того не зная, получила первое суровое познание жизни.
– Надейся, надейся, – прошептал Конон при новом, более продолжительном, более сладком поцелуе. – Мечты и надежды имеют свои причины. Надежда ведет к счастью.
Опьянение первых поцелуев, дрожь первого прикосновения. Листья на деревьях заколебались, пчелы снова начали свое смутное жужжание. Воробышек, сидевший на листке ненюфары, встряхнулся, и поднявшиеся кверху брызги воды сверкнули всеми цветами радуги.
И в то время, когда вокруг них жизнь шумно принимала ласки наступающего вечера, Эринна уронила головку на плечо своего возлюбленного. Она умолкла и, казалось, уснула. И в этом состоянии полусна ее глаза высохли, и губы улыбались…
Потому что она была ребенком, который еще не созрел для людской печали.
* * *
На ясном фоне голубого неба отчетливо вырисовывались остроконечные фронтоны Парфенона. Покрытое розовыми и белыми парусами, которые все, несмотря на войну, несли со всего света свою дань, море Миртос сверкало под лучами солнца. Знаменитый остров Саламин замыкал горизонт на западе, между тем как на востоке покрытые оливковыми деревьями склоны Имета, казалось, служили опорой отдаленной вершине Цитеропа.
Еще задолго до наступления дня громкий голос глашатая пробудил от сна горожан. Те, которых любопытство или страх заставили покинуть свои постели, увидели над городом красноватое зарево пожара в то время, как восточный ветер катил к Акрополю густые клубы ароматного синеватого дыма. Посланные архонтов зажгли громадный костер на вершине Ликабетта, и теперь вся страна, Элевзис, Мегара, Коринф и даже Аргис знали, что Афины снова победили, и праздновали это событие.
Это был день праздника очищения. В этот день жрецы Афины, праксиергиды, снимали со статуи богини покровительницы все богатые украшения, составлявшие приношения благочестивых почитателей. Длинные куски тканей фиолетового цвета скрывали их от глаз.
Храмы были заперты: веревки, протянутые между колоннами, запрещали туда доступ посторонним, и только в пронаосе иерофанты, распростертые на плитах, с головой, посыпанной пылью, молились целый день. Улицы были пустынны. Никого не было под портиками, никого на священных холмах Ареса или Пникса. Все дела были брошены, все движение приостановлено, потому что этот день с незапамятных времен был посвящен традиционному трауру.
Однако как только с первыми проблесками зари стало погасать пламя костра, все в городе сразу приняло другой характер. На узких улицах царило веселое оживление и суета. Между длинными стенами, точно волны во время отлива, стремилось к Пирейской гавани все население Афин. Сверкающие колесницы, непокорные кони которых напирали на толпу, носилки со спущенными занавесками, громоздкие повозки поселян, которые тащили огромные рыжие волы с широко расставленными рогами, всадники на неоседланных лошадях, пугавшихся шума, рабы с бритыми головами и в коротких темного цвета хитонах, иностранцы, одетые в костюм своей страны, простые женщины без покрывала, причем у некоторых были на голове корзины с плодами или овощами, принесенными на рынок, затем дети, мальчики и девочки, почти или совершенно голые, скользившие, как змеи, в густой толпе, перекликаясь, крича, падая и сейчас же быстро вскакивая, – все это купалось в облаках золотой пыли, которая поднималась к солнцу, и спешило к берегу приветствовать победителей.
Вдруг дети, не думавшие о грозившей им опасности и гонявшиеся друг за другом по гребню стен, закричали: «Корабли! Корабли!» В одну минуту все парапеты и амбразуры покрылись зрителями. В толкотне многие попадали: женщины были сбиты с ног; верх одной повозки рухнул под тяжестью взобравшихся на него: даже некоторые всадники стали на своих лошадей, так как окружавшая их толпа не пропускала их вперед. Затем вдруг наступила тишина.
Флот победителей провел эту ночь в Суниуме и теперь был виден в море на широте Фалерона. Он медленно подвигался на одних парусах на фок-мачтах, так как во избежание возможных столкновений весла и большие паруса были убраны.
Вдруг точно огонек вспыхнул на одном из шлемов, и в ту же минуту вспыхнула тысяча огней. Солнце заиграло на стали кирас и зажгло огоньки на клотиках мачт. Скоро стали слышны, хотя еще и слабо, доносившиеся звуки труб и пение моряков. На мачте священной галеры взвился пурпуровый флаг; затем она распустила свой большой парус и, выбросив свои сто двадцать весел, быстро стала скользить по морю. Все остальные галеры последовали ее примеру и, вытянувшись в одну линию, шли за ней в кильватер. Священная галера, вся сиявшая под яркими лучами солнца, гордо приближалась к берегу. При каждом взмахе весел, бороздивших поверхность моря, брызги обдавали форштевень. Послышался голос триерарха, отдававшего приказание. Гребцы подняли весла и точно замерли в позах. И вот, при громком пении и кликах толпы, ржании пугавшихся лошадей, резких криках чаек, улетавших в открытое море, при звуках флейт и кимвалов, на которых играли на мосту жрецы Посейдона, при звуках труб, при ярком свете солнца, которое бросало свои лучи на все, что только могло отражать их, и превращало огромный рейд в серебряное зеркало, – священная галера, величественно скользя по гладкой поверхности моря, достигла входа в Кантарос.
Толпы народа запрудили все побережье гавани и оба мола. Зрители плотной движущейся массой занимали все пространство, начиная от Эльтионейи, до мыса Альцимоса, всю набережную Эмпориона, набережную Зеа и Афродизиона. Все население прибрежных местностей, желая поскорее и получше рассмотреть Конона, бросилось к стоявшим у берегов рыбачьим лодкам, на привязи или на якорях. Наиболее ловкие из этих смельчаков взобрались по штангам наверх и держались там, стоя на реях. А совсем голые детишки, весело играя в голубой прозрачной воде, ныряли под лодки и вновь появлялись по другую сторону их…
Конон стоял на носу священной галеры. На нем было воинское вооружение: пурпуровый плащ, откинутый назад, открывал грудь, на которой сверкали золотые змеи на голове страшной Медузы. У его ног лежал на палубе щит из полированной стали и шлем с красным султаном. Равнодушный к славе, он стоял, опираясь на копье, с обнаженной головой, на которой тонкий золотой обруч сдерживал темные волосы, и спокойно смотрел на толпу.
Вслед за священной галерой в залив вошел весь флот. Все палубы триер, от носа и до кормы, до такой степени были завалены различными трофеями из захваченного у неприятелей оружия, стрел, мечей, копий и дротиков, что гребцы с трудом могли действовать веслами.
Самые весла были украшены гирляндами до той части их, которая погружалась в воду: цветущие головки розовых лавров, тонкая листва бересклета, бирючины и мирты, букетики из маков и васильков, уже увядших, потому что они были сорваны накануне в соседних полях Суниума. Почти на всех судах на носу были выставлены напоказ бронзовые тараны, снятые с неприятельских галер, потерпевших поражение в бою. Триеры тащили за собой на буксире галеры без весел и без мачт, еще недавно легко скользившие по морю, а теперь тащившиеся по спокойным волнам угрюмым ходом побежденных. На судах находились пленные. Афиняне с жадным любопытством рассматривали немногочисленных сынов гордой Спарты, видневшихся среди пелопонесцев в тяжелом вооружении фракийцев в звериных шкурах и персов в ярких одеяниях. У них были длинные волосы, доходившие до красной туники, и, несмотря на цепи, они сохраняли смелый взгляд и надменную осанку товарищей Леонида.
Час спустя весь флот был уже отшвартован у набережных обширной гавани; галеры, взятые у неприятелей, были отведены в доки, чтобы там их починили, гоплиты высажены, доступ в гавань загражден цепями, и священная галера спускала пурпуровый флаг, который развевался на верху белой мачты.
Стратег, сопровождаемый триерархами и начальниками гоплитов, медленно стал подниматься по лестнице на набережную, где его ждало пятьдесят пританов во главе с Эпистатом, стоявшим под легким полотняным тентом, который держали над ним на копьях четыре воина. Старик подошел к верхней ступени и сказал громким и ясным голосом, так что весь народ слышал его:
– Приветствую тебя, Конон, в стенах Афин, уже переполненных слухом о твоей победе!
И, взяв венок из дубовых листьев, который подал ему один из рабов на серебряном блюде, он поднял его обеими руками к солнцу. Конон снял шлем, опустился на одно колено и ждал, склонив голову.
Кругом в толпе, тоже опустившейся на колени, наступила тишина; все сосредоточились в себе и молились. Эпистат долго простоял так, как бы застыв в своей позе молящегося жреца. Когда, наконец, губы его перестали шевелиться, и он опустил голову, слезы, которых он не мог сдержать, текли по его щекам и седой бороде. Сколько раз за время этой злосчастной войны приходилось ему видеть возвращение таких же молодых воинов после одержанных ими побед, пробуждавших в народе несбыточные надежды, которых будущее не оправдывало. Он надел венок на голову стратега и сказал:
– Конон, народ афинский провозглашает тебя моими устами Победоносцем… Пусть это имя останется тебе верным в жизни и будет сопровождать тебя и в смерти.
С башен, защищавших гавань, стража протрубила в медные трубы во все четыре страны света об одержанной победе. Стоявший на коленях народ поднялся. Мощный крик: «Победа! Победа! Победа!» – раздался над морем. И подхваченное вслед за тем тысячами голосов имя победителя понеслось вместе с народом к Афинам.
В углу большой площади стояла колесница с бронзовыми колесами, запряженная парой белых лошадей, у которых гривы были окрашены в красный цвет. Молодой раб, не имевший другой одежды, кроме пурпурового пояса вокруг бедер, с трудом сдерживал горячившихся коней. Конон вскочил на колесницу и схватил вожжи. Лошади взвились на дыбы, а затем пустились галопом по осененной платанами дороге, которая вела к городу.
Но так как жаждавшая его видеть толпа расступалась перед ним не так скоро, как бы ему хотелось, то стратег, выехав из Пирея, вдруг повернул направо, проехал несколько стадий по берегу моря и, переправившись через двойной каменный мост, переброшенный через Кефис у его устья, очутился, наконец, на минихийской дороге. Там прохожие встречались только изредка. Те, которые знали Конона, приветствовали его поклоном; он поехал быстрее.
– Что поделывает Леуциппа? – спросил он у стоявшего за его спиной раба.
– Леуциппа каждый день ходил на Агору узнавать, нет ли каких известий. Два раза его носили по его приказанию на вершину Ликабетта, откуда виден Суниум и море.
– Как узнали вы о победе?
– От гонцов, которых ты прислал, господин. Они прибыли ночью. Они успели всего в четыре часа времени добраться с мыса до Афин.
– Узнай, как их зовут. Я награжу их. Когда Леуциппа узнал об этом?
– Я разбудил его сегодня утром, как только увидел огонь на горе.
И, видя, что Конон ничего не спрашивает больше, прибавил:
– Я сказал об этом также и Лизистрате, старой кормилице, которая шла с амфорой за молоком. Она выронила амфору, господин, и бросилась в гинекей… а так как амфора была глиняная, она разбилась, – лукаво прибавил раб.
– Ты славный малый, Ксантиас. Ты отрастишь себе волосы, и в следующий раз я возьму тебя с собой в поход.
– О, господин, какой ты добрый, – сказал раб, покраснев от удовольствия. – И у меня будет шлем и меч?
– У тебя будет шлем и меч, и я дам тебе стальную кирасу. А теперь молчи.
Они приехали в Иллиссус. Лошади, фыркая, перешли через ручей, полный грязной воды, и сами пошли шагом, чтобы достичь склона дороги, проходившей в этом месте по последним контрфорсам Агриля.
Конон, сгоравший от нетерпения узнать о том, что его больше всего интересовало, решился, наконец, предложить вопрос, который все время вертелся у него на языке.
– А ты видел дочь Леуциппы, Ксантиас? Как она поживает?
– О, господин, – отвечал раб, – почему ты не позволил мне рассказать тебе о ней: я знаю кое-что такое, о чем тебе надо знать, господин, и еще кое-что такое, чего раб не должен знать; я люблю ее так же, как и тебя, я предан ей так же, как и тебе, потому что она так же добра и милостива, как и ты. Целый месяц она вышивала покрывало Афин, которое должны прикрепить к мачте галеры. Каждый день она ходила в храм с Лизистратой. И, так как они возвращались, когда уже становилось темно, я выходил к ним навстречу с большой собакой Кратером. Один раз, господин, какой-то пьяный погнался за нами. Я взялся за палку, Кратер оскалил зубы, и тот человек ушел, ругаясь. Лизистрата испугалась и убежала; но она не тронулась с места, господин. Она сказала мне, что я храбрый, и что она надеется на меня.
– Кратер хорошая собака, – сказал, улыбаясь, Конон. – Я отдаю тебе Кратера.
– Он любит меня. Все его боятся: он слушается только меня. В тот день, когда этот человек ушел, она сказала мне: ты хорошо сделал, Ксантиас, что взял с собой эту большую собаку. «Госпожа, мне было так приказано. Нам обоим приказано охранять тебя». – «Кто тебе приказал?» – спросила она. – «Он приказал, госпожа. Когда он уезжал, он сказал: ты дашь убить себя и собаку прежде, чем кто-нибудь тронет ее». Она улыбнулась, потом опустила свое покрывало и больше ничего не сказала мне.
Но с того дня, когда она приходила утром вышивать под платанами, она приносила с собой хлеб, намазанный медом. Кратер, хоть и собака, но лакомка и очень любит мед. Один раз осталось немного меду на концах пальцев у госпожи. Собака хотела облизать их, и она слегка ударила ее по носу. Знаешь, господин, Кратер заворчал на нее. Тогда я наскочил на него и бил его так сильно и так долго, что все вышли, услышав его вой, и даже сама Носсиса вышла под портик.
– Значит, дочь Леуциппы приходила работать одна на двор?
– Да, господин, но она немного работала, хотя ее пальцы так же искусны, как пальцы Арахнеи. Она смотрела на воробьев, которые купались в бассейне. Раз с ней приходила маленькая Миррина. Она хотела сорвать цветок, и ее кукла упала в воду. Я был там; я ее вытащил. С этого дня Миррина всегда улыбается мне, а Носсиса велела дать мне постель в маленькой комнате, где я живу вместе с Кратером. Я очень счастлив, господин.
Конон обернулся и дружески потрепал темные щеки юноши.
– Будь всегда при ней, – сказал он, – а когда тебе исполнится двадцать лет, я отпущу тебя на волю.
Скоро колесница переехала по деревянному мосту через широкий ров, который дополнял между Долгими Стенами и стеной Фалерона ограду города, и почти тотчас же колеса застучали по плитам. Чтобы избежать узких и загроможденных улиц, Конон проехал в Керамику другой дорогой, и через несколько минут колесница остановилась у лестницы перед домом Леуциппы.
Дом принял праздничный вид. Колонны были задрапированы розовыми и белыми тканями, цветы каскадами ниспадали на ступени; огромная, увеличивавшаяся все более и более толпа, которую служители с трудом сдерживали, запрудила улицу; любопытные влезали на столбы, взбирались на низкие крыши домов. Восклицания тех, которые видели что-нибудь, отвечали на крики тех, которые ничего не видели. Порой голоса внезапно стихали, и тогда все хором подхватывали припев, которым обычно приветствовали триумфаторов: «Ио Конон! Ио Конон!»
В глубине протирона бронзовые двери были отворены. В них стоял улыбающийся Леуциппа, а за ним, вопреки обычаю, Эринна, вся розовая под своим прозрачным покрывалом, с небесной улыбкой в глазах протягивавшая руки своему жениху.
На следующий день, придя с зарей, он нашел молодую девушку уже вставшей, и они оба отправились посидеть под тем деревом, которое было свидетелем их первого объяснения.
Как и месяц тому назад, Эринна положила голову на плечо Конону и, прижавшись к нему с грациозной беспечностью, вложила все свое сердце в свою улыбку. Он, прикасаясь губами к золотистым волосам молодой девушки и держа ее руку в своих, одновременно расточал слова любви и поцелуи.
– Я даже и не подозревал, что это время так удивительно хорошо. Много раз я видел, как зачинался день на горе или на море, и как солнце окрашивало горизонт. Сегодня я вижу один только розовый луч, который трепещет на углу стены и на листьях, неподвижность которых походит еще на сон… и несмотря на это, мне кажется, что яркий свет ослепляет меня… Как быстро захватила ты меня всего! Иногда я спрашиваю себя, неужели я тот самый человек, который еще вчера командовал грозным войском и который теперь с упоением преклоняет колена перед твоими детскими ножками.
Эринна, приблизив свои уста к его губам, отвечала тихо:
– Да, тот самый. Но не говори больше. Боги могут позавидовать, потому что я слишком счастлива. Дай мне закрыть глаза. Чтобы смотреть на тебя, мне не надо открывать их, и мне кажется, что я даже лучше вижу эти минуты, которых другие, более приятные минуты не заменят никогда.
– Ты ошибаешься, Эринна, бывают минуты еще более приятные, и я вместе с тобой начну страницы новой книги твоей жизни.
Он наклонился совсем близко к ее уху, и нимфы, живущие под древесной корой, одни только вместе с ней услышали его слова.
– Когда затихнут прекрасные песни и последний стих твоей эпиталамы прозвучит на лире, моя невеста станет моей дорогой супругой. Понимаешь ли ты меня? Ответь мне.
– О! Я хорошо понимаю тебя, – сказала она. – Я прошу только богов, чтобы они позволили мне насладиться всем счастьем жизни.
Пурпуровая лента, связывавшая ее волосы, упала, и они развевались теперь вокруг ее головы. Они больше не разговаривали. Поднимавшееся уже к зениту солнце обливало их своим светом.
Однажды Лизистрата отправилась вместе с Эринной в храм Афины, где девушки, подруги Эринны, доканчивали символическое покрывало. С работой нужно было торопиться, потому что великие панафинеи были ужо близко. Конон приказал запрячь свою колесницу и, подъехав, остановился у подножья пропилеев. Когда, по окончании работы, молодые девушки появились веселой толпой на верхних ступенях, он подошел к удивленной Эринне и вложил ей в руки букет роз. Затем, к удивлению смутившихся при виде него девушек, он заставил ее взойти на сверкающую колесницу и, поддерживая ее одной рукой, взял в другую руку вожжи. Лошади сначала было заупрямились и топтались на одном месте, но затем рванули и, управляемые твердой рукой, галопом проскакали всю дорогу между могилами. Серебряный орел с распущенными крыльями, украшавший дышло, казалось, летел: так быстро мчалась колесница. На стратеге был его парадный костюм, его волосы были охвачены золотым обручем, пурпуровый плащ развевался. Лошади точно летели по воздуху.
Испуганным прохожим казалось, что они видят самого Ареса и белокурую Афродиту, а между тем это были только жених и невеста, гордые своею любовью и воображавшие, что несутся к счастью!
Вдруг им преградила дорогу группа флейтисток. Они шли впереди великолепных носилок, которые несли на плечах сильные либийцы, и на которых возлежала на шелковых подушках молодая женщина чудной красоты. Ее черные, как Эреб, волосы волнами окружали ее лицо, несмотря на серебряную диадему. На ней была тончайшая туника, вышитая цветами лотоса; бледно-голубой шарф только наполовину закрывал ее грудь. На руке ее висел веер из перьев, таких же легких, как ее улыбка.
Флейтистки, при виде колесницы, разбежались в испуге. Носилки остановились. Облако пыли, поднятой колесницей, покрыло их совсем. Колесница проехала.
В тот же день вечером Эринна, выйдя из гинекея, позвала Ксантиаса.
– Ты шел за нами, возвращаясь из храма?
– Я далеко отстал от вас, госпожа, потому что колесница ехала очень скоро.
– Ты встретил носилки, которые несли черные рабы, и впереди которых шли флейтистки?
– Встретил, госпожа.
– Знаешь ты женщину, которая лежала в носилках?
– Да, я знаю ее имя, госпожа. Ее зовут Лаиса, – отвечал юноша.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































