Текст книги "Чем пахнет жизнь"
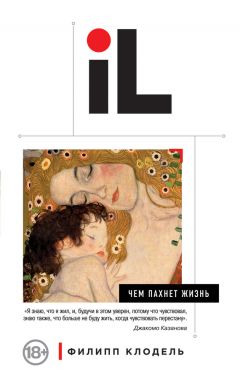
Автор книги: Филипп Клодель
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Погреб
Cave
Мои двоюродные бабушки Тирион, сестры бабушки со стороны отца, живут в Сен-Блезе; это маленькая деревушка в Вогезах, там всего одна улица. Мы зовем их «тетушками из Сен-Блеза», объединяя всех в античную триаду и почти забыв имена, которые помогли бы их различать: Берта, Катерина, Маргарита. Почему же и сегодня встают в моей памяти с болезненной четкостью их черты, их морщины, их волосы и чепцы, их черные, серые и темно-синие одежды? Я нежно люблю бабушку со стороны матери, но лицо ее совсем позабыл. А эти никогда не улыбающиеся старухи мне вовсе не нравятся, а между тем они расположились в моих воспоминаниях вольготно, как у себя дома. Незамужние, они живут втроем в большом семейном доме, задний скат его крыши спускается до самого огорода, чью границу до первых заморозков сторожат капустные кочаны. А дальше – лес, мутный бархат черных елей, мха и ветвей до земли. Нас принимают в кухне, скупо освещенной низким окошком и лампочкой под потолком, которую зажигают, только когда лиц уже не различить. Я у них – ставка в раздорах, мне непонятных, уходящих корнями в какие-то давние обиды: нас всякий раз угощают пирогом с мирабелью, початым, клеклым и безвкусным, на который я от души набрасываюсь, к вящему огорчению мамы – ведь она непревзойденная мастерица выпечки. И всегда-то одна из теток не преминет заметить: «Надо же, проголодался, бедный малыш!» – как бы пеняя ей, что она меня недокармливает и, стало быть, плохая мать. Потом меня отпускают погулять по дому. Я поднимаюсь в спальни, где кто-то спал в последний раз году этак в 1915-м. Открываю шкафы, обнаруживаю пропахшие нафталином шляпы-котелки, костюмы покойников, тонкие бамбуковые тросточки, засушенные букеты, раскрашенные фотографии. Этот музей канувших жизней кажется мне книгой без букв. Я смутно предощущаю, что мне придется однажды составить и записать этот алфавит. Мне, ребенку, позволяют вдыхать запахи мертвой пыльцы, вдовьей шерсти, сиротского белья, чтобы ребенок этот со временем связал их в канву и воскресил жизни, сгинувшие в войнах, болезнях и несчастных случаях. Спальни, чердаки, все, что наверху, журчит заупокойным пением, а вот погреб, чрево во всю длину огромного дома, – это поэма Ада. Я спускаюсь туда, весь дрожа, но никогда не дохожу до конца – да и есть ли у него конец? Тьма, через несколько метров – абсолютная. Этажерки, на которых лежат бутылки вина с серыми горлышками и стоят банки с соленьями, исчезают в ней вместе с каменным сводом. Холод становится осязаемым, и вот я уже ступаю ногами – не на каменный пол, нет, – на землю, словно вскопанную заступом могильщика. Меня обдает дыханием пещеры, тяжелым, липким, вязким от глинистой грязи. Пробирает озноб. Я останавливаюсь. Хочу пробыть как можно дольше в этой бездне. Мое сердце, маленький зверек в клетке, отчаянно бьется о прутья-ребра. Погреб манит чарами плесени и гнили, смутных испарений, это – ночной поцелуй сирены глубин, которая душит меня, обвивая щупальцами. Но страх сильнее меня, и вот я, развернувшись спиной к непроглядной бесконечности, бегу по узким коридорам к маме, бросаюсь, чуть дыша, в ее раскинутые руки под сухим и неодобрительным взглядом трех старых теток, две из которых, ворча, почесывают волосатые подбородки.
Гостиничные номера
Chambres d’hôtel
Мне знакомо много гостиничных номеров. Даже, наверно, слишком много. И то, что в детстве до крайности волновало меня, теперь – лишь легкий укол тревоги. Понравится ли мне этот номер, ключ от которого я только что получил и о котором ничего не знаю – какой в нем свет, цвета, мебель, запахи? Будет ли мне в нем уютно? И главное, главное – смогу ли я там писать? Ибо гостиничные номера уже много лет как стали моими кабинетами и лабораториями. Там я произвожу на свет свои рассказики. А еще – в поездах и в самолетах. В движении, стало быть, или в неподвижности, но в замкнутом пространстве и всегда – далеко от дома. Мне пять, семь, десять лет. Гостиничный номер означает каникулы. Он вмещает весь их размах и новизну. Все здесь пахнет не так, как дома, и, что я помню особенно четко, – запах мыла и чистых полотенец, которым, стоит только переступить порог, встречают меня эти номера в долине Отцталь в Тироле: обстановка скромная, лакированное дерево и пуховые одеяла предвещают уют, в котором я проведу несколько дней. Эта комната не моя. Она не знает меня и ничего от меня не сохранит. Я вхожу в это место, незнакомое, без чужой памяти, пространство абсолютной обезличенности, и мне должно бы быть в нем не по себе, но оно, наоборот, как-то успокаивает меня: я путешествую, я здесь только проездом. В гостиничных номерах нам следовало бы видеть метафоры наших жизней. Новое ковровое покрытие, постельное белье, выстиранное и выглаженное в больших прачечных, где используют одни и те же средства, эффективные и ничем не пахнущие – и это отсутствие запаха, в конечном счете, само по себе становится запахом. Тщательно продезинфицированная ванная, платяные шкафы, тоже не пахнущие ничем, иногда – цветы в вазах, но и те подбираются без аромата, ненавязчивые, чаще всего орхидеи. Запахи только в ванной. Гель для душа, увлажняющий крем, мыло. Вот я и вернулся к нему. И к тому впечатлению детства. В гостиничном номере мыло другое, не то, что дома. Иногда я ничего в нем не пишу. Комната не располагает, и я не пытаюсь понять: почему. А иногда пишу часами, забыв о собственной жизни и течении времени. Эта комната принадлежит мне лишь временно. Я оставлю здесь свой запах, как зверь на тропе или на лежке в кустах. Но завтра же, вскоре после того, как я съеду, все мои следы сотрут. Никто, войдя в эту комнату, не узнает, что ее занимал я. Как быстро мы здесь забываемся. Снова метафора. Иногда, заглядывая под кровать в поисках оброненных очков или ручки, я нахожу носок, пуговицу, обертку от жвачки. Да, и только тогда, по этим признакам, я понимаю, что комната знала как минимум еще одного жильца, о существовании которого говорят мне эти мелочи. Но я не детектив и не археолог, чтобы читать по этим следам. В некоторых комнатах курили. Миазмы табачного дыма въелись в ковры и занавески, в матрасы, в шкафы. Мыло и табак. Занятная смесь, но остывший табачный дым, в конечном счете, воняет всегда одинаково. Он ничего не говорит о том или о той, которые курили здесь. А, кстати – мужчина это был или женщина? Кто ночевал здесь вчера? Гостиничный номер – бесполая комната. Или же гермафродит. Она безразлична, вот что. Ей плевать. Отдается тому, кто платит. Как шлюха, что закрывает глаза и не целует в губы. Она наша на несколько часов, на одну ночь, когда мы будто бы единственные, она впитывает наши запахи, чтобы лучше лгать нам, а потом изгоняет их, как изгоняет и нас. Если она чем и пахнет, так это нашей быстротечностью и мимолетностью.
Уголь
Charbon
Мы топим дровами или углем. Больше, впрочем, углем, чем дровами, – его перед каждой зимой привозит нам грузовик от Обера. Десятки грязных джутовых мешков носят двое мужчин, чьи лица, как ночь – только белизна зубов и глазных белков придает им хоть какую-то человечность, и то жутковатую, это человечность убийц или пожирателей детей. Одного зовут именем северного бога, Один. Их руки – такими только шеи сворачивать – подхватывают мешки из кузова грузовика, движением поясницы грузчики взваливают мешки на плечо и медленным шагом спускаются с ними вниз, в погреб. Сделав дело, грузчики утирают пот со лба тыльной стороной грязной ладони. Отец угощает их стаканчиком красного, который они опрокидывают залпом, стоя, не произнося ни слова. Уголь в брикетах, квадратных или овальных, или просто россыпью. Куча угля соседствует с кучей картошки. Обе одновременно уменьшаются, неделя за неделей. По ним можно измерить, как идет на убыль зима. Из всех труб в городе валит густой черный дым, тяжело поднимающиеся в небо клубы почти не рассеиваются. А часто бывает даже, что небо их отторгает, прибивает к земле, а стало быть, к нам. Мы задыхаемся в удушливом тумане, и частички сажи оседают повсюду, на деревьях в саду, на развешенном белье, на наших волосах, на снегу – полной противоположности угля. Меня посылают в погреб. Я наполняю цинковое ведро занятной формы – прямоугольное основание сужается и округляется кверху. Поднимаюсь, держа его двумя руками. Плита ждет угля, как оголодавший зверь кормежки. Крюком открываю дверцу и ссыпаю черноту в ее красную пасть. Вырывающийся из жерла жар жжет кожу, а иногда и подпаливает немного брови. Как будто опалили поросенка. Плита марки «Зугланд» переваривает свой корм, урча от удовольствия. Она сыта. Я открываю ранец и принимаюсь за уроки на кухонном столе, весь в запахе вечернего супа. Мне хорошо. Я люблю читать и писать на кухне. Это лучшее место для меня, простое и без затей, никакого официоза. Здесь не надо выглядеть, не надо играть ни в какие социальные игры. Кухня знает наше истинное нутро. Она видит нас утром, с помятым после ночи лицом, и вечером, когда, после долгого дня, мы позволяем себе расстегнуть пояса и показать наши слабости. Поставщики угля постепенно исчезают: устанавливают центральное отопление. Революция. Тепло и чисто. Погреба больше не черны от сажи. Хозяйкам не надо гоняться за пылью. Из труб идет прозрачный, ничем не пахнущий дымок. Запах забыт. Закрываются шахты. В окнах новенькие стекла. Уголь уходит из нашей жизни. Минуло много лет, и вот я иду по улицам польского города Катовице. Февраль месяц. Очень холодно. Уже стемнело. Навстречу попадаются закутанные фигуры, спешат, опустив головы, лиц не видно под большими шапками, низко надвинутыми кепками. Скупо освещенные магазины. Не слишком заманчивые кафешки. Какие-то пьяницы бранятся с собственной тенью. Вдруг порыв ветра, налетевший сверху, разом сметает с крыш все, что на них застоялось, – и я уже окутан пыльным и едким дымом, не то зеленоватым, не то желтоватым, пощипывающим горло и ноздри. Уголь. Уголь, которым здесь, в краю работающих шахт, еще повсюду топят. Запах детства и бедности, запах печали, как будто в черных частичках сажи заключено горе, большое и маленькое, с последствиями и без, вечное и преходящее, пятнами оседающее на человеческих жизнях.
Падаль
Charogne
Au detour d’un sentier[5]5
Строчка из первого четверостишия стихотворения «Падаль» из книги «Цветы зла» Шарля Бодлера: «Au detour d’un sentier une charogne infâme» – дословно: «…на повороте тропки зловонная падаль…»
[Закрыть] порой вдруг вдыхаешь запах, звучный, сильный, осязаемый, взболтанный крылышками тысяч насекомых, для которых смерть – и промысел, и жизнь, и музыка. Вдыхаешь – и погружаешься в поэзию. Бодлеровскую, конечно же. Черную поэзию жизни и ее конца. Под открытым небом, вдали от всех погостов. Прекрасны небеса, плодоносящие деревья, цветы на живых изгородях. Зеленеет густая, причесанная трава, рыжеет земля, все поет, и вдруг ты натыкаешься на смерть. Дурманящую. Сладкую. Животную. Жуткую. Не такую уж и жуткую, впрочем. Скорее, досадную, как подгнившее рагу или остаток дичи, забытый на дне кастрюли. Часто – лишь запах, больше ничего. Останков животного не найти. А что, если так пахнет его призрак или наш страх? Много раз в лесах Серра, Фленваля, Юдивилье я искал трупы, почуяв их дух в ходе игры в полицейских и воров. Но кто здесь ворует? В выигрыше смерть, она забрала лису, прошитую дробью крестьянина, стыдливую кошку, ушедшую умирать подальше от хозяев, больную косулю, растерзанную бродячими собаками. А потом за дело берутся жара и тлен. Вздутое тело, газы, истечение соков. Остальное известно. Падаль, невыносимо запредельный цветок, скромна, как будто не смеет показаться на глаза. Скрытая. Неуспокоенная. Робкая. Что от нее остается – лишь яркая память. Падаль ни на что уже не похожа. Нечто бесформенное. Живое, устыдившись, укрылось в вони. Последнем своем пристанище. А потом подует свежий ветер с Вогезов, прольется дождик – и все кончено. Когда проходишь позже в том же месте, тебя встречают ландыши или боярышник в цвету, и только шуршат по мху осторожные шажки ласки.
Жнивье
Chaume
Иногда кажется, будто видишь большие головы с коротко остриженными волосами. Светлый ежик на сухой коже. По-военному. Конец июля, жара. Идет жатва. Косить – больше не косят. Все делает машина. Огромная, во всю ширину двухполосного шоссе, и по ночам пшеница, которую она жнет, освещается огнями межпланетного корабля. Когда все кончено, на месте моря колосьев остается лишь голая земля, лишенная своей пышной шевелюры. Лысина. Поля скошены. Через несколько недель их вспорют лемехи плугов, и, распаханные, они будут отдыхать в ожидании сева озимых. А пока корни срезанных стеблей еще привычно тянутся к влаге. Только немного жесткой соломы да не попавшие в кузов зерна прячутся в рытвинах, напоминая о том, что было. Прогуливаешься по дороге Трех Дев и, чуть не доходя часовенки Нотр-Дам-де-Питье, уже ощущая тень ее каштанов и журчание источника, идешь вдоль жнивья, пахнущего пекарней и теплым хлебом. Ветер над стерней вздымает в небо желтые вихри, которые в извивах света местами отливают серебром. Тучи. Маленькие безобидные циклоны. Кажется, будто попал в главу из Библии. Не успокоишься, пока вправду не найдешь Бога. Слетаются птицы, точно сухой дождь, сыплются большими черными каплями под взглядом акаций, выстроившихся колючими отрядами вдоль дороги. Птицы мародерствуют, отбирая у обреченного последние упавшие зерна пшеницы. Солнце припекает, нагревая пыль, стебли, растрескавшуюся землю, чудом уцелевшие колоски, одинокие, беззащитные перед клювами птиц и зубами грызунов. Тесто. Дрожжи. Опара. Мука и белый передник. Я закрываю глаза и переношусь к дверям Розы или Флорантена, двух булочных на улице Матье. Я рассекаю холодную ночь на велосипеде, мне навстречу движутся огни в скрежещущей музыке генераторов. Спешившись перед булочной, непослушными от холода пальцами толкаю дверь, открытую с пяти часов. Первая выпечка уже распространяет душистое тепло, багеты – мы зовем их дудочками – и фунтовые булки, именуемые здесь длинными хлебцами – рядком на полках или еще стиснутые в корзинах ждут первых покупателей. Это рабочие после ночной смены, старики и старушки, которым не спится, оттого что им одиноко, рыбаки, собравшиеся на утреннюю ловлю, проезжие дальнобойщики. Я засовываю хлеб между курткой и толстым свитером, поднимаю воротник и качу во весь опор обратно. Дом еще спит. Будет им сюрприз – свежий хлеб. Кузнечики и жаворонки, вместе или вразнобой, наяривают песню плохо заточенной пилы, силясь перепилить свет дня. Я миновал жнивье. Голое бугристое поле дрожит в жарком мареве. У каменной ограды за часовней я вкушаю тень, точно прохладное питье. Где вчера, где сейчас – все смешалось. И я, счастливый, кручу педали, еду домой, к нам, к кофе с молоком, маслу и клубничному варенью, а на груди у меня сладостный ожог, как будто кто-то засунул мне под куртку ломтик солнца.
Капуста
Chou
Селин – кажется, он – говорит о нем, как о запахе переваренной бедности. Капуста в супе на обед и на ужин, не сдобренная мясом, а этот запах неопрятных тел въедается в облупленные стены лестничных клеток, в подвалы и подъезды, в низкие потолки чердачных комнат, в затхлые привратницкие, заполняя каждую трещинку, словно ничего не склеивающий клей. Что-то вроде визитной карточки нищеты. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кем ты никогда не будешь. Я, ребенок, стыжусь запаха капусты, и этот стыд может сравниться только с удовольствием, с которым я ее ем. До отвала. Да. Капустный суп. Тушеная капуста. Кролик с капустой. Капуста с салом, маленькие кочанчики брюссельской капусты, припущенные на сковороде, сохраняющие почти сырую сердцевинку, сами по себе или с картофелем, долго томятся под крышкой, чуть прилипая ко дну жирной карамелью, вбирающей в себя все их ароматы. Мои волосы и одежда выдают меня после обеда, как выдает нас жареное филе мерлана по пятницам. Но в этот день пахнем мы все, и хозяин тоже. А вот с капустой я зачастую одинок, и все демонстративно зажимают носы, когда я прохожу мимо. Остывшая капуста просто убийственна. От нее всегда что-то остается. Следы преступления. Зависший туман. Это неумелый убийца, которому даже в голову не приходит скрыть улики. Так пахнут иные старики, которых никто не любит и не навещает. Запах обреченных. Он стоит в домах престарелых и в следственных изоляторах. Как будто капуста – обязательный атрибут мест заключения, только она и сопровождает горе и кары, сопровождает их жизни до самого конца, жизни сломанные, поднадзорные, жизни испорченные, задушенные, разрушенные – и умирающие. Капуста – неотъемлемая часть приговора. И даже когда ее нет и не было вовсе, она – как только ухитряется? – все равно пахнет, что ты с ней поделаешь, в непроветренных комнатах, в грязных носках, под мышками, под юбками, трусами, повязками. Запах, неистребимый даже в своем отсутствии. Такой, в общем, банальный, что другие запахи, подражая ему, самозванно им становятся. В сущности, она – ничто, и, наверно, поэтому так долго была пищей тех, кто сами никто и звать никак, и так прочно въелась в их кожу. Непопулярная. Отверженная. Изгой. Лузер. Не стоит внимания. Я надеюсь, что от меня еще долго будет разить капустой.
Сигара
Cigare
Ночь и тропики. Ночь густая, как тесто, и теплая, нет, больше того – обволакивающая: ночь стала одеждой. Для тел. Она окутывает праздного гуляку, шатающегося по бессонному городу. Гавана, Тринидад, Сантьяго-де-Куба. Ночные города, плотские ночи в брызгах музыки. Музыка везде. Входит, выходит, обвивает, манит, зазывает, ласкает. Музыка – и танец, ее грошовый наряд, танец, соединяющий тела в каждом, самом тесном баре, на любой, самой маленькой площади. Здесь пьют мохито, запрокинув голову. Ищут звезды в небе, но звезды – они здесь, рядом, в глазах, на губах, здесь черные плечи блестят от пота, здесь глотки мертвы, а взмокшие платья липнут к ляжкам. Я иду на улицы, чтобы допьяна упиться встречами, и пью, стоя в шумных зелено-синих барах или сидя на ступеньках закрытых церквей под белеными стенами. Кубинская ночь пахнет ромом, потом и сигарой, жаром импровизированных печей в бочках из-под машинного масла, где по-походному жарятся пиццы без томатов и оливок. Проходят девушки, громко смеясь, и дым тянется за ними, мечется, маня их запахом жареного какао, теплого шоколада, влажных листьев, тронутых огнем, старого алкоголя, выдержанного в благородном дереве. Сигары. Фонарики в ночи, эфемерные маяки для моряков без судна, они дарят пальцам, их берущим, и губам, их целующим, свое вытянутое тело, одновременно твердое и гибкое, теплое и свежее, растительное, живое, смертное. Пить, танцевать, курить, и снова пить, и снова танцевать, и курить до утра этот жар пламенеющего леса, затворившись в раю облаков, которые порой пахнут кожей и шерстью, женской и волчьей, и гумусом, и поджаренным хлебом А потом, когда свет зари разбавит сумрак ночи, точно капля лакрицы в стакане молока, выйти к бьющемуся о набережные морю. Вдохнуть его, закрыв глаза, устало раскинув руки, услышать, как стучит его пульс о волнорезы, и рассмеяться, вторя первому смеху ребятишек, которые бегут, голые до пояса, порыбачить.
Кладбище
Cimetière
Напротив нашего дома, по другую сторону шоссе, лежит обитель мертвых. Они покоятся под плитами из мрамора и гранита, из светлого известняка, посеревшего от времени и дождей, или в часовенках – это те, кто побогаче, но и их мошна не уберегла от последнего приюта. Соседство мирное, ровное, убранное цветами. Город в миниатюре, где есть и нищие кварталы, развороченные, осевшие или вовсе снесенные, есть и роскошные, ухоженные, почти кокетливые, и есть две-три элегантные аллеи, где скромно похрустывает под ногами гравий. Внизу – покойники, молодые и старые, где рассыпающиеся кости, где свежезахороненные во взрытую землю: она еще долго будет приходить в себя под охапками цветов, которые лишь на несколько дней переживут усопшего и тоже вскоре начнут гнить. Вот этот-то запах и преследует меня до сих пор, кисловатый душок растительного разложения, застоявшейся воды, что становится желтой или зеленоватой в стеклянных и каменных вазах, и эти груды поникших далий, вороха увядших хризантем, бегоний, гладиолусов, измученных ромашек, гвоздик и лилий с вонючими, покрытыми слизью стеблями. Цветы, которых покинули их яркие и чистые краски, как новобрачных наутро после свадьбы покидают их ветреные мужья, слились отныне в тускло-бежевую гризайль[6]6
Гризайль (фр. Grisaille от gris – серый) – вид живописи, выполняемой тональными градациями одного цвета, чаще всего сепии или серого, а также техника создания нарисованных барельефов и других архитектурных или скульптурных элементов.
[Закрыть], отринув свои различия и свою природу. Компостная яма. Вот какое последнее пристанище определяют им близкие умерших, когда, скрепя сердце, убирают с места погребения, разочарованные их нетоварным видом, и безжалостно бросают в этот бетонный квадрат, который становится их могилой, и в котором, как всякий умерший, они еще некоторое время сохраняют форму своего тела – объединившего их букета. Но как далек от этих тошнотворных запахов растительной смерти, от которых к горлу подступает противно-сладковатая желчь, вдруг рождающийся легкий душок теплого камня, когда на граните старых могил в островках мха тончайшая пленка воды, греясь на жарком солнце, пахнет лесным родником, и стоит закрыть глаза – кладбище исчезнет под сенью небесного леса, где мертвые становятся ничем не пахнущими тенями, а их тела – неувядаемыми лучами света.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































