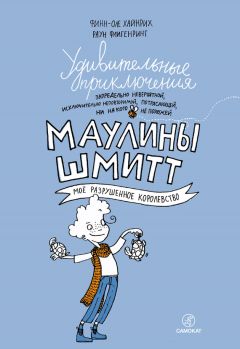
Автор книги: Финн-Оле Хайнрих
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 16
Сногсшибательная тайна
Сегодня просто идеальный день: и воскресенье, и солнышко светит. Мы сидим в садике и всё время на что-нибудь натыкаемся, за что-нибудь цепляемся: ногами за стол, руками за живую изгородь, вилками и ложками за тарелки. Потому что в Пластикбурге всё крошечное, как в кукольном доме. В садике умещаемся только мы вдвоём и стол со стульями, с точностью до миллиметра. Ну и между чашками и блюдцами остаётся ещё место для жужжащих шмелей. Я успокоилась, снова вернулась в себя. И голос опять на месте. А Тот Человек – ну его! Пусть печёт блинчики, кому хочет.

Оглядываюсь вокруг, потом смотрю на маму и говорю:
– Знаешь, а в Пластикбурге вовсе не так уж плохо. Главное – что мы с тобой вместе.
Мама улыбается мне, нижняя губа у неё подрагивает. Вообще-то с такими заявлениями надо поосторожней: они и самую сильную женщину могут выбить из колеи. А в последнее время мама очень ранимая и грустная – ничего удивительного, я понимаю, мне тоже очень грустно. Она не хочет этого показывать, изображает сильную женщину, ну и ладно, не буду её смущать. И я продолжаю:
– Я тут провела небольшое расследование, и знаешь, что мне удалось выяснить? – На пару секунд замолкаю, но паузу не затягиваю. – Я узнала, почему тут в Пластикбурге всё так устроено. Оказывается, это была квартира для больной женщины. Тут жила женщина, которая сидела в инвалидном кресле, и ей нужен был пандус вместо лестницы, чтобы заехать в дом, а внутри – длинные ручки, для окон и всего. И знаешь, теперь меня всё это больше не раздражает. Тут ведь всё со смыслом, а не для того, чтобы меня позлить или потому что у кого-то вкуса не хватило… Только я вот чего не понимаю, мам, – почему именно мы здесь поселились? Наверняка есть много людей, которым нужно именно такое жильё, а его заняли мы. Надеюсь, мы этот дом ни у кого не отняли.
– Ах, Паули… – говорит мама, вздыхает и отпивает глоток кофе. Она подтягивает коленки к груди и ставит кружку сверху. – Ты всё правильно поняла. Ты права, в такой квартире должен жить тот, кому нужны все эти приспособления. Но…
Мама делает паузу, глядит в небо, высоко в небо, потом снова опускает взгляд и смотрит на меня, в глазах у нее снова слёзы. Но она старательно натягивает на губы улыбку:
– Ох, у меня в горле вот такущий комок…
Долго смотрит в кружку, а когда наконец начинает говорить, голос у неё дрожит так, как дрожал бы мой, если бы я вчера осмелилась заговорить с Тем Человеком.
– Но… – говорит она, – мы ничьё место не занимаем. Мы переехали из Мауляндии, потому что мне стало очень трудно ходить по лестнице.
Я смеюсь.
– Да ты что, мам, ты же совсем ещё молодая!
– Я знаю.
– И спортивная!
– Да. Спортивная, – говорит она. И замолкает.
– Я не понимаю.
– Паулина, я болею. И вчера весь день провела в больнице. Я больна. Вот поэтому мы и переехали в Пластикбург.
– У тебя такая тяжёлая болезнь, что ты по лестнице теперь ходить не можешь?
Я не понимаю. Или не хочу понимать. Впиваюсь взглядом в мамино лицо.
– Такая тяжёлая, Паули, что скоро, наверное, мне придётся сидеть в инвалидном кресле. И пользоваться всем, что есть в Пластикбурге. Вот об этом я и хотела сегодня с тобой поговорить.
Глава 17
Раньше всех будильников в мире

Ухожу на кухню, закрываю за собой дверь, отгораживаюсь от мира.
Накрываю кухонный стол из Мауляндии пледом из Мауляндии, под стол кладу красный круглый коврик из Мауляндии, на него – все вещи из Мауляндии, какие могу найти, всё забираю с собой в эту эрзац-пещеру. Настольная лампа из Мауляндии светит точно так же, как в моём королевстве. Мауляндскими восковыми мелками на обратной стороне стола продолжаю рисовать карту Мауляндии, совершенно секретную.

Во всём совершенно точно виноват Тот Человек, это он всё поломал. Вот и маму наверняка тоже.
Я просыпаюсь очень рано, задолго до мамы и всех будильников в мире. Встаю, одеваюсь. Завтракаю одна. Стоя, очень тихо съедаю немного кукурузных хлопьев с молоком. И выхожу из дома в утро, которое на самом деле ещё ночь.
Я бегу. Вокруг темно, прохладно и тихо. Слышны только мои шаги и больше ничего. Минута проходит за минутой – и ничего, только тук-тук-тук моих кроссовок.
Потом просыпаются птицы. Не поодиночке, то тут, то там, а разом, всей стайкой, как будто это само дерево проснулось и начало петь. Некоторые чирикают тихо и неуверенно, другие – во всё горло. И так – дерево за деревом, пока утро не становится одной-единственной звонкой песней. Солнце встаёт, и я думаю о том, что птицы наверняка верят: это они разбудили его своим чириканьем. Свет появляется потому, что они поют во весь голос. Наверно, они считают, что это и есть их главная в жизни задача.
На школьном дворе – ни души. Бегу к спортплощадке, бросаю рюкзак, залезаю на футбольные ворота. Усаживаюсь, дышу, думаю. Хочется заорать – но я не ору. Я напряженно размышляю: а какая теперь у меня главная задача?
Вчера мама мне кое-что прочла и дала брошюрку, где написано про её болезнь.
Мы ходили гулять, потом лежали и плакали, потом не знали, что нам делать, и стали слушать аудиоспектакли, расстелив в гостиной пледы на полу, да так на них и заснули. Проснулись почти одновременно, я чуть-чуть раньше. Я лежала и смотрела на неё, как она возвращается из сна: вот сжала губы, вот открыла глаза. Мама улыбнулась мне и призналась, что давно уже знает о своей болезни. Первый раз она почувствовала, что что-то не так, два года назад, когда я уезжала на каникулы. Тогда она вдруг перестала ощущать ноги и несколько дней провела в больнице. Потом ей стало лучше. С тех пор такие приступы повторялись дважды, но она про это никому ничего не говорила, даже Тому Человеку, потому что сама не хотела верить в болезнь и говорить про неё. Тут мама усмехнулась и сказала, что, наверно, надеялась: если не обращать внимания, болезнь сама собой возьмёт и исчезнет. Но нет, не исчезла, и она сильна. Её очередное возвращение – только вопрос времени. Это такая болезнь, сказала мама, которая наступает волнами, и раз от раза всё сильнее.
– Как прилив и отлив, такая уж это болезнь, – говорит мама. – И не нужно попусту волноваться, возмущаться или прятать голову в песок, это ничему не поможет. Да и лекарства тоже не очень-то помогают. Ничего не помогает, – качает она головой. И глубоко вздыхает. – Ничего нельзя сделать, – мама пожимает плечами. – Ну то есть совсем. Совсем-совсем-совсем-ничего-ничего. Одно только можно: принять это. И смириться.
– Почему ты мне ничего не сказала? – спрашиваю я. – Как же так, ты всё знала, а мне ничего не сказала? Это несправедливо.
Мама говорит, что она сама совершенно растерялась. Сначала ей надо было самой во всём разобраться, спокойно всё осмыслить, собраться с силами, чтобы мне рассказать. Ведь это же огромная перемена для нас обеих, вся наша жизнь перевернётся с ног на голову, навсегда. И её жизнь, и моя. Она сама не знала, как с этим быть, что делать и что говорить. И решила: уж лучше не говорить ничего, чем сказать что-то не то. Но если бы она мне сказала обо всём сразу, я бы сейчас не чувствовала себя такой маленькой, глупой и беспомощной, мы могли бы вместе сходить с ума, маме не пришлось бы притворяться сильной. И с самого начала было бы ясно: без переезда в Пластикбург не обойтись. Тогда я не вела бы себя как полная идиотка, не тратила бы столько драгоценного времени на нытьё и Мяв, а занялась бы делом вместо того, чтобы строить в саду башни из черепах.

Мама говорит:
– Я не хотела, чтобы на меня смотрели как на больную. Понимаешь? Пока ничего ещё не заметно, я хотела… просто хотела жить нормально, пока можно. Чтоб никто не смотрел с жалостью. Моё последнее нормальное время в жизни, понимаешь? Последний раз. И чтоб никто у меня этого не отнимал, никто.
– А я, значит, отняла бы, да?
– Я не то хотела сказать. Ты начала бы спрашивать, начала бы вести себя по-другому, даже если бы пыталась делать всё, как обычно. Когда знаешь про такое, не обращать внимания уже невозможно. И всё перестало бы быть как всегда.
– Не обращать внимания невозможно.
– Невозможно.
– Так и тебе тоже невозможно. Так что всё уже стало ненормальным. Ты делала вид, что всё нормально, но в тебе, внутри тебя всё было уже не так.
– Нет. То есть, немножко, иногда – да. Но вообще-то нет. Я научилась не думать об этом, забывать, отвлекаться. А потом оно стало накатывать снова и снова, и в конце концов я сломалась. Проплакала всю ночь и решила: ухожу. А твой папа и не знал, почему я плачу.
– Не знал, значит. Я тоже не знала. Почему ты ничего не сказала? Я же твоя дочь!
– Вот сейчас говорю.
– Ага, сейчас – через два года! Да за два года можно звездой стать и двоих детей родить!
– А Тот Человек? – спрашиваю я. – Когда он узнал?
– Он, – говорит мама, – тоже всего пару недель как знает.
Челюсть у меня отваливается.
– Так значит, я самая-самая последняя, кому ты сказала? Даже с Тем Человеком ты раньше поговорила! И вообще – ты с ним разговариваешь?!
Я стою перед раздевалкой в спортзале и жду. Чувствую себя черепахой, голова втянута внутрь, я закована в панцирь из ярости, залакированный мыслями о болезни, отполированный плохим настроением, плюс ещё рюкзак с несделанной домашкой. Вокруг вопят и скачут мальчишки, пахнет мокрыми кроссовками и потом. Бастиан, Карл и Вим играют в игру «кто громче захохочет другому в ухо». Если б не панцирь, спросила бы, не двинуть ли им по башке, чтоб мозги на место встали.
Я отрезана от мира, в голове крутятся вопросы. Как всё будет дальше? Что вообще будет? Как мы будем жить? Что за жизнь это будет? Мама в инвалидном кресле. Чему мне надо научиться, что я могу сделать, кто будет нам помогать? Тот Человек? Вряд ли. Я покажу им всем! И в первую очередь – этой болезни! Спорим? Мауляндия ещё далеко не потеряна. Вот наловчусь – и буду буксировать маму на пятый этаж, легко.
Всё это – вопрос тренировки, думаю я, и вдруг кто-то вырывает у меня из рук мешок с формой для физры. Меня разворачивает, и я со всего размаха плюхаюсь на пол, на пятую точку. Яннис Динстер, идиот из идиотов, ржёт, хлопая себя по коленкам.
Он бросает мешок Лучиано, Лучиано – дальше Кубичеку, а тот – Анне-Лене. Она мешок ловит, но перебросить дальше не решается.
– Сюда кидай! – кричит ей Яннис.
Поднимаюсь с пола, выпрямляюсь, медленно подхожу к Яннису, он всё ещё ржёт, а я думаю: «Сейчас, дружочек, ты смеяться перестанешь».
Мешок снова в воздухе.
Я могла бы сожрать вас, червяки, щенки, гномы, сожрать и не подавиться, вы же даже не догадываетесь, с кем имеете дело. Стою прямо перед Яннисом. Медленно втягиваю воздух: вдох – выдох. Вдох – выдох. Можно было бы устроить Истошный Мяв прямо сейчас, в эту секунду. Чувствую, как на затылке встают дыбом волоски, зубы сжимаются… Разнести бы всю эту школу по камешкам, но я поклялась – никогда, никогда больше не устраивать Мяв в школе. Может, то, что происходит сейчас, – это испытание, проверка, смогу ли я в самое первое утро после страшной новости сохранить спокойствие, не реагировать на придурков вроде Янниса. Силы мне нужны для другого – для мамы, для Того Человека, для осуществления плана. Поэтому я ещё раз делаю глубокий вдох, выдох и рычу, очень спокойно:
– Мешок.
– Ага-а-а-а, сейчас! – кривляется Яннис. – Он так классно летает! Ты лови давай!
Сжимаю правую руку в кулак, замахиваюсь – и тут слышу голос Пауля.

– Отдай ей мешок, – говорит он. И смотрит вовсе не на носы ботинок, а прямо в лицо Кубичеку.
Позади Пауля стоят Толстяк, Длинноволосый и ещё один парень. Все минимум года на три старше нас. Кубичек, похоже, сейчас в штаны наделает. Он быстро сует мне в руки мешок и бурчит:
– Сорри.
Жабы и гномы по имени Яннис, Кубичек и Лучиано топчутся в коридоре, никчёмные, как шапки-ушанки летом. Яннис пялится на свои руки, вертит ими, словно впервые видит. Пауль прищёлкивает языком, пристально смотрит на мальчишек – и кивает на дверь в спортзал. Все трое отчаливают.
– С этими слабаками я бы и сама справилась, – сообщаю я Паулю.
И ухмыляюсь. Пауль ухмыляется в ответ.
– Окей.
И переводит взгляд на ботинки.
– Паулина, можно с тобой поговорить?
Тут подходит училка физры и отпирает раздевалки.
– Момент, – отвечаю я.
Переодеваюсь в дурацкие шорты, короткие и широкие. С тоской вспоминаю гимнастику на бело-синем диване. А на уроке у нас спортивные снаряды.
Сначала разминка, играем в «беги-замри»: по свистку носимся по залу, по свистку замираем. Мы с Паулем оказываемся рядом у брусьев, он застыл в неудобной позе: одна нога над полом, руки высоко подняты.
Я киваю ему и шепчу, не шевеля губами:
– Так что?
– Я хотел спросить, – говорит Пауль почти беззвучно, стараясь поменьше двигать ртом, – может, ты… в субботу… придёшь… на мой день рожденья?
Снова свисток. Мы бежим. Опять свисток. Расходимся на снаряды. В очереди Пауль оказывается за мной.
– Пф-ф-ф, – выдыхаю я. – Сейчас мне как-то не до праздников…
– Окей, – говорит Пауль, и я тут же понимаю: если больше ничего сейчас не скажу – прощай, солнышко на его лице. Так что добавляю:
– Но на твой день рожденья, Пауль, на твой день рожденья я с удовольствием приду!
Солнышко взошло, да ещё как!
– Значит, договорились? – спрашивает Пауль.
– Договорились, – киваю я. – Когда к тебе приходить?
– Я за тобой зайду. И мы вместе туда пойдём.
– Туда?
– Угу, туда, – кивает Пауль. И хитро улыбается.
– Оке-е-ей, – говорю я.

Глава 18
Просто жить дальше
Покупаю эклеры и отправляюсь к деду.
Генерал на кухне. Кофемашина тихонько бульбулькает, мы барабаним по столу до боли в ладонях, потом устаём и просто сидим друг против друга. Кофемашина постукивает в ритме нашего барабанного боя, начинает хрипеть и плеваться, коричневый напиток переливается через край. На маленьком холодильнике стоит Генералов кассетный магнитофон.
– Включай, – говорит дед, и я нажимаю на пуск.

Сажусь на свой любимый стул напротив Генерала, мы едим эклеры и молчим. Я не знаю, с чего начать. Столько всего надо сказать и спросить. Дед громко смеётся и наливает себе кофе. Я наливаю себе молоко, мы обмениваемся ухмылками, Генерал добавляет мне в чашку чуток кофе, а я ему – молока.
Потом дед закрывает глаза и вслушивается в музыку. Локти он поставил на стол, голову положил на руки, нахмурился, кивает в такт, губы изображают все инструменты оркестра разом. Видно, как на руках у Генерала встают дыбом длинные пепельно-седые волоски.
– Ах, – вырывается у него, и я знаю: в этот момент деда охватывают вспоминания о ней.
– Я помню, – говорит он, – всё помню… Её шутки. Её глаза. Маленькое ловкое тело, губы, и запах солодки, и аромат аниса.
Это он про мою бабушку, я её не знаю, она – мама Того Человека, но он тоже её никогда не знал.
– Я скучаю, – говорит Генерал, – скучаю по её быстрому сердечку.
Тогда, давным-давно, во Франции, она услышала, как он играет на маультроммеле во дворе за блинной, тихонько обошла дом и встала рядом, а потом начала подпевать, притопывать и прихлопывать. Потом они потанцевали, совсем недолго, и это стало началом их невероятной истории. Её кульминация на данный момент – это, собственно, я. Так утверждает Генерал, он пишет мне это в письмах и на открытках ко дню рождения.
– Дед, – говорю я.
Генерал выныривает из недолгих грёз и смотрит на меня.
– Что ты сказала? – переспрашивает он.
– Пока почти ничего. Но надо многое обсудить… Вот ты вообще-то ещё шеф?
– Шеф? Да никогда я не был шефом!
Генерал мотает головой, борода с малюсеньким опозданием мотается вслед за ней.
– Точно?
– Точно. Я к такому не приспособлен. Шефом быть? Ни-ни-ни!
– Но ты ведь мог бы кое-что сказать своему сыну?
– Ясное дело, ты ж меня знаешь, у меня всегда есть что сказать.
– Нет, я имею в виду – ты ведь можешь ему приказать? Ты же его отец и к тому же Генерал.
– И приказать могу, ясное дело. Только он меня не послушает. Даже когда маленьким паршивцем был, вроде тебя, – и то ничего не слушал.
– Жаль… – говорю я.
– Тебя что-то тревожит, Паулина?
– Даже не знаю, с чего начать.
– Ну, я в таких случаях всегда начинаю где-то с середины. Потом рассказываю почти до конца, перепрыгиваю к началу, а когда никто уже не соображает, что к чему, – вот тут как раз самое место грандиозному финалу. Может, так попробуешь?
Я улыбаюсь Генералу и говорю:
– Меня пригласили на день рожденья.
– Отличное начало, с самой середины, прям дух захватывает, – рычит Генерал.
– Ну да, и я не знаю, что подарить.
– Ха, так это проще простого! Ты – Маулина, Принцесса Мауляндская, тебе полагается дарить всякие мауштуки, – говорит Генерал.
Он отодвигается от стола, разворачивается на стуле, наклоняется, будто чайник, из которого осторожно наливают заварку, – и медленно поднимает левую штанину.
На середине икры у него затянуто что-то вроде ремешка, за который засунуты маультроммели – очень-очень маленькие, очень маленькие, просто маленькие и побольше. Пальцы Генерала перебирают их, как в танце, потом выхватывают один – крошечный, серебристый. И прежде чем штанина опускается обратно, Генерал уже склоняется над столом, поближе ко мне, и между нашими носами посверкивает мауштучка.
– Вот этот, – басит Генерал, довольно усмехаясь. – Возьми его. Исландский, китовая кость, подарок твоего прапрадедушки.
Засовываю маультроммель в карман. Пункт первый выполнен.
– Мама заболела, – говорю я.
– Да, – говорит Генерал.
– Что?! – вскрикиваю я. – Ты знаешь?
– Я подозревал.
– Как это?
– Я замечал, что она как-то странно двигается. И папа твой про это говорил.
– Тот Человек, – поправляю я.
– Тот Человек?
– Твой сын.
– А, ну да.
– А мама тебе про это говорила? – спрашиваю я.
Генерал прячется за чашкой.
– Это правда серьёзная болезнь, – говорю я. – Такая серьёзная, что скоро маме нужно будет инвалидное кресло. И от этой болезни она когда-нибудь… ну ты понимаешь…
– Умрёт, – говорит Генерал. И я киваю.
Считаю вдохи-выдохи, которые делает Генерал. В голове такое ощущение, будто в ней кто-то на флейте играет, причём неумело.
– У троих человек из десяти, – вдруг заявляет Генерал и поднимает указательный палец над головой, – у троих из десяти хоть раз в жизни были глисты, а они даже не подозревали об этом. Пятерым из десяти время от времени снятся жуткие овощи, так что они плачут от страха. Двое из ста надевают в душ надувные нарукавники. А один из одного – умирает. Так уж устроена жизнь.
Он прищуривается, глядя на меня, и достаёт из нагрудного кармана стёклышко, похожее на половинку от очков, это называется монокль. По словам деда, он достался ему в 1963 году…

Дед глядит на меня через монокль.
– Тебе страшно, – говорит он.
Я сижу не шевелясь.
В магнитофоне шуршит пустая плёнка, потом раздаётся щёлк! – и кассета закончилась.
– Ты боишься. За маму. За себя. За весь мир. Так ведь, правда?
– Ну да, – говорю я и помешиваю своё молоко с капелькой кофе. Потом начинаю болтать ногами под столом, туда-сюда, туда-сюда, ступни шаркают по полу. Вот бы случилось чудо, вот бы разом нарушились все правила, а все проблемы просто исчезли. Но у меня предчувствие – ничего такого не произойдёт. От этого грустно, по-настоящему, очень-очень грустно. От того, что я ничего не могу сделать, от того, что я слишком слаба, чтобы отвоевать обратно Того Человека и Мауляндию, чтобы прогнать болезнь.
Сырный генерал обнимает меня и говорит:
– Вот ведь какая штука… Жизнь – она ведь никогда не останавливается, всегда продолжается, хоть как-то, но продолжается. И хочешь не хочешь, а приходится принимать то, что она преподносит. И хорошее, и не очень. Это и есть главная премудрость, Паули: принять то, что есть, найти выход – и жить дальше. Не обижаться и не считать, что всё происходит исключительно для того, чтобы тебя помучить.
– А зачем тогда вообще всё происходит? – спрашиваю я.
Дед пожимает плечами и усмехается.
– Да я и сам не понимаю. Просто… живу дальше.
– Как шмель, – вдруг говорю я.
Генерал на секунду задумывается и опять усмехается.
– Ну да, как эти мохнатые вертолётики. Жужжать себе вот так с цветка на цветок, тянуть хоботком нектар – ха, вот это жизнь, только представь себе! Тёплая и сладкая, да ещё и летать умеешь.
Шмели наверняка самые счастливые существа на нашей планете. И притом глупее их тоже не найти. Соображать они ничего не соображают и всегда в хорошем настроении, просто так, без причины. Во рту – мёд, в ушах – гул, как от мотоцикла, а мир вокруг – полон цветов. Ты видела когда-нибудь шмеля в плохом настроении? Чтоб он злился или беспокоился? Вот то-то! Потому что шмель знает: после этого цветка его ждёт другой, следующий. Очень даже просто. И обязательно найдётся что-нибудь хорошее, и, скорей всего, это будет большой красивый горшок с вареньем.
Я задумываюсь. Шмели мне нравятся, они толстенькие, кругленькие и шумные. Они умеют жалить, но почти никогда этого не делают. Если шмеля разозлить по-настоящему, он переворачивается на спинку и недовольно гудит, всё громче и громче, это такой шмелиный мяв. И высовывает жало. Вот так шмели сердятся.
Интересно, а может ли шмель заблудиться? И часто ли с ним такое случается? Я думаю – часто! Шмели устроены по-своему, залететь не туда – это у них почти запланировано. И наверняка бывает, что шмеля заносит в открытое окно, и он вдруг оказывается в доме, а вовсе не на улице или в саду среди цветов, кустов, птиц и коллег-шмелей. А выхода не находит. Тогда шмель часами летит на окно, одно и то же окно, без устали, немножко туповато и в то же время не напрягаясь. Он просто ждёт, когда же найдётся решение, – может, окно откроется или дунет сквозняк, и его вынесет наружу.
Шмель знает одно: надо лететь в этом направлении, а если возникло препятствие, налетай на него, пока не пройдёшь насквозь или вдруг ещё как-то окажешься с другой стороны.
Вот такой вот жужжащий копуша в огромном мире. Шмель знает: выход найдётся! Где-нибудь да найдётся…










































