Текст книги "Отец и сын (сборник)"
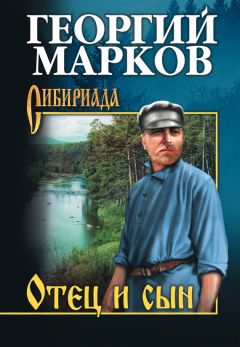
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Нет, не оправдались расчеты Лукерьи. Офицеры завернули уже за крутой мыс и плыли по узкому плесу, сжатому высокими ярами. Они не могли ни увидеть дыма пожара, ни услышать взрыва пороха. Сильный ветер дул им навстречу, унося эхо взрыва в противоположную их движению сторону, во тьму угрюмой тайги.
Плыли на двух обласках. В первом сидели: Касьянов, Звонарев и Порфирий Игнатьевич, во втором – Кибальников, Ведерников и Отс. Винтовки, патроны, охотничьи ружья, суточный запас продовольствия – все это находилось во второй лодке. Плыли молча. Разговаривать было не о чем. Все было условлено заранее.
Беспокойно стучалась о стенки лодок тугая васюганская волна. Заунывно шумела листва на прибрежных кустах, со скрипом сгибались дугой макушки тополей и осин. По пескам то там, то здесь вздымались вихревые столбы, кружились на одном месте, ввинчиваясь в поднебесье, а затем, паруся желтыми гривами, уносились в даль лугов, исчезая в розово-голубом мареве.
Возле устья Маргинской протоки лодка пристала к берегу. Порфирий Игнатьевич и Звонарев вышли на песок, и в обласке остался один Касьянов.
– Надо ли повторять боевую задачу? – не глядя ни на кого, спросил Касьянов.
Все хмуро промолчали.
– В таком случае, господа, прошу проверить оружие! – приказал он.
Заклацали затворы винтовок, защелкали курки и барабаны наганов. Касьянов веслом оттолкнул свой обласок от берега и поплыл; то и дело оглядываясь, он видел, как оставшиеся на берегу Порфирий Игнатьевич и офицеры вытащили лодку из реки, подняли ее на плечи и понесли. Им предстояло пройти по лугам верст пять, минуя участок Васюгана, примыкавший и по нижнему и по верхнему течению реки к землям, принадлежавшим коммуне. Потом они должны были переплыть Васюган и оказаться на склоне Белого яра. Все остальное взял на себя Касьянов.
Он приплыл к коммуне в удачное время. После обеда и короткого отдыха коммунары ушли на работу. В лагере остались только стряпухи – тетка Арина, жена Ивана Солдата, и Мотька.
Касьянов поздоровался с ними, спросил, где Бастрыков. Председатель коммуны был на раскорчевке. Показываться всем коммунарам не входило в расчеты Касьянова. Он попросил Мотьку сбегать к месту работы и позвать Бастрыкова.
– Скажи, дочка, Бастрыкову, что приехал товарищ из волкома партии.
Мотька исполнила просьбу молниеносно. Не успел Касьянов докурить папиросу, как увидел Бастрыкова. Тот шел по тропе скорыми, широкими шагами. Порфирий Игнатьевич настолько точно обрисовал внешность Бастрыкова, что Касьянов узнал бы его даже в толпе. «Крупный мужик. И сильный, видать», – подумал Касьянов, ощупывая наган, спрятанный на животе, и отвернулся – сделал вид, что смотрит на беркутов, круживших над просторами заречья.
– Здравствуй, товарищ, – сказал Бастрыков, когда до приехавшего осталось несколько шагов.
Касьянов не спеша обернулся, как бы недовольный тем, что его оторвали от наблюдений.
– Здравствуй, Бастрыков, здравствуй. – И Касьянов первым подал руку, усмехнулся, все еще глядя туда, в небо, в ширь лугов. – Старый беркут, видно, молодого летать обучал. Начнет молодой к земле прижиматься, а тот его в брюхо клюет, ввысь гонит.
– Тут вот, на соснах, три гнезда у них было, – сказал Бастрыков и круто переменил разговор: – А кто будете, товарищ? По какой нужде к нам пожаловали?
– Черемисина в волком посылал? – Касьянов посмотрел на Бастрыкова из-под очков и тут же отвел глаза. Бастрыков так и прошивал его насквозь своим взглядом. «Неужели о чем-нибудь догадывается?» – подумал Касьянов, ощущая холодок на спине.
Но Бастрыков даже повеселел от упоминания о Терехе.
– А где он сам-то? Мы ждем его, ждем, а его все нету. Думали, уж не стряслось ли с ним что-нибудь?
– А ведь в самом деле стряслось! Приплыл он в Парабель больной. С пятого на десятое доложил волкому о вашем житье-бытье, и положили его в больницу.
– Тереху? В больницу? Да он крепче вон той сухостойной сосны… – изумился Бастрыков, а Касьянов понял, что надо дать попятный ход.
– Ну, знаешь, бывает и на старуху проруха, – деланно улыбнулся он. – Чирей у него на шее вот такой вскочил. – Касьянов сжал кулак и потряс им. – Сделали разрез, заживает. А все-таки, сам понимаешь, веслом много не наработаешь, когда на шее рана.
– Фу-ты, чертовщина какая! Чирей! Не знал, что Тереха такой нежный, – засмеялся Бастрыков.
Касьянов решил сокрушить недоверие Бастрыкова и сделал с этой целью заход с другой стороны.
– Ну, Тереха ваш никуда не денется. Не сегодня, так завтра приедет. А письмо твое волком рассмотрел. Ряд важных вопросов ставишь: насчет экспроприации имущества Порфирия Исаева, о помощи туземному населению, об агитации за вступление в коммуну бедноты из Каргасока и Парабели.
Бастрыков даже придержал дыхание, чтобы ненароком не пропустить чего-нибудь из того, что говорил приехавший. Касьянов же с такой точностью излагал письмо партийной ячейки в волостной комитет, что если б у Бастрыкова и возникли какие-нибудь сомнения, то после всего услышанного для них не осталось никаких оснований.
Касьянов заметил, что глаза Бастрыкова подобрели, и сделал еще один ход, чтобы окончательно расположить его к себе.
– Извини, товарищ Бастрыков, за оплошность. Полагается все-таки предъявить тебе документы… Я забыл, а ты не спрашиваешь.
Из внутреннего кармана пиджака Касьянов извлек бумажник, раскрыл его с подчеркнутой медлительностью.
– Вот это удостоверение губпотребсоюза. Должностное. Из него тебе станет ясной цель моего приезда. Как видишь, затеваем на Васюгане постройку факторий. Настала пора вытряхнуть отсюда всякого рода торгашей и купчиков. Ну а это письмо тебе из волкома партии. Поручено мне познакомиться с работой партячейки, сделать коммунистам доклад о текущем моменте. Вот так, Бастрыков.
Бумаги Касьянова внушали уважение. Удостоверение губпотребсоюза было напечатано на бело-синей хрустящей бумаге и украшено внушительным угловым штампом и круглой печатью. Письмо из волостного комитета партии выглядело беднее: серая, толстая бумага военного времени, тусклый, машинописный текст, с проставленной от руки буквой «р», расплывшийся угловой штамп. Печати у волкома не было.
– Это очень правильно, что беретесь за Васюган. Богатств тут – непочатый край, – возвращая Касьянову документы, сказал Бастрыков.
– Надеюсь, что коммуна нам поможет. – Касьянов вытер платком вспотевшие лоб и шею.
– Уж об этом и говорить не стоит!
– Одну из факторий, товарищ Бастрыков, губпотребсоюз намерен построить здесь, на Белом яру. Как смотришь?
– Как смотрю? Очень хорошо смотрю, – засмеялся председатель коммуны, про себя подумав: «Ну и чудак! Спрашивает еще, как смотрю, будто не понимает, что коммуне от этой затеи прямая выгода будет… Рыбу, пушнину, зерно не возить за сто верст… Да и за городскими товарами не ездить черт-те куда…»
– Сам понимаешь, товарищ Бастрыков, времени у меня в обрез, – озабоченно заговорил Касьянов, – должен я за две недели объехать весь Васюган. Хотел бы вот о чем тебя просить: давай позови сейчас всех остальных коммунистов. Во-первых, съездим все вместе, посмотрим восточный склон Белого яра. Там намечено поставить помещение фактории. Мнение партячейки будет учтено. Во-вторых, где-нибудь приткнемся у берега, посидим поговорим. Есть кое-что сообщить строго по партийной линии…
Касьянов пристально посмотрел на Бастрыкова и, хотя не уловил в его глазах никаких сомнений, добавил упрашивающим тоном:
– Уж ты, пожалуйста, не задерживай меня.
Ах, Бастрыков, Бастрыков! Вот тут бы тебе и воспротивиться желанию Касьянова. Ведь где-то в тайниках твоего сознания промелькнула искоркой мысль: «А почему только коммунистов звать? У нас все коммунары заодно с нами. Поговорим со всеми, посоветуемся со всеми. И о текущем моменте важно послушать всем». Такие слова хотел сказать Бастрыков, но сказал совсем другое:
– Мотя, подойди-ка сюда!
Мотька бросила все свои дела у печки, подбежала на зов председателя коммуны. С улыбкой посматривая на краснощекую, крепко сбитую девушку, Бастрыков сказал:
– Придется тебе, Матренушка, еще разок сбегать на раскорчевку. Скажи отцу с дядей Митяем: пусть идут сюда!
– Пулей слетаю, дядя Роман.
Мотька с такой быстротой бросилась на тропу, что, глядя ей вслед, Бастрыков рассмеялся, ощерился в скупой улыбке и Касьянов.
– Сильная девчонка! Воздух тут у вас силу прибавляет.
– Воздух как дрожжи. Аж грудь распирает. – Бастрыков глубоко и свободно вздохнул, и крутая грудь его до отказа натянула старую, добела простиранную красноармейскую гимнастерку.
Касьянов покосился на Бастрыкова, щуря глаза под очками.
– Ты просил, товарищ Бастрыков, в письме насчет помощи коммуне семенным зерном. Будут вам даны семена. А как земля у вас? Сколько десятин готово?
Касьянов знал, какую струну тронуть в душе Бастрыкова. Встрепенулся Бастрыков, принялся рассказывать, как готовят коммунары землю к озимому севу, какой урожай рассчитывают получить на таежной целине. Бастрыков увлекся, не заметил, когда показались на тропе Васюха с Митяем. Они подошли к Бастрыкову и Касьянову, остановились, не зная, здороваться с гостем за руку или нет. Но тот сам пожал им руки – сначала Васюхе, потом Митяю.
– Жив-здоров наш Тереха, – сказал Бастрыков, сообщая своим товарищам прежде всего самое важное для них.
– Жив, жив! Думаю, что завтра приедет, а может быть, и сегодня, – подтвердил Касьянов. Ему пришлось повторить все, что он говорил Бастрыкову: о болезни Терехи, о постройке факторий на Васюгане, о необходимости осмотреть восточный склон Белого яра, наконец, о каких-то партийных секретах, которые он должен сообщить им непременно в доверительном порядке.
Васюха и Митяй, посматривая на Бастрыкова, весело посмеялись над Терехиной болезнью, но слов осуждения никаких не сказали. «Неловко я придумал. По-видимому, то, что барину, офицеру – смерть, то коммунару здорово», – подумал Касьянов. Боясь, как бы эта неловкость не породила каких-нибудь осложнений, Касьянов стал торопить коммунаров на осмотр восточного склона Белого яра.
Но тут Бастрыков вспомнил, что до сих пор он не предложил приезжему чего-нибудь перекусить с дороги. Он направился было к печке-времянке, где хлопотали Арина и Мотька, но Касьянов остановил его:
– Ну что ты, товарищ Бастрыков, в гостя меня превращаешь?! Неудобно, в самом деле! Вот вернемся, тогда и закусим. Все равно, видно, у вас мне ночевать придется. Давай-ка, дружище, садись в мой обласок… – И он кивком головы позвал младшего Стенина за собой.
Митяй с готовностью и без малейших колебаний шагнул в лодку. Видя, что Касьянов взял весло, он сел на носовое сиденье.
Бастрыков поторопился столкнуть с песчаной косы свой обласок, и Васюха прыгнул в него. И вот река подхватила и понесла лодки.
В эту минуту на берег выскочил Алешка. С самого утра он шуровал костры, сжигавшие таежный хлам, а после обеда убежал на постройку домов. Здесь Иван Солдат показал мальчику хитрую машинку под названием угломер. Алешка не только смотрел, он брал угломер в руки, вместе с дядей Иваном водил этой штукой по обтесанным бревнам. Все, что сегодня узнал Алешка на постройке домов, было так интересно, так занимательно! Он не мог не рассказать отцу обо всем, что произошло. Но отца у костров не оказалось. Алешка побежал на берег.
– Тятя, возьми меня! – крикнул Алешка, видя, что отец отправился куда-то без него.
Бастрыков обернулся, взмахнул веслом.
– Не могу, сынок, взять!
Случалось, что и раньше отец не брал его с собой, отказывал, но почему-то никогда не было Алешке от этого так мучительно горько, как теперь.
– Тятя, вернись! – надрываясь, закричал Алешка и побежал по берегу, как бы стараясь догнать лодку с отцом.
Бастрыков обернулся еще раз и еще раз. Алешка стоял на самой кромке берега, растирал по лицу слезы. Путь ему преградила крутизна яра, обрывавшаяся в бездонную заводь, и он стоял, чувствуя тоску и беспомощность.
Через час, а может быть и того меньше, лодки приткнулись к берегу. Коммунары и Касьянов вышли на песок, сделали несколько шагов, остановились, осмотрели склон яра, полого спускавшегося к реке.
– А место тут отменное! Не хуже нашего, – сказал Васюха.
– Наше лучше! И сдается мне, там и факторию надо строить.
– Правду говоришь, Роман, – поддержал Бастрыкова Митяй.
– Ну, посмотрим, – пробурчал Касьянов и зашагал вперед, увлекая за собой коммунаров.
Они отошли сажен пятьдесят от реки и стали подниматься через ельничек в гору. Вдруг, слившись в один залп, раздались три выстрела. Васюха и Митяй упали молча. Бастрыков успел сказать только одно слово: «Сынок…»
Эхо от выстрелов загрохотало, раскатилось и смолкло. Но жизнь… жизнь на земле продолжалась, ее нельзя было убить.
Книга вторая
Глава перваяНаперекор всем невзгодам, назло своей горькой судьбе выжил Алешка Бастрыков, уцелел на белом свете!
После гибели коммунистов васюганская коммуна просуществовала несколько дней. Похоронив на Белом яру Романа Бастрыкова и братьев Степиных, коммунары сошлись на собрание. Все понимали – потеря невосполнима. Среди коммунаров не было никого, кто, подобно Роману Бастрыкову, принял бы на свои плечи тяжелое бремя руководства. На это и рассчитывал белогвардейский полковник Касьянов. Некому было вести коммуну, не оказалось разума, который направлял бы всех к единой цели. Да и кто мог поручиться, что не повторится пережитое! А к чему новые жертвы?
Иван Солдат предложил вернуться назад, на родину. Благо там целы избы, а поля и огороды не успели еще зарасти бурьяном и чертополохом. Полдня коммунары судили-рядили. С болью в сердце, со слезами на глазах, с возгласами проклятий убийцам люди проголосовали за роспуск коммуны и возвращение на старые места.
Естественно, встал вопрос об Алешке Бастрыкове и Мотьке Стениной. Кто-то предложил хлопотать об устройстве сирот в детский дом. Но Иван Солдат с Ариной не согласились с этим. В один голос они заявили, что берут их в свою семью.
– Пока руки мои держат топор – на хлеб, на соль заработаю. А там, гляди, мало-помалу сами подрастут, – сказал Иван Солдат.
Благородство его оценили, спорить не было смысла. Алешка с Мотькой стали как брат с сестрой.
Иван Солдат поселился в своей старой покосившейся избе на самом краю деревни Песочной. И Арина, и в особенности сам Иван жалели сироток. Своих детей у них было шестеро. Два сына пропали без вести на фронтах Первой мировой войны, а девки повыходили замуж, жили в других селениях, мыкали горе – каждая по-своему.
Года через два после возвращения с Васюгана Иван Солдат стал прихварывать. Как-то раз подрядился он срубить новый дом в соседней деревне. Ушел туда на своих ногах, с топором за опояской, а вернулся на чужом коне, в санях – мертвый. Арина поголосила на могиле и уехала к дочери возиться с внучатами. С той поры Алешка с Мотькой пошли в люди. Мотька была года на четыре постарше, посамостоятельнее, попала сразу в хорошие руки. Жили неподалеку от Песочной в селе Малая Жирова молодой учитель с женой – тоже учительницей. Были у них маленькие дети. Взяли они Мотьку к себе нянькой. Учителя помогали девушке, занимались с ней по школьной программе. Между делом обучилась Мотька грамоте, полюбила книги. Оказалась способной, знания схватывала быстро, запоминала все с первого объяснения. Решили учителя устроить Мотьку в город. Она поступила в вечернюю школу для взрослых. Днем работала, где и как придется: уборщицей в краеведческом музее, грузчицей на пристани, истопницей в клубе железнодорожников. Никакого труда не боялась девушка, понимала, что иначе не сможет учиться, а учение стало целью ее жизни.
Судьба Алешки Бастрыкова была горше. Когда Иван Солдат умер, мальчишка пошел в подпаски. Кормили его крестьяне поденно. День одна хозяйка, второй – другая. И так, пока не дойдет до последней избы. За время пастьбы раза по три гостевал Алешка в каждой избе. Ночевал – где придется: то во дворе, в телеге, то где-нибудь на старой соломе у овинов и амбаров. Случалось спать и просто на земле под черемуховыми ветками в палисаднике церкви. В теплое время – ночевка не задача. Недаром говорится, что летом каждый кустик ночевать пустит.
С наступлением осени, после Покрова, Алешка нанимался в работники. В первые годы сиротства брали его почти из жалости. Паренек был невидный, хилый, слабосильный. Именно в эту пору кто-то назвал его Горемыкиным. Кличка так привилась, что заслонила отцовскую фамилию, прилипла навсегда. Даже в сельсовете в поселенном списке Алешка был записан с двойной фамилией – Бастрыков и в скобках: он же Горемыкин. Доводилось Алешке и прихварывать. Тогда он переселялся куда-нибудь в баню, чтобы никому не докучать. Ну а сердобольные люди всегда и везде есть. Народ не даст человеку загибнуть. Бабы приносили кто молоко, кто хлеб, кто настой из брусничного листа, кто сушеную малину, распаренную в кипятке. Заглядывали и парни с девчатами, иные из интереса к его одинокой жизни, а иные – из сочувствия.
Проходила неделя-другая, и парень поднимался здоровей, чем был.
К семнадцати годам бастрыковская порода взяла верх в Алешкином естестве. Одолел он и слабосилие, и хилость, и хворь. Статью Алешка выдался в отца: высокий, длиннорукий, крепкий в кости, а в лице все материнское: большие, в черных ресницах, серые глаза, открытый, приветливый и в то же время застенчивый взгляд, румянец на щеках, мягко очерченные рот и подбородок, прямой и высокий лоб и резкие надбровые дуги. Волосы у Алешки были светло-русые, шелковистые, в крупных завитках – любая девушка позавидует.
Силой Алешка, может быть, не уступал отцу. Однажды в Святки собрались парни в пустой избе Ивана Солдата. Пели песни, плясали, дурачились – как кто может. Потом начали бороться, ухватившись за опояски. Алешка был еще в ту пору ни то ни се, не мальчишка, но еще и не парень. Но силенка уже скопилась в его гибком теле, наливалась удалью грудь, зудились руки.
Переборовший всех парней деревенский силач Пронька Стенькин схватил несколько таких мальцов, как Алешка Горемыкин, и с криком: «А ну, сколько вас, сушеных, попадет на ложку?!» – начал валить на пол. Тут-то Алешка и показал признанному силачу, что он уже не из «сушеных». Схватив Проньку за опояску, Алешка подался всем своим костистым телом на силача, потом в одно мгновение оторвал от пола и, чуть присев на полусогнутых ногах, перекинул его через плечо. Пронька так и шмякнулся об пол, как мешок с овсом. Парни захохотали, засвистели яростным свистом. Пронька вскочил. Гневный, уязвленный этим унижением, он бросился на Алешку с криком:
– А покажу я тебе сейчас, Горемыка, кузькину мать!
Силач обхватил Алешку и начал сжимать, надеясь, что тот запросит пощады. Но Алешка запустил пальцы под Пронькину опояску, изогнулся, присел и снова кинул силача через плечо в тот же угол. Пронька оторопело раскинул ноги, хрипло выругался:
– Ну и ловкач, паскуда! Подсекает, как окуня на удочку!
Парни, и в особенности Алешкины сверстники, завопили от восторга, кинулись к нему, жали руки, одобрительно хлопали по спине. Пронька поднялся, отряхнул с себя мусор, поглядывая на Алешку миролюбиво, как на равного, обронил:
– Сказывали мужики, что родитель твой, Горемыка, быка с ног сбивал. Знать, и вправду – яблочко от яблони недалеко падает.
Алешка в своем рваном, заплатанном полушубке смущенно переминался с ноги на ногу.
– Махай, Алеха, в Томск, – посоветовал силач, – с такой ловкостью и силой – не пропадешь. В цирк возьмут, людей удивлять станешь!
Ни в какой Томск Алешка, конечно, не махнул, но жить ему стало легче. Слух о том, как он дважды уложил силача, расползся по деревне, проник и в другие селения. Обижать Алешку за всяк теперь опасались и платили больше, чем прежде. В наступившее лето на покосе, на жатве, на молотьбе впервые Алешка столько заработал, что хватило ему на покупку нового полушубка и пимов, двух сатиновых рубах, беленого холста на две пары белья и зеркальца.
Зимой произошло еще одно важное событие в Алешкином житье-бытье. Подрядился Алешка к песочинскому пимокату Михею Колупаеву. Расчесывал шерсть, варил ее в большом котле, тяжелым рубелем сколачивал в комок, потом круглым березовым голышом раскатывал по широкой листвяговой плахе. Раскройку и заделку горячей кошмы на колоду пима производил сам Михей. Алешка был еще не обучен этому хитрому делу. Работать в пимокатной тяжело – душно и смрадно то от пыли (когда расчесывается шерсть), то от пара (когда шерсть часами варится в бурлящем котле).
Но как ни уставал Алешка за день – вечером он надевал новый полушубок и отправлялся на улицу. Жизнь брала свое – подросток становился парнем. На улице ждали товарищи, тут же где-нибудь неподалеку сороками гомонили песочинские девчата.
Однажды в ранний зимний вечер сидел Алешка за столом, ужинал вместе с хозяином и его семейством. Вдруг в окно громко, требовательно постучали. В Песочной каждый знал – так стучат только по казенному делу. И раньше, до советской власти, так стучали, когда староста рассылал посыльных для сбора мужиков на сходку, и теперь так же стучали сельсоветские посыльные.
Михей ткнулся бородатым лицом в промерзшее окно.
– Не глухие! По какому делу сходка?!
За окном послышался смех, озорной голос крикнул:
– Сиди, старый хрыч, на печке! А работника пошли! Молодняк на собрание в школу приезжие из города собирают.
Михей недоуменно развел руками, растерянно посмотрел на Алешку, сказал:
– Сходи, Горемыка, а то еще штраф хозяину за твою неявку сунут.
Алешка быстро доел ужин и заспешил в школу. Он еще не знал, зачем его зовут, но шел торопливо, будто этот вечер предвещал ему что-то необычное и хорошее.
Класс забит парнями и девками. Парни в расстегнутых полушубках втиснулись за парты, девки жмутся по углам, прячутся друг за дружку, смущенно шушукаются.
Класс освещает пузатая лампа-«молния», чем-то напоминающая курицу-наседку, сидящую на гнезде. Она занимает чуть не половину гладкой, крашенной охрой столешницы.
У доски учительница Прасковья Тихоновна и двое незнакомых: вихрастый мужчина похаживает туда-сюда, прихрамывает; молодая, полная и чернявая женщина сидит на табуретке, присматривается к лицам, прислушивается к говору.
– Вот, песочинская молодежь, сегодня у нас особенный день, – взволнованно начинает Прасковья Тихоновна. На ее худеньком, бледном лице проступает румянец. Большие глаза загораются, светятся добротой и лаской. Кроткая, застенчивая, она вмиг преображается, кажется выше ростом, сильнее. Десятки глаз смотрят на нее с изумлением, будто видят впервые. «Глянь, а она красивая», – перешептываются девушки. – К нам приехали из Томска, из университета, два товарища. Их фамилии Хазаров и Тарановская. Университет берет над нашей деревней культ-шефство. Хватит вам на посиделках околачиваться и по улице шататься. – Голос Прасковьи Тихоновны звучит и тверже и убежденнее. – Надо учиться жить по-новому, культурно. Будет у нас открыта изба-читальня в старом доме Луки Твердохлебова. Спектакли сами начнем готовить… Впрочем, я предоставлю слово товарищу Хазарову, он лучше меня обо всем расскажет.
Хазаров заговорил о комсомоле, о его задачах, о создании в Песочной комсомольской ячейки, и сразу будто перенес Алешку в далекое-далекое детство. Вспомнился отец, собрания и речи, которые он произносил, когда зазывал мужиков в коммуну, его неистовое стремление к другой, лучшей жизни. Сердце сжалось, защемило: «И зачем пришел?! Растравит он мне душу, а ведь совсем стал забывать тятю…»
Алешка сидел, напряженно вытянув шею, ловя каждое слово, но чем больше слушал он этого хромого, раненного в боях с Деникиным парня («Я, ребята, сам деревенский, с Алтая, в прошлом штурмовал белогвардейскую сволочь, а теперь штурмую высоты науки», – сообщил о себе Хазаров, и было сказано это не ради похвальбы, а как-то попутно, что называется, к слову пришлось), тем острее вспоминалась та жизнь, жизнь с отцом в коммуне, с раздумьями о счастье людском, о коммунизме.
С неприязнью сейчас Алешка подумал о разговоре с хозяином. Разговор этот происходил за ужином, только что, и закончился за несколько минут до стука в окно.
Михей любил поучать. С хрустом и сопением уминая картошку и капусту, приправленную конопляным маслом, он говорил:
– Перво-наперво, Горемыка, рукомесло! Второе дело – соображение, стало быть, голова чтоб на своем месте росла. Я тоже молодой был и вроде тебя кругом сирота. Другой бы загиб, а у меня рукомесло! Родитель Феклы моей умственный был человек. И хозяин – вон какой! Мельница, крупорушка, маслобойка, пимокатня. А дочь одна-разъединая. Замыслил он зятя в дом ввести. И прямо на меня прицел взял. А почему, думаешь, Горемыка? Спрашивал я потом тестя: «Почему же, Федот Федотыч, ты меня приметил? Разве мало парней на деревне было? И с достатком!» – «А потому, Михеюшка, – отвечал, бывало, Федот Федотыч, – что с рукомеслом ты с малолетства. А когда рукомесло да достаток, так оно и к шубе рукав». И посмотри, Горемыка, вышло, как он говорил! Ты вот что, слушай-ка меня лучше, – понизив голос, учил Михей, – ты в годы входишь, из себя ладный будешь. Девки на тебя, как мухота на мед, бросаться станут. А ты им не поддавайся, этого добра в каждой деревне невпроворот. Высматривай такую, чтоб в дом войти. Вот как я! Сразу заживешь хозяином. Ты понял, что я тебе говорю?!
– Понял, дядя Михей, – смущенно отвечал Алешка.
Сейчас ему стыдно было, что он не остановил Михея, не прервал его мерзкие рассуждения в самом начале…
Когда Хазаров рассказал о себе, парни и девушки переглянулись: свой мужик этот Хазаров, а добился немалого! Но еще больше удивила всех Тарановская. Она сказала такое, что все чуть не ахнули. Оказывается, ее родители были богатыми, владели заводами, миллионами ворочали. Но еще накануне революции, гимназисточкой, она ушла от них. Ушла в народ, чтоб бороться за его счастье. И счастлива, как может быть счастлив человек, если осуществляется его заветная мечта.
Никогда еще песочинская молодежь не слышала сразу столько горячих и разумных речей о своем будущем. Было в них и много незнакомых слов – о великих идеях социального освобождения людей, о переделке общества на социалистических началах, о грандиозном строительстве, которое партия коммунистов и советская власть развернут по всей России, но все они для Алешки сливались в одно манящее слово «коммунизм». Еще на Васюгане далеким ясным светом озаряло оно нелегкую жизнь коммунаров.
Звонким, напряженным голосом Тарановская стала звать и девушек и парней в комсомол.
В классе сразу наступила томительная и долгая тишина. Никто не осмеливался поднять руку и записаться первым. И тут снова выступила Прасковья Тихоновна. Сначала она рассказывала, как сама вступила в комсомол, и вдруг, прямо и ясно глянув Алешке в глаза, спросила:
– Ну почему вот ты, Бастрыков-Горемыкин, не подаешь голоса? Мне рассказывали, что твой отец был партизанским командиром, мать сожгли белые каратели, сам ты батрак. Кому же в комсомоле еще быть, если не тебе?
От неожиданности Алешка вспыхнул, словно его подожгли на бересте. Щеки сделались ярко-пунцовыми, на висках и на подбородке проступили капельки пота. А уж что творилось в нем самом, о том немыслимо передать словами, о том можно было лишь догадываться. В его душе, очерствевшей от невзгод и лишений, как-то угасшей и примолкшей после смерти отца, словно ударил набат от этих проникновенных слов учительницы и от участливых взглядов, которыми смотрели на него Тарановская и Хазаров.
Не зная, как совладать с собой, он встал и долго в замешательстве не мог произнести ни одного слова. Кто-то позади негромко хохотнул – уж больно растерялся парень, кто-то громко, на весь класс, сердито зашикал. А в глазах Прасковьи Тихоновны Алешка увидел такое понимание и такое сочувствие, что скованность его как рукой сняло.
– Не один я тут из партизанского корня. Вон и другие тоже! А что касаемо комсомола, то мне он по сердцу…
Алешка сказал это невнятно, тихо, себе под нос, но его все-таки услышали не только сидевшие за столом, но и на задних партах. Почин был сделан.
Вслед за Алешкой поднял руку еще один батрак – Мефодий Сероштанов. Осмелели и другие. Всего в комсомольскую ячейку вступило семь человек, восьмой была Прасковья Тихоновна.
С гомоном и шумом, как в престольный праздник, расходилась молодежь после собрания. В застуженном доме остались лишь комсомольцы. Тарановская и Хазаров стали подробно разъяснять, чем следовало бы заняться на первых порах комсомольской ячейке: оборудовать под клуб твердохлебовский крестовый дом, прочистить артезианский колодец, забитый ныне мусором, отремонтировать полуразвалившийся мост через Песчанку, подготовить спектакль (благо шефы привезли и пьесу под названием «Красный шквал»), каждую неделю по воскресеньям проводить (пока не подготовлен Народный дом – в школе) громкие читки газет и книг. И ко всему этому привлекать молодежь, не чуждаться и не отталкивать всех желающих.
Уже рассвет был недалек, когда составили, наконец, план работы ячейки. Минувший день показался Алешке далеким-далеким. В его жизнь входило что-то новое. Он комсомолец! Оказывается, мировая революция, о которой как о близком событии говорил Хазаров и участвовать в которой, по его словам, было священным долгом каждого комсомольца, оборачивалась для него простым и понятным делом: не сиди сложа руки, живи и действуй с пользой для всех!
Когда речь зашла о том, кого же избрать секретарем комсомольской ячейки, все дружно посмотрели на Алешку.
– Очень хорошо, очень правильно, – почти в один голос сказали Хазаров и Тарановская.
Алешка замотал было головой: он ведь окончил всего-навсего два класса, после гибели отца учиться ему не пришлось. Но Прасковья Тихоновна будто почувствовала, что он хочет сказать, и опередила его:
– Я знаю, что Алексей малограмотный, но это не беда. Я обещаю ячейке и нашим шефам за зиму пройти с ним программу еще одного класса, а если Бастрыков будет старательным, то и за два класса осилим.
– За мной дело не станет, – вспыхнув густым румянцем, сказал Алешка и опустил голову, скрывая смущение и радость.
Шефы пожили в деревне еще день-два и уехали. Весть об организации комсомольской ячейки дошла до каждой избы, в деревне судачили об этом и стар и мал. Не остался равнодушным к такому событию и Алешкин хозяин – Михей Колупаев.
– Эх, Горемыка ты, Горемыка, не в ту точку бьешь! – раздраженно выговаривал он Алешке во время работы в пимокатне. – Ну, посуди сам, зачем он тебе нужен, этот самый комсомол?! Шарахаются от него стоящие люди, как черт от ладана. Не просто теперь будет в дом к доброму хозяину войти. А ведь я хотел помочь тебе без корысти, потому сам все молодые годы ходил в твоем хомуте. Присмотрел я было тут одного хозяина. В Малой Широве живет. Дом крестовый на Городской улице, мельница, крупорушка, клади на полях с позапрошлого года. Дочь – одна-разъединая. И девка что надо: белая, тугая, как из натертого теста, косища – ниже пояса… Я уж и с отцом ее столковался. Вначале, конечно, про шерсть разговор завел. Я не дурак, а он тоже, видать, мужик не без царя в голове. Потом говорю как бы между прочим: «А что же, хозяин, сказывают, сынов у вас нету, а дом от достатка ломится. Небось зятя-то в свои хоромы зазывать станете?» – «Эх, говорит, хороший человек, сокрушает мою душу думка об этом». Я тут как тут. «Есть, говорю, золотой парень, с рукомеслом, силач, из себя приглядный – хоть картину пиши». И уж так, Алеха, тебя преподал, что у старика глаза загорелись. «Беспременно, говорит, должен увидеть я этого парня…» Понял, Алеха, куда ты можешь попасть?! Чуть не боярином сразу станешь! А ты в комсомол! Что он тебе, этот комсомол, пеструю телку на двор пригонит? Брось это дело! Отец твой тоже хотел равенство-братство на земле установить, да сам раньше времени землей накрылся…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































