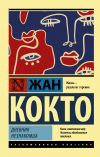Читать книгу "Homo Homini"

Автор книги: Иван Ермолаев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Иван Ермолаев
«Homo Homini»
Стать большим
Вместо предисловия
Аз есмь Иван, Ермолаев сын, в лето от Рождества Христова две тысячи шестнадцатое…
А впрочем, Бог с ним совсем. Я, Иван Ермолаев, писал стихи, составившие настоящий сборник, в течение почти четверти моей жизни. Эти годы вместили в себя множество людей, книг, видов из окна, запахов, звуков, шума времени, наконец, – и всё это так или иначе отлилось в стихи. Именно средствами поэзии и поэтики я, как сказал Мирон Фёдоров, «придумал себя и собрал по частям».
Можно сказать, что я думаю лирическими (условно говоря) стихотворениями, как Сезанн, – по выражению Мераба Мамардашвили, – «думал яблоками» – вечными героями его картин, символами отношений друг с другом явлений жизни. Стихотворение одновременно представляет собой и выражение определённой грани мировоззрения автора, и появление таковой грани; попросту – стихотворение как вбирает в себя уже накопленный его автором опыт, так и открывает новую страницу опыта. Стихотворение – форма познания автором мироздания и форма предъявления себя мирозданию. Такому отношению к поэзии я начал учиться задолго до того, как стал всерьёз писать стихи.
Поэзия разлита в воздухе, как скульптура, по Микеланджело, спрятана в глыбе мрамора. Осязаемые явления бытия – люди, деревья, «реки и улицы – длинные вещи жизни», луна со всеми немыслимыми эпитетами, которые можно к ней подобрать – способны служить материалом для любого вида искусства, будь то поэзия или проза, музыка или живопись. Но у каждого искусства есть избранное явление – то, которому оно уделяет больше всего внимания, – и для искусства поэзии таковым является речь, прежде всего звучащая речь. Каждый способен, проходя мимо Храма Христа Спасителя и читая вывески на окрестных магазинах, ненароком прочесть соседствующие «Розовый мир» (цветы) и «Монастырский хлеб» как «Розовый хлеб», каждый может сболтнуть достопримечательную оговорку и даже заметить, что она «по Фрейду». Но не каждый способен вычислить в этом элемент поэзии. Это доступно немногим, называемым в просторечии «поэтами».
Эта первая и основная фаза работы поэта – живописец сказал бы: «Грунтовка холста». Дальше следует копание в собственном небогатом опыте, тщетные попытки привязать к «розовому хлебу» какой ни есть, хоть захудалый, древнегреческий миф, поиски в речи окружающих верной рифмы к слову, например, «гипофиз» и прилагательного, должным образом характеризующего луну. Тут можно пойти пить пиво со знакомыми люмпенами, отправиться на лекцию «Есть ли жизнь на Марсе?», поставить диск избранных песен Леонарда Коэна, помусолить энциклопедический словарь – или вспомнить, как пил, отправлялся, ставил или мусолил неделю или год назад, а может статься, что и в предыдущей реинкарнации. Нужные метафоры, аллитерации, рифмы, да и просто слова, про которые сразу понимаешь, что они «единственно верные» – не замедлят появиться. Теперь необходимы бумага и пишущий прибор.
Четверть жизни превратил я в нечто подобное, и не склонен жалеть о том. Стихи постепенно сделались единственной вещью, к которой я отношусь абсолютно серьёзно, но ведь они – отражение и рефлексия всего остального, с чем приходится сталкиваться их автору, и, стало быть, миру не с чего быть в обиде на поэта. Поэт переводит жизнь в стихи, поэзию в поэтику, тленное в непреходящее, по гениальному определению Влада Тупикина, – «подходит к мирозданию словно бы с ножом для разрезания бумаги». Думаю, я справляюсь с этой должностью.
Я учился, учился и ещё раз учился этому у многих людей, и не только поэтов. В роли учителя вполне может выступить и художник, написавший поразившую поэта картину, и режиссёр, снявший ошеломивший его фильм, и всякий человек, мысли, поступки, улыбки, повороты головы которого круто изменили взгляд поэта на мир. Впрочем, учатся не только у хорошего – многие лица и события в мире преподают отличный урок внутреннего, а иногда и внешнего сопротивления. Но чтобы понимать такие вещи, быть поэтом совсем необязательно, то есть эти уроки преподаются не одним творцам искусства, а всем, кто вооружился достаточной чуткостью и вниманием.
Благодарности тем, кто так или иначе попадает в обозначенную выше категорию учителей, разбросаны по стихам, здесь же я бы хотел назвать именно поэтов – тех, чьи стихи во многом определили мою поэтику. Это Велимир Хлебников, Иосиф Бродский, Владимир Маяковский, Егор Летов и Виктор Соснора.
Мне думается, что этих поэтов (как бы Бродский ни противился постановке себя в данный ряд) объединяет ясное сознание полного взаимопроникновения поэтической формы и содержания и вытекающее отсюда отношение к языку (что бы там ни говорил Маяковский) как к прямому проявлению Божественного. Не-поэту можно попробовать объяснить это свойство (если не-поэту в принципе можно объяснить поэзию) как отсутствие возможности изложения сказанного в стихотворении другими словами, даже другими звуками: попробуй заменить в строчке эпитет – он потянет за собой аллитерацию, а из-за этого развалится рифма, в итоге прахом целое стихотворение. Названные поэты предельно серьёзно относятся к своему делу, намеренно усложняют ритм стиха для того, чтобы не допустить в строку лишнего слова, слога или звука. Отсюда – признание ритма первоэлементом поэзии, отношение к стихотворению как к молитве.
Молитва одновременно сугубо личный акт и представительство перед Богом за мир – и это положение представляется мне важным для понимания моего взгляда на поэзию, воспринятого от главных для меня поэтов. Такими я и вижу свои стихи, и больше ничего не хотел бы к этому добавить, ибо, во-первых, этим сказано всё, а, во-вторых, неприлично лишать хлеба литературоведов.
Остаётся добавить, что поэзия, трактуемая таким образом, то есть, за неимением более точного слова, религиозно, есть акт сопротивления небытию – небытию, разрушающему вместе с автором стихов всё, что он любил и полагал значимым для себя и мира. Мои стихи – в первую очередь попытка увековечить и хотя бы как-то возвеличить в глазах всепожирающей вечности моменты соединения моего сознания с сознаниями двух самых важных для меня людей – Влада Тупикина и Саши Малиновского. Для стороннего человека коротко скажу, что их значение в моей жизни приближённо равно значению Сократа для Платона или Иисуса для Иоанна Богослова. Я оставил в своих стихах, коим судьба пережить автора и его героев, отпечатки их обращённых ко мне слов и жестов, и того многого, чему затруднительно дать характеристику в прозе.
Приходится только помнить о том, что и стихи не вечны: книги уничтожаются временем, как и всякое физическое тело, и рукописи горят не хуже многотиражных изданий – а если даже и не горят, я всё равно не исполнен декадентского порыва чуть что обращаться за подмогой к сатане. Память же умирает вместе с людьми, хотя и является устройством для растяжения бытия какой-либо сущности на более продолжительный срок. «Прежние поэты считали, что жизнь мгновение по сравнению с вечностью, я же полагаю, что жизнь мгновение даже по сравнению с мгновением», – так, кажется, говорил Введенский.
Так что же остаётся?..
***
…Виктор Соснора заметил в одном интервью:
– Ничего нет трагичнее, чем разговоры о «вечных идеях», о «вечном искусстве», о «будущем». Ничего нет нелепее, чем малюсенький человечек, возносящий себя к вершинам вечности…
Журналистка задала резонный вопрос:
– Что же остаётся делать этому «малюсенькому человечку»?
Поэт ответил:
– Стать большим.
***
Стать большим.
Пропасть во ржи
Моя Родина – пропасть во ржи,
Абсолютная пустота.
Ей дано не пропасть во лжи,
Даже если в кустах та, –
Где ближайшие камыши.
Ей дано не хмелеть от трав
И – в отличье от прочих Родин –
От грибов; и меня взял страх,
Что до неё просто туго доходим
Мы – мухоморы её дубрав.
Раззудись плечо, размахнись рука,
Взмахом прочь с лица комаров, нас да ос;
В её новом РККА
Я – Капитан Отрешённый Даос
На 50-ом Ка.
Между мной и тобой не мост, а USB,
И колосья рыжие мокнут.
Пропасть молвит: «Война, и тебя могут сбить».
Я ответил: «Её тоже могут» –
Иногда здесь и Родина подсобит.
Всё нормально и падаю вверх. Осётр
Золотой и молочная в небе река…
Рыжей гружённый рожью осёл…
Рожь и пропасть – кисельные берега…
И всё!
I
Дон Кихот. Ямбы
Скача по Пиренеям перемен,
Проплыв до Рейна следствий от Ла-Манша
Причин, жуёт свой солнечный пельмень
В моём боку свербящая Ламанча.
Светило льёт свой призрачный восторг
На город грёз не шатко и не валко.
Дорога, не ведущая в острог,
Стократ длиннее, чем её товарка.
Над Барселоной реет алый стяг.
Ты сладко спишь на снежной пелене и
Мотаешь сны о горних волостях,
Где не нужны ни мы, ни Пиренеи.
Там средь камней небесных сердолик -
Как лошадь императора в Сенате,
И Бог, членистоног и сердолик,
Имеет вид Христа на Росинанте.
Ершалаим
Ершалаим – дождём на Шербур Леграна:
«Цекуба», стрихнин, калитку на ключ закрыли,
Пепел – Пилату, звёздная пыль легла на
Жёлтые кудри ангелам и за крылья.
Красен курган, да крест на нём не по ГОСТу –
Он ни в Клио не вечен, ни под Селеной:
В вещей тоске с заброшенного погоста
В небо глядит, в Сикстинский плафон Вселенной.
Люди и камни, видимо, лишь наброски
К иконостасу Медичи, коль в их бельмах
Не опочил Гомер, а в морщинах – Бродский, -
И ни трески, ни мысов, ни колыбельных.
Ни кораблей, ни списков – как ты хотела;
Струнами сплёл Сиятельный Многоженец
Смешаны с хором фурий «Chelsea Hotel`а»
Бас Леонарда с блюзовым хрипом Дженис.
Но ночному июньскому небу Джоплин
Коэн и Co. – иудины тетрадрахмы;
Начав с нагого ланча, закончат воплем
Вышедшие в дорогу бродяги дхармы.
Сядет под древом снятый с креста Всевышний,
Раскрыв Книгу Жизни, как «Илиаду» Шлиман –
Не разглядит за декоративной вишней
Звёзды и нимб луны над Ершалаимом.
Реликтовый блюз
Сырой Борей витийствовал за ржавой водосточной трубой.
Вселенная болталась на подгнившем одиноком гвозде.
Заря играла клезмер на границе между мной и тобой.
Ракитовые заросли палили по падучей звезде.
Сырой Борей витийствовал за ржавой водосточной трубой.
Вселенная болталась на подгнившем одиноком гвозде.
Заря играла клезмер на границе между мной и тобой.
Ракитовые заросли палили по падучей звезде.
Богиня на блакитном небосклоне зажигала февраль.
Гандхарвы с лепреконами свирели в разрывную свирель.
Деревья свирепели, уносимые тайфунами в рай.
Рога Иерихона пробуждали сиволапых зверей.
По сонным рекам и хайвеям пролегал Естественный Путь.
В воздушных шариках Незнайки созидался адовый груз,
А в перегонных Фауста шкварчала философская ртуть,
И Мефистофель подвывал ей мимо нот реликтовый блюз.
Чинук
Кружим над Сагарматхой. Размах крыльев Чинука –
Ни процента неба и сто от ветра.
Я искал вертолёт поломанный. Починю-ка, –
Думал, – его и себя, – и не ждал ответа
На вопрос, который не смог поставить.
Смесь не остывшей бумаги и никотина
Опустилась на мою скатерть. Та ведь
К чужим сигаретам всегда терпима.
То, что прилетело с улицы, у лица
Моего проплывало таким же табачным дымом
Да газетной новостью, – у лося
В зоопарке рога стали дыбом.
Вероятно, Чинук – это что-нибудь по-индейски,
Вроде Большого Воздушного Змея или поменьше.
Такой большой должен быть, наверно, и детский
Такой, что в него не войдёт ни моей вещи.
Разделённой Любви куски сходятся там, где шпал ось,
Где за далёкой ставней видны лишь шторы
Не одной шестой или что от неё осталось,
А всего, что я видел. Не знаю, – экрана, что ли.
В тех краях мы наивней, да и вода проточней,
Кружим над Катманду, там к Шанкару с ситарьим воем,
Там до Лхасы…
пешком…
или даже юго-восточней…
Если за Лхасой и Ерусалимом вообще есть живое.
Лунный камень
По античным перилам взбежал на чердак левкой,
Пауки на страницах Гюго бьются в двери собора лбом,
Сикстинский Творец в разбитые окна – призрачно и легко,
Вот ты какой –
бег луны, зелёной на голубом.
Опустите же синие шторы, – как пел Булат Окуджава,
Разоблачите луну от туманного платья дней –
Я не знаю, как дальше жить, но уверен, что оку Джа во
Всяком случае и в свете звёзд всё куда видней.
Звонница без Квазимодо пуста, но как сретенские благовесты
На окне «Лунный свет» Дебюсси, под окном песнопенья пьянчуг –
Сказки венского леса, карнавальный наряд невесты,
Ранние Чиж и Васильев, поздние Цой и Шевчук.
Что мы оставим им здесь? – лишь корабли-облака да
Модильяни твоей ладони на Рерихе моих век…
Вот и кончился Воландов бал, началась блокада
Портом пяти морей города на Неве.
А по-над убийством Павла летит золотая радуга,
А как на крови Александра – червивые рты воробьёв:
Вот те вся кипячёная грязь, вот те вся ледяная Ладога –
Путь туда и сюда от слуги двух господ до хозяина двух рабов.
Так прости ты меня, небожителя, братец Каин –
Видно, то была худшая в нашей отаре овца,
Раз она положила на общее сердце кинжал и камень,
И мне далеко до тебя, как лошади до овса.
Че Гевара на красной футболке – флаг Хемингуэевой Кубы –
Схвачен в четверо рук, равно в четверо ног простыня;
Переплавить луну в серебро, влить в твои несказанные губы:
Прости меня…
…мы утонем, едва не доплыв до Утопии,
С лунным камнем на шее вдоль сердца, с распятием поперёк,
Причащая друг друга касанием сонных ресниц в плесневеющей топи и
Горечью пыли в снегу и слезах, что Мор для нас поберёг.
Экклезиаст
Там, где цветёт пьянящим зелёным роза пустынь – пейот,
Где краток и облачен день, а ночь – вообще микроб,
Под незримой защитой Того бессмертного, кто не пьёт,
Мы летели, как рюмки в стену, к лучшему из миров.
Кедр, кипарис, олива и пальма смотрят сквозь тень креста
На злое прыщавое небо в пергаментных облаках.
Над посеребрённой снегами тайгою крылом клеста
Распластаны ласты Кассиопеи на каблуках.
Голубым парусам заката, клубничным его китам
Вовек не изведать забот родившихся на мели,
Где в футлярах гниют гитары под ласковый плеск гитан
И прибит деревянный зной гвоздями к лицу земли.
Горит в абрикосовой мгле пионерским костром восток.
Подпирает плечами космос античный энтузиаст.
На заплаты и лепестки разрывает слепой восход
Не вписавшийся в полукруг квадратный Экклезиаст.
Вид с балкона
Вид с балкона: осенний бал
Листьев, бензоколонка «Shell»,
Ветер рьян, и пустует бар.
Non, je ne regrette rien, mon cher.
Чёрный грайм и трамвайный джаз,
Враний грай, воробьиный визг…
Первый лёд лёг как верный шанс
Сбацать первый в сезоне твист.
Двадцать первый в сезоне шах!
За щекой, как припухший флюс –
Строчка Пригова, а в ушах –
К смерти приговорённый блюз.
После станет сердца цеплять
Оголтелое кабаре,
И зима, как в той песне, – глядь! –
Вся в опале и кабале.
Вгрызся в голову короед,
В воспалённых глазах плакат:
Кавалерия королев
На пергаментных облаках.
Это будет не скоро. Днесь –
Кислый дождь и горчащий чай,
Да лелеет молочный Днестр
Стеариновую печаль,
И стремит по стремнине прочь
Сквозь озоновое окно
Силуэты ушедших в ночь,
Как когда-то – бойцов Махно.
Шторм
Приусмягнувшая[1]1
«Приусмягнуть» (арх.) – «лишиться румянца».
[Закрыть] заря над штормящим Хвалынским морем
Каплей крови в глазах твоих гаснет, нежных и так печальных.
Дирижёр дирижаблей, ветер державы нездешней, голем,
Оживлён человеческим горем, падает на песчаник.
Он глумливо хохочет и плачет, лижет голеностопы
Нам с тобою, и оползни в пиктограммах в кольце тумана.
Преклоняет маяк перед нефтевышкой колена, чтобы
Стать аквариумом в сухом подсознании океана.
Расплывается в сточной канаве, как кровяная клякса,
Волчья ягода Марс, утопает, глухо прилежно стонет…
Осознавший шальную радость ни в чём никому не клясться,
Кипарис, перекручен нордом, чернеет, как римский стоик.
Вавилонская библиотека
Борхес описывал рай как большую библиотеку –
Его представление мало похоже на рай мещан.
Тлеет воск, увядает роза, альт надрывает деку,
Даруя обидно обыденный смысл непростым вещам.
В воспоминаниях мавра о венецианском доже
Ты повисла на люстре промежду пламенем и теплом:
Невидима и свободна – что, в общем, одно и то же, –
Фотокарточкой три на четыре вложенная в диплом.
Мой обкусанный карандаш плывёт по тебе, как тропик
Козерога ли, Рака ли – по arbeit macht frei и charmant.
Мы встречаемся здесь же, в саду расходящихся тропок,
Чтоб рвануть автостопом в нирвану, как пустота в шалман.
Мне кажется, это здесь: на Луне – в неземном подвале, в
Окрестностях Марса – на пыльном заоблачном пустыре…
Мы спрячемся под философский камень, как бет под алеф,
Перед тем как повеситься на рассохшемся костыле.
Regina Coeli
Фессалийская нимфа, правнучка Океану,
Мегера для Зевса, Евтерпа для Прометея –
Ева со взглядом Лилит, с овалом лица Киану
Ривза, наследница всех жемчугов Протея.
Миф о Вечном Невозвращении, точно «Шутка»
Баха, но шлях Ириды в глазах всё уже;
Где-то, в царстве Аида – мёртво, темно и жутко,
Здесь же, в доме Эола – повсюду глаза и уши.
В этом зеркале ты одна, не моя лимнада:
Только тот, кто хранит имена от «Гомер» до «Моэм» –
Ветер со вкусом аниса и лимонада –
Разносит твоё «эгегей!» над Эгейским морем.
Дочь пены дней и наместника в Тир-Нан-Оге;
Люси из песни Леннона; Магдалина,
Что растирает Христу розмарином ноги;
Под камнем в ладони заглохшая мандолина.
Вся в серебряных радугах, как Аристарх Лентулов,
В хипповом прикиде из пламени, льда и снега –
Жуй свой розовый хлеб, глуши свою политуру в
Монастырском саду, опрокинутом Богом с неба.
Оно
Когда исчезнет то и это, то тогда придёт ничто –
Оно и брахман, и атман; оно и штиль, и шторм.
Но оно не Гитлер и не Ницше, и не Ленин-Маркс;
Оно – то, что дают в сумме чёрная Венера и белый
Марс.
Оно – безличные Христос и Будда в одном лице;
Оно обязано цветами песцу и черно-бурой лисе.
Оно – Дао и Дэ; оно – Инь и Ян;
Оно – Ильф и Петров или ты и я.
Оно ни за, ни против; ни здесь, ни там;
Оно – гитара Харрисона и шаманский тамтам.
Оно – осенний вихрь из хайку Мацуо Басё;
Оно – ничто, а, стало быть – всё.
Оно больше христианства и буддизма школы чань.
Оно стоит того, чтобы его ждать.
Оно – кастаньеты в арагонской хоте.
Оно не говорит, но умеет отвечать.
Оно не борется, но умеет побеждать.
Оно само приходит.
Урал
Над условной рекой абсолютной любви зима.
Подо льдом – пустота, как за пазухой у Него.
«Мы с Кикиморой встретимся, – рёк домовой Кузьма, –
Где условное солнце встаёт за горой Нево».
За пределами сна не видать ни хрена, ни зги.
Нить Ариадны душит веретено.
Темнота – это суть вещей, милый друг: не жги Электрический свет, когда за окном темно.
Из Большого Ковша пьёт заоблачный леопард
Разливную волну по-за сумеречной кормой.
Что ты знаешь о страсти Антониев-Клеопатр,
Молодая, как мир, одинокая, как гармонь?
Заспиртуй мою голову и положи в бадью,
И, пустив по течению вверх, расскажи о том,
Как глухой живописец сопротивлялся небытию,
А слепой музыкант был уверен, что он – Атон.
II
Рыба в воздухе
Рыба в воздухе.
Полночь в комнате.
Наши в городе.
Выкрики вроде «послушай гимн!» и «прими девиз!»
Мы живём на каком-нибудь Норфолке или Говарде -
Воплощаем в реальность жизни примитивизм.
Время схоже по консистенции с тембром Визбора.
Пространство рассеяно в одиночестве и толпе.
Одна пустота для эксперимента избрана.
Восток на фонарном, а Юг на тотемном распят столбе.
Я разжалован из Ерофеева в просто пьяницы,
Я стал богаче духом, умом скудей -
Но, как фонтан на какой-нибудь римской пьяцце, не
Похож ни на чашу Грааля, ни на скудель.
Сделай, чтоб не было отдыха и усталости,
Будь звонарём, когда я архимандрит -
И звезда Альтаир поплывёт по нам, как по таллассе,
В Бомбей и Калькутту.
Не хочешь?
Ну, так в Магриб.
Рыба в воздухе.
Капля в море.
Слепая выемка
Между ключиц.
Осенний пейзаж с ветлой.
Зрачки расширяются, как на выставке Карла Виллинка,
Не оставляя сомнений, что здесь светло.
Вифлеем. Ямбы
Собрать с листа чернила в авторучку…
Михаил Жванецкий
Мы родились в краю, где тишь да гладь.
Осталось жить на первую получку.
Закрыть глаза и перестать дышать.
Собрать с листа чернила в авторучку.
А чуть луна прольёт свой алый воск –
По городу сирена проскандалит,
Ударят стрелы Иродовых войск,
А может, семя в голову ударит.
Ударит гром. Мы выйдем на причал,
И звёзды загорятся на затылке.
Из всех путей нам будет по плечам
К оракулу Божественной Бутылки.
Вперёд и вверх. Из Вифлеема в Трир.
Восток истлел, и лунный луч отключен.
Мы поплывём без киля и ветрил,
И вёсла оторвутся от уключин.
Бхагавад-Гита
В небе ни лунных бликов, ни смысла врать.
Мы распивали «Бехеровку» в лощине.
Ты говорил, я – Бог, но я только врач,
Препод по авиации превращений.
Арджуна, удаляющийся в альков,
Весть разнеси по всем твоим гримуборным:
Ночь отлетела,
с пасмурных облаков
Скалится солнце – широколицый Борман.
Гнать его, некротического, взашей,
К неукротимой Сцилле, как сон, глубокой! –
Освобождая юг, где цветёт женьшень,
Север, заросший клюквой и голубикой.
Что ты орёшь? – Я сдал твою жизнь внаём;
Будь как столица с заспанными дворами,
Рыба в воде, корова на льду в моём
Плюшевом замке с выбитыми дверями.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!