Текст книги "Вокруг трона"
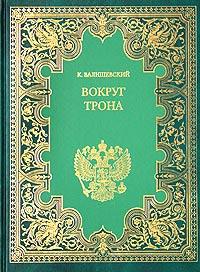
Автор книги: Казимир Валишевский
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
И часто случалось, что он совершенно забывал о присутствии других красавиц, на которых временно не обращал внимания.
V
Человека подобного физического и нравственного облика можно счесть только за крайнего любителя наслаждений. Что он представлял собой в умственном отношении? Это решить нелегко. Он не государственный муж. Уже одно полное отсутствие порядка в действиях и последовательности в мыслях отнимают у него права на это название. Он не имеет никакого представления о времени. Екатерина с неудовольствием заметила однажды, что он никогда не помечает своих писем числом. Он думал отрывками и действовал также. В 1787 г., в ту минуту, когда была готова разразиться вторая турецкая война и когда шли переговоры с Портой, он, живя в Крыму, был весьма плохо осведомлен о ходе дипломатических дел, да и мало заботился знать что-нибудь поближе. Какой то проходимец из Грузии, явившись к нему, сообщил о происходившем, стараясь доказать, что Порта не исполняет взятых на себя обязательств. Немедленно, не давши себе труда проверить полученные таким образом известия, не поразмыслив, не снесшись с императрицей и ее послами и даже не известив ее о своем решении, он посылает Булгакову, еще жившему в Константинополе, приказание предъявить Порте ультиматум, повергший всю Европу в тревогу на два месяца. Когда сведения оказались ложными, пришлось с унижением взять свое требование назад.[33]33
Сегюр Монморену, 7 апреля 1787. Архив французского Министерства иностранных дел.
[Закрыть]
Английский посол Роберт Хённинг видел в воспитаннике Екатерины человека, к которому нельзя относиться серьезно. Иосиф II, воспользовавшийся Потемкиным, чтобы победить сопротивление императрицы австрийскому союзу, даже отделившийся от императорского поезда в Могилеве, чтобы увидаться с фаворитом, очень разочаровался в нем. Он писал матери: «За исключением его придворного влияния, им можно воспользоваться только чтоб помешать чему-либо в данную минуту. От него никогда не добиться чего-нибудь, что требует системы, принципов, последовательности и прилежания; все это ему неизвестно». Пять лет спустя граф де Сегюр готов был разделить это мнение. Приглашенный, вскоре после своего прибытия в Петербург к князю, чтоб познакомить его с проектом одного коммерческого учреждения в Херсоне, он явился в назначенный час. Но в это время, как он начал читать свой доклад, полный подробностей и цифр, в комнате появились сначала священник, потом вышивальщик, затем секретарь, и, наконец, модистка – все за приказаниями от князя, которые и получали тут же. Сегюр спешил закончить свое чтение, и когда по окончании его Потемкин спросил у него рукопись, он положил ее в карман, сказав, что не понимает такого отношения к делам и впредь следует обращаться к президенту торговой коллегии. Он так и сделал. Но через несколько месяцев ему опять пришлось удивляться: письмо из Херсона принесло ему благодарность от директора предполагавшегося учреждения: Потемкин запомнил пункт за пунктом все статьи докладной записки, которую, казалось, не слушал и, удовлетворив большинство изложенных просьб, сделал соответствующие распоряжения.
Что же было в этом человеке, в котором мы наталкиваемся на такие неожиданности? «Гений, гений и гений», – отвечает нам принц де Линь. Но принц де Линь был человеком увлекающимся. У фаворита, без сомнения взгляд был довольно проницательный и верный. В 1790 г., побуждая Екатерину к энергичному действию, уговаривая ее отдать Молдавию Польше, чтобы восстановить Республику против Порты, он говорил Екатерине, когда та колебалась и спрашивала, что скажет Европа: «Во-первых, я не знаю Европы: Франция потеряла голову, Австрия боится, а другие – наши враги... Говорю вам, теперь самое время действовать смело!» [34]34
«Русский Архив», 1866.
[Закрыть]
Его ум был такой же, как его тело – бесформенный и неотесанный, кривой и косой; но объема и силы исключительных. Он схватывал легко, запоминал быстро и твердо. Он почти ничего не читал, но запоминал все, что слышал, и очень любил предлагать вопросы. Таким образом он знал очень много, учившись мало. Но его знание походило на ящики в беспорядке, или на энциклопедию с перепутанными страницами. Он черпал из них свои сведения наудачу. Ему случалось прерывать политические разговоры целой диссертацией о спорах церквей греческой и латинской; а однажды он задержал графа де Сегюра до пяти часов утра, объясняя ему сущность Никейского собора.
С точки зрения внешней политики Потемкин главным образом был фокусником. Если есть определенный план и великая идея, преследуемые Россией в эту минуту, то они принадлежат не ему, а Екатерине, или скорее традиции, принятой и возобновленной ею смело и счастливо. Не Потемкин показал своей стране путь в Константинополь. Но, чтобы идти по этому пути, он умел искусно жонглировать интересами и соперничеством европейских держав. Хотя он и не учился дипломатии в западной школе, однако его дипломатия, несмотря на кажущуюся неудовлетворительность чисто азиатских приемов – была дипломатией первоклассной. В 1785 г. ему хотелось успокоить опасения французского кабинета; он тотчас нашел массу убедительных доводов и высказал их тоном, в котором звучало изумительное чистосердие. «Он знал, что ему приписывали проект уничтожения Оттоманской Империи и возведения князя Константина на престол Греческой империи. Но люди, знакомые с ним ближе, должны были бы предполагать в нем достаточно здравого смысла, чтобы оценить надлежащим образом подобную химеру. И если даже Россия когда-либо задумала бы совершить такой переворот, конечно, она не была бы столь безумна, чтобы не посоветоваться с Францией. Прежде всего постарались бы сговориться с ней. Но у России и в мыслях не было ничего подобного. Желали только мира, и он сам (Потемкин) чувствовал, что это благо – самое необходимое для его отечества. Он не хотел и не советовал ничего другого; это была его единственная надежда!» Такое заявление, однако же, не помешало ему заводить сношения с Англией в надежде получить от нее по крайней мере молчаливое согласие на подобные химерические планы. Он постоянно держал в неизвестности послов ее британского величества, то как бы возбуждая их доверие, то приводя в отчаяние – и то и другое на вполне справедливом основании. В апреле 1782 г. Харрис высказывал полную уверенность, что Потемкин не друг англичанам. Да и был ли он им когда-нибудь? Три месяца спустя, когда фаворита предполагали на другом конце империи, сбитый с толку дипломат получил однажды записку со следующими строками, набросанными карандашом: «Да здравствует Великобритания и Родней! Угадайте, кто вам пишет, любезный Харрис, и приезжайте ко мне немедленно». Родней только что уничтожил в Индии флот адмирала Грасса, а Потемкин приехал с юга, проскакав тысячи верст в шестнадцать суток, спавши за все это время только три дня, везде по дороге производя смотры, принимая депутации, осматривая начатые работы. При этом он еще останавливался по церквам, мимо которых не мог проехать, чтобы не зайти помолиться. Когда Харрис явился к нему, Потемкин еще не успел переменить запыленного платья, но был свеж, весел и не выказывал ни малейшей физической или умственной усталости. Он тотчас же овладел своим собеседником и, продержав его несколько часов, отпустил, не прояснив ему ничего; но – как признавался сам Харрис, – «наиболее утомленным из двух оказался посланник».
Внутри империи, в роли администратора, Потемкин является ловким декоратором, уже тогда оправдывая суждение, высказанное впоследствии одним французским посланником о показности в современной России: [35]35
Слова Леруа Волье, приведенный у Скальковского в его сочинении «Современная Россия» (предисловие, 2 изд.).
[Закрыть] «В России еще господствует показная сторона». В 1787 г. провожая императрицу в Инкерман, где для нее был выстроен дворец, Потемкин устроил так, чтобы она не могла определить сразу положения этого нового для нее места. Только в конце парадного обеда большой занавес, закрывавший половину залы, раздвинулась, и перед императрицей и гостями открылась Севастопольская бухта, где гремели залпы эскадры, также импровизированной. Дворец был выстроен из песка и скоро обрушился, а эскадра – из дерева, и так же скоро сгнила; но эффект получился потрясающий.
Был ли Потемкин полководцем? Его поведение в Бендерах может служить достаточным ответом на этот вопрос. Как замечает один из издателей части его военной переписки,[36]36
Масловский.
[Закрыть] он был первым из русских главнокомандующих, направлявших сложные военные действия на нескольких театрах войны. Честь великая; но само по себе в этом еще не заключается ничего, по чему можно бы определить значение полководца. В 1791 г. во время пребывания генералиссимуса в Петербурге императрица вызвала уже известного нам Попова и спросила его: «Правда ли, что у вас целый эскадрон курьеров от князя Репнина? – Да, с десяток будет. – Почему вы не отправляете их? – Нет приказания». Князь Репнин командовал в это время на одном из театров военных действий одним из корпусов, операциями которого распоряжался Потемкин! Первая кампания, совершенная фаворитом в роли, порученной ему доверившейся Екатериной, разочаровала самых убежденных его поклонников. «Моя личная дружба с князем Потемкиным – еще один лишний мотив, чтобы принимать с сожалением все, что портит его репутацию», – писал в это время граф де Сегюр. «Но, по слышанному мною от принца де Линь, принца Нассау и других офицеров, уже не приходится сомневаться, что только ему одному следует приписать медленность военных действий. Гений в своем кабинете, в лагере он нерешителен и слаб». Критика некоторых из подчиненных Потемкина, как например мужа прекрасной княгини, за которой Потемкин ухаживал таким своеобразным способом, как мы видели, могла бы показаться подозрительной, если бы с ними не сходился более дальновидный и беспристрастный наблюдатель – Ланжерон. Князь потерял двадцать тысяч человек и столько же лошадей под Очаковым, потому что замедлил приказать приступ: он был занят – посылал майора Лаведорфа во Флоренцию, а подполковника Бауера в Париж: первого за духами, а второго за драгоценностями для госпожи Потемкиной, одной из его племянниц, занимавшей в это время поста любимой султанши. На Бауера, проводившего всю свою жизнь в поездках, исполняя подобные поручения, сочинили даже эпитафию:
Бауэр здесь наш погребен!
Эй, ямщик, вперед махнем!
Для обозначения главной квартиры главнокомандующего говорили: «двор князя», и, действительно, скорее то был двор, чем лагерь. Тут, кажется, налицо все, что было в Европе элегантного, а не воинственного. Двести хорошеньких женщин, которых князь нашел возможным собирать на своих праздниках, встречали там столько же блестящих кавалеров. Принц Нассау-Зиген танцевал визави с графом Дама, пьемонтские дворяне, как де Жерманиан, португальские – де Фрериа и де Памплюн, испанские и австрийские, появлялись по очереди бок о бок с чисто азиатскими элементами, «с целым легионом киргизов, турок, черкесов, татар, с лишенным трона султаном, три года дежурившим в передней князя, с другим, сделавшимся казацким подполковником, с пашей-отступником, македонским инженером, персидскими послами и т. д...» Весь этот народ съедал большую часть провианта, предназначавшегося для армии. Так как поставки обыкновенно отдавались мужу или протеже господствовавшей фаворитки, то результат получался такой, какой можно было предвидеть: снисходительные мужья жирели, а армия умирала с голоду.
Генералиссимус почти никогда не ездил верхом. Он выезжал не иначе, как в карете. Один только раз, как мы уже рассказывали, он отправился на траншеи, где около него убили Селетникова, который – придворный до самой смерти – умирая, уверял, что он вовсе не жалеет о случившемся, и только умолял князя не подвергаться больше опасности. Князь вовсе и не намеревался этого делать. Обыкновенно уж сама пушечная пальба так беспокоила его, что при первом залпе он отправлял посланного к командующему артиллерией, генералу Пистору с вопросом, почему стреляют. – «Скажите князю: потому, что русские воюют с турками», – отвечал выведенный из терпения генерал.[37]37
Воспоминания князя Долгорукова в «Русской Старине», т. XIII. Мемуары Ланжерона.
[Закрыть]
Но самое неблагоприятное свидетельство для оценки военного гения покорителя Крыма находится в его собственной переписке. Он почти комичен в своих письмах, особенно в начале кампании, когда, будто жалуется, что ему подменили его турок: «Нет возможности подойти к ним, чтобы они не выставили пушек в линию; они научились не расставаться со своей артиллерией, сам дьявол был их учителем». Он, вероятно, намекал таким образом на Францию, которую в это время подозревали в том, что она доставляла инструкторов Порте. Приказы, отправляемые Потемкиным своим помощникам, бывали по временам наполнены мельчайшими подробностями, но вместе с тем в них непременно есть театральное; постоянно кажется, будто генералиссимус играет в солдатики и ищет эффектов. Он часто говорил языком, который ставили в такой упрек одному из французских генералов эпохи очень близкой к нам. На каждой строчке у него встречается: Победа или смерть! Заметьте, что этот гигант никогда не испытывал на своем теле, что такое царапина, и если ему суждено было умереть от «трудов», как снисходительно заметил один из его биографов, то под этим следует подразумевать труды по устройству всякого рода удовольствий и всевозможных излишеств; а вражеские пули тут не при чем. Как тактик и стратег, Потемкин – полное ничтожество; ни о том, ни о другом искусстве он не имел ни малейшего понятия; или скорее у него проглядывала приверженность к одной тактике – весьма характерная черта для его оценки – вера во всемогущество золота. Посылая в октябре 1787 г. Суворову поздравительное письмо по поводу блестящей защиты Кинбурна, он пишет: «Уверьте всех, что все будут награждены мною по заслугам: солдатам, принимавшим участие в бое, вышлю по пяти рублей на человека»... И прибавляет: «Но прошу вас не щадить тех, кто оказался недостойным награды».
Однако то, что он отправил Суворова и вначале поддержал его, уже прибавляет кое-что в его активу, как главнокомандующего. Это победа его верного взгляда и несомненного ума, позволившего ему подняться выше мелочного соперничества и зависти. В декабре 1790 г., взбешенный неудачными приступами Гудовича под Измаилом, он послал генералу-неудачнику следующее письмо:
«Так как вы видели турок под Килией вблизи только тогда, когда они сдались, посылаю вам в Измаил генерала Суворова, который научит вас, как рассматривать их поближе, чтобы судить о том, что они намерены сделать».
В то же время новому командующему армией он дал такую краткую инструкцию: «Взять Измаил во что бы то ни стало!».
И Измаил был взят через несколько дней.
А между тем надо признать, что человека, отдававшего подобные приказания и, вообще, мало щадившего солдатскую кровь и труд, солдаты любили. Может быть, отчасти потому, что относительно дисциплины у него были понятия довольно расплывчатые – как вообще весь его характер; что он терпел в своей армии некоторую распущенность, проявлявшуюся постоянно и в нем самом. Но эта причина была не единственная. Он умел приобрести популярность; он знал тайну магических слов, пробегавших по рядам, согревая сердце и воспламеняя воображение. Видя солдат, поднимавшихся из траншеи при его приближении, он говорил им: «Не стоит вставать передо мной; лучше постарайтесь не ложиться перед турецкими пулями». Он также был первым из русских главнокомандующих, заботившимся – хотя бы и не постоянно – о том, чтоб солдату жилось лучше. Случалось иногда, что люди мерли у него с голоду, но случалось также, что он справлялся, обуты ли они.[38]38
См. приказ его от 6 октября 1788 г. (Масловский, с. 241).
[Закрыть] Прежде него никому до этого не было дела; после него даже Суворов не думал об этом.
Наконец, во время кампании 1788—89 гг., вообще бывшей для него неудачным дебютом, говоря с одним из своих подчиненных о трудностях, представлявшихся ему в стране, где ровно нет ничего, он выразился, что «ему приходится делать хлеб из камня». И история подтверждает, эти слова. У него был творчески гений. Создаваемое им часто заставляло желать многого; явился флот, выстроенный из сырого дерева; в кавалерии не было лошадей; провиантские магазины наполовину пустовали; но все это было, все жило, и окончательные результаты всех этих импровизаций, а также военных операций, направляемых Потемкиным, немаловажны. Черное море, как ни как, было завоевано, и с фамилией человека, избранного Екатериной для этого дела связано было, по ее воле, имя завоеванной им страны. «Великий человек – большой человек», – сказал о нем на своем живописном языке один из его подчиненных, наиболее способных оценить его достоинства. – «Он не похож на того французского посла в Лондоне, про которого Бэкон говорил, по поводу его большого роста, что у него „на чердаке насчет меблировки плохо“.
Да, может быть «великий человек», как выразился Суворов – воплощавший, пожалуй, в себе еще неразработанные и дикие, беспорядочные и неуравновешенные, но все же гигантские и могущественные материальные и нравственные силы, таявшиеся в огромной империи, и умевший заставить эти силы служить плодотворному гению великой государыни. Никто из окружавших Екатерину, живших около нее и повиновавшихся ее приказаниям, не умел лучше Потемкина понять ее ум и характер, и никто не умел так использовать дремлющие силы многочисленного и могучего народа, повиновавшегося ее законам.
У Екатерины были фавориты, которых она любила сильнее, нежнее или горячее. Но Потемкин не преувеличивал, уверяя однажды свою царственную возлюбленную, что ее никто не любит так, как он. Если он и не думал серьезно идти в монахи из-за нее, то, по крайней мере, сделался ради нее поэтом: поэтом на деле, в этой колоссальной таврической феерии, где он развернул перед глазами императрицы изумительную панораму завоеванного и заселенного им края, и поэтом в стихах. Ему приписывают хорошенькую песенку – вариацию на тему о «червяке, влюбленном в звезду». – «Как скоро я тебя видал, то думал только о тебе. Глаза твои меня пленили, и не решался я тебе сказать, что сердце глубоко скрывало». Даже его проза, когда она предназначалась для императрицы, часто принимала лирический оттенок. Когда после взятия Бендер ему был прислан императрицей лавровый венок из бриллиантов и изумрудов, он отвечал: «Милосерднейшая мать! Ты уже излила на меня все щедроты; а я еще жив! Но будь уверена, августейшая монархиня, что сия жизнь будет тебе жертвою всегда и везде против врагов твоих». И Екатерина в свою очередь – любовь сообщительна по своему существу – находила, отвечая ему, самые удачные и нужные обороты: «Нет ласки, друг мой, которую я бы не хотела сказать тебе», – писала она в письме, сопровождавшем лавровый венок. В то же время она советовала ему не возгордиться чересчур; и когда он несколько обиделся этим, отвечала: «Вот что значит писать на тысячу верст расстояния! Исполненная радостью душа моя только одного выразить желает, чтобы вы избегнули единственной вещи, которая могла бы повредить величию вашей души. Узнайте в этом одно только мое к вам дружество».[39]39
Собственноручное письмо Екатерины Потемкину.
[Закрыть] Письма, писавшиеся в это время императрицей Потемкину, были полны подробностей о квартире, которую она приготовляла и украшала к его приезду. Не забудем, что это был ноябрь 1789 г. и что Екатерина ждала и хотела принять уже не возлюбленного, но друга. Но, обескураженный разочарованиями и неприятностями, который принесла ему кампания, не оправдавшая его честолюбивых надежд, Потемкин принимал с недовольным видом расточаемые ему ласки и опять заговорил о намерении поступить в монастырь. Екатерина пришла в негодование и тот же час ответила его же выспренним тоном: «Монастырь? Что за безумие! Тишина кельи для того, чьим именем полны Европа и Азия? Да это невозможно!»
Иногда в течение этой кампании, представлявшей слишком жестокое испытание для сильной, но мягкой – так сказать железной, но не стальной – души генералиссимуса, в письмах слышится горечь: Потемкин советует другу прекратить свои необдуманные выходки по отношению Швеции, а Екатерина отвечает ему советом взять Очаков, что позволит покончить всякие переговоры и с Швецией, и с Турцией. Но как только сильная крепость пала, согласие восстановилось, и снова начался обмен дружеских и ласковых излияний. «Беру тебя за уши и целую, друг мой», – пишет тогда Екатерина.
И постоянно она беспокоится о его здоровье, настолько же, или даже больше, чем об успехах оружия. Она тоже находит очень милые доводы, чтобы убедить его щадить себя: «Губя себя, вы губите меня». Сделавшаяся у него ногтоеда беспокоила ее гораздо больше, чем появление шведского флота в виду Петербурга.
Все недостатки Потемкина были хорошо известны Екатерине, и она только думала, как бы ослабить или предупредить их последствия. Она заботилась об исправлении уклонений, куда его заводило воображение; старалась, чтобы его непомерное тщеславие не терпело унижений. Зачем дает он своим черноморским кораблям такие громкие имена? Не трудно ли будет их оправдать? Если он заботился о ее удовольствиях и даже о ее любовных похождениях, она отвечала ему тем же. Без сомнения, эта подробность шокирует; а между тем она находит себе место в облике этих двух исключительных существ и в истории необыкновенных отношений, соединявших их в продолжение двадцати лет, – даже тогда, когда уже порвалась более нужная связь, – и помогавшая им управлять судьбами великого государства руками, всегда и вопреки всему, крепко державшимися одна за другую. Мы не станем утверждать, что в этой истории не было многого предосудительного с точки зрения обыкновенной морали; но игравшие в ней роль стояли вне и выше всех законов и всех известных этик; а кроме того, так высоко их положение, если не характер, что они держатся на этой высоте и, желая низвести их на обычный уровень, рискуешь поступиться истиной или, по крайней мере, пожертвовать одной из подробностей, столь же важных для исторической правды. Было что-то благородное в той постоянной чуткости, с которой они всегда отзывались на радости и горести, испытываемый каждым из них, даже не разделяемые, и иногда как бы составляющие оскорбление для их прошлого. Была даже некоторая возвышенность в их равнодушии к мелкой подозрительности и обычным уколам самолюбия, мимо которых они проходили, как бы не будучи задеты ими. А главное, во всех их отношениях видна была чистосердечная, глубокая и возвышенная дружба. Если все это так, и если их значение один для другого таково – то все это от того, что они любили друг друга, как редко кто, и что им, кажется, суждено было испытать на себе все формы человеческой страсти и чувства.
Сен-Жан, самый недоброжелательный из биографов фаворита и неблагодарный из его секретарей, рассказывает о списке, в который князь на основании сведений, сообщаемых многочисленными клевретами, вносил фамилия молодых офицеров, обладавших, по-видимому, качествами, необходимыми, чтобы занять положение, которое он сам занимал в продолжение двух лет. Затем он заказывал портреты кандидатов и под видом продающихся картин предлагал на выбор императрице. Это возможно. Тот же автор сообщает, будто князь однажды ночью посягал на добродетель одной из фрейлин, дежуривших во дворце, и преследовал ее даже до комнаты, соседней со спальной императрицы. Последняя же, разбуженная криками красавицы, побранила ее, что она потревожила ее сон из-за такого пустяка. Анекдот маловероятен.[40]40
Во всяком случае по меньшей мере странно, что такой критик, как Генрих Фосс, предложил сделать перевод этой биографии и согласился присоединить к нему подписанное его именем письмо, где он с величайшей похвалой отзывается о наборе подобных анекдотов, по большей части невероятных.
[Закрыть] Но вот собственноручная записка Екатерины к своему бывшему возлюбленному во время его пребывания в Украйне в конце 1788 г.
«Послушайте, голубчик, Варенька очень больна; если тому виноват ваш отъезд, напрасно: вы ее убьете, а я начинаю очень любить ее!»
Варенька – это Варвара Энгельгардт, одна из племянниц Потемкина. Их было пять сестер: Александра, Варвара, Надежда, Екатерина и Татьяна, все фрейлины императрицы, а мать их, родная сестра князя, была назначена статс-дамой. Все племянницы были хорошенькие, и дяденька ухаживал за ними по очереди. Еще раз: подходя к этому человеку и к тому, что близко касается его, приходится забыть о морали. Он сам был, по-видимому, сыном двуженца. Его отец уже женатым влюбился в молоденькую, хорошенькую вдову, Дарью Скуратову, выдал себя за холостого и женился на ней. Узнав истину, Дарья добилась свидания со своей соперницей и уговорила ее поступить в монастырь. Презрение правил, склонность к преступлению по страсти, кажутся наследственными в этой семье; а, с другой стороны, Потемкин, в остальном такой равнодушный, является в этом отношении утонченным, любопытным и виртуозом. Он не великий полководец и не великий государственный человек, но, без всякого сомнения, великий адепт любви.
VI
По-видимому, Варвара была первой из сестер, пользовавшейся расположением Потемкина. В 1777 г., лежа в постели и больной, он ждал минуты, когда удалится императрица, чтоб написать племяннице записку, которою передавал через Сёммерса, камердинера Екатерины. (Последний не обманывал императрицу, потому что Потемкин в это время числился фаворитом только по имени). Вот образчики таких записок: [41]41
Биография Потемкина в «Русской Старине», XII, и XXXI, «Язык любви сто лет назад».
[Закрыть] «Варенька, если люблю тебя бесконечно, если душа моя только и живет тобой, ценишь ли ты это, по крайней мере? Могу ли я, по крайней мере, верить тебе, когда ты обещала любить меня вечно. Люблю тебя, душа моя, до бесконечности; я люблю тебя, как никого не любил... Не удивляйся, что видишь меня иногда печальным: бывают невольные движения души; я сам знаю, что у меня к тому нет причины, но я не могу приказывать себе. Прощай, мое божество. Целую тебя, всю».
«Мне легче, милый друг, и хотелось бы, чтоб ты лучше переносила мое отсутствие, чем я твое, и чтоб твоя мысль перелетала ко мне, как моя, которая всегда за тобой следует. Александр Васильевич лучше, но я, друг мой, печален и не могу быть иначе вдали от тебя. Ангел мой, Варенька, кто мог бы любить тебя так? Друг мой, дорогие мои губки, матушка, сокровище!.. Завтра пойду в баню!.. Варенька, моя жизнь, красота, божество, скажи, что любишь меня, и этого будет достаточно, чтоб вернуть мне здоровье и веселость счастье, и мир. Душа моя, я полон тобой, да, весь полон, моя красота! Прощай, целую тебя всю»...
«Красота, божественный ангел, тебе ли доказывать мне, что ты достойна моей любви? Душа моя, моя нежная возлюбленная, твоя победа надо мной велика и навеки. Если ты любишь меня, я счастлив; а ты знаешь, как я люблю тебя – и желать большего нельзя. Друг мой, я твой навсегда».
Варенька в отношении нежных посланий не остается в долгу:
«Любовь моя и жизнь! Я очень беспокоюсь о тебе. Ради Христа, извести, лучше ли тебе. Я каждую минуту ждала вестей от тебя... и, не получив, посылаю к тебе... Ради Бога, жизнь моя, пиши мне... В мыслях целую тебя миллион раз».
Потом, когда здоровье вернулось, стали снова встречаться; но вот еще оригинальная записка от дяди к племяннице:
«Матушка, Варенька, душа моя, моя жизнь! Ты заспалась, дурочка, и ничего не помнишь. Я, идучи от тебя, уложил тебя и расцеловал, накрыл одеялом и перекрестил».
Но двадцатидвухлетняя Варенька оказалась существом непостоянным; в следующем году Екатерина, осведомленная о любовной интриге и, как мы знаем, относившаяся к ней снисходительно, уже совершенно напрасно приписывала грусть молодой особы отсутствию Потемкина. В это время Варенька была занята таким же молодым, как она, блестящим кавалером, князем Голицыным, и уже до отъезда дяди холодность к нему сменила прежнюю нежность. Прибегая к приемам довольно обыкновенным в подобных случаях, Варенька предупредила своего возлюбленного, делая вид, что ревнует его и что он сам отдаляет ее от себя своей неверностью. Ей, впрочем, нетрудно было сыграть роль: в карманах дядиного шлафрока хранилась не одна надушенная записочка, писанная не почерком Вареньки, и между прочим следующая, подписанная фамилией дамы из самого высшего круга: [42]42
Оригинал по-французски.
[Закрыть]
«Как вы провели ночь, мой милый? Желаю, чтоб для вас она была покойнее, чем для меня; я не могла глаз сомкнуть. Не знаю, как это случилось, но мысль о вас – единственная, которая меня воодушевляет. Однако, сказать вам: я недовольна вами. У вас был такой рассеянный вид... В первый раз, как вы были, удовольствие видеть меня выказывалось яснее... Я проехала мимо вашего дома и видела большое освещение. Вы, вероятно, сидели за картами. Если б, милый князь, вы могли принести мне эту жертву: не так предаваться игре. Это только подрывает ваше здоровье. Сделайте мне это удовольствие, мой милый друг, покажите, что вы что-нибудь делаете ради меня и не сидите, как теперь, до четырех-пяти часов утра... Завтра бал у великого князя; надеюсь иметь удовольствие увидаться с вами там. С нетерпением жду этого удовольствия; там только я успокоюсь... Я только что проснулась, и мне принесли цветы от вас. Благодарю вас за них, мое сердце. Желаю вам быть здоровым, чтоб я могла вас видеть веселым и счастливым, как видела во сне сегодня ночью. Вы были так любезны; казалось, любили меня от всей души. Прощайте, мой ангел: муж сейчас придет. А когда вы что-нибудь сделаете для моего сына? Я бы желала, чтоб он был в вашем полку».
В январе 1779 г. Варвара Энгельгардт стала княгиней Голицыной, и понятно, что «дядя», сам непостоянный, не сердился на изменницу. Скоро между ними установились прежние отношения, и снова началась переписка, где под пером Вареньки «дяденька» – «папочка» сменяются более выразительными эпитетами, вроде «сокровище мое» или «жизнь моя».
Продолжительнее, а также серьезнее было чувство, сделавшее через несколько лет, Александру Энгельгардт, вышедшую в 1781 г. за графа Браницкого, – наследницей предпочтения, которым пользовалась до того ее сестра. Говорят, что в час смерти покорителя Крыма при нем находилась одна из племянниц, не ставшая для него ничем больше, и по уму и характеру бывшая, по-видимому, женщиной незаурядной. Мы встречаем ее среди доверенных Екатерины. Что касается прочих сестер, они внушали только мимолетные вспышки страсти и больше ничего не заслуживали. Одна из них, вышедшая за Шепелева, вела себя до такой степени неприлично, что дядя прозвал ее «Безнадежной». Муж ее, личность темная, получил, как рассказывали, ее руку в благодарность за услугу, оказанную им фавориту, освободив его на дуэли от опасного противника: одного из Голицыных, отличившегося в армии и имевшего роковое счастье привлечь внимание государыни.
В марте 1784 г. французский поверенный в делах Кайэ сообщал из Петербурга графу де Верженн о скорой замене российского посла в Неаполе, Андрее Разумовского, графом Скавронским, мужем одной из девиц Энгельгардт. Причина – желание, выраженное графиней Скавронской, провести зиму в Италии, куда хотел приехал и дядюшка. В 1789 г. великого триумфатора видела у своих ног родственница его по мужу, Прасковья Закревская, бывшая замужем за одним из Потемкиных. И к ней летали строки, полные страсти и лиризма, в связи, как всегда, с наивностью и некоторою вульгарностью:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































