Текст книги "Жди меня, и я вернусь"
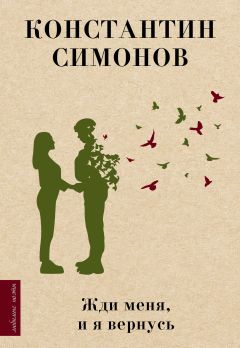
Автор книги: Константин Симонов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Константин Михайлович Симонов
Жди меня, и я вернусь
© К.М. Симонов, (наследники), 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Чемодан
Генерал
Памяти Мате Залки
В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки
Над желтым походным огнем.
В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.
И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.
Давно уж он в Венгрии не был —
С тех пор, как попал на войну,
С тех пор, как он стал коммунистом
В далеком сибирском плену.
Он знал уже грохот тачанок
И дважды был ранен, когда
На запад, к горящей отчизне,
Мадьяр повезли поезда.
Зачем в Будапешт он вернулся?
Чтоб драться за каждую пядь,
Чтоб плакать, чтоб, стиснувши зубы,
Бежать за границу опять?
Он этот приезд не считает,
Он помнит все эти года,
Что должен задолго до смерти
Вернуться домой навсегда.
С тех пор он повсюду воюет:
Он в Гамбурге был под огнем,
В Чапее о нем говорили,
В Хараме слыхали о нем.
Давно уж он в Венгрии не был,
Но где бы он ни был – над ним
Венгерское синее небо,
Венгерская почва под ним.
Венгерское красное знамя
Его освящает в бою.
И где б он ни бился – он всюду
За Венгрию бьется свою.
Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
В бою под Уэской сражен.
Но я никому не поверю:
Он должен еще воевать,
Он должен в своем Будапеште
До смерти еще побывать.
Пока еще в небе испанском
Германские птицы видны,
Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его неверны.
Он жив. Он сейчас под Уэской.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.
И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.
1937
Однополчане
Как будто мы уже в походе,
Военным шагом, как и я,
По многим улицам проходят
Мои ближайшие друзья;
Не те, с которыми зубрили
За партой первые азы,
Не те, с которыми мы брили
Едва заметные усы.
Мы с ними не пивали чая,
Хлеб не делили пополам,
Они, меня не замечая,
Идут по собственным делам.
Но будет день – и по разверстке
В окоп мы рядом попадем,
Поделим хлеб и на завертку
Углы от писем оторвем.
Пустой консервною жестянкой
Воды для друга зачерпнем
И запасной его портянкой
Больную ногу подвернем.
Под Кенигсбергом на рассвете
Мы будем ранены вдвоем,
Отбудем месяц в лазарете,
И выживем, и в бой пойдем.
Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенье
В железный узел, навсегда.
1938
Дорожные стихи
1. Отъезд2. Чемодан
Когда садишься в дальний поезд
И едешь на год или три,
О будущем не беспокоясь,
Вещей ненужных не бери.
Возьми рубашек на две смены,
Расческу, мыло, порошок,
И если чемодан не полон,
То это даже хорошо.
Чтоб он, набитый кладью вздорной,
Не отдувался, не гудел.
Чтоб он, как ты, дышал просторно
И с полки весело глядел.
Нам всем, как хлеб, нужна привычка
Других без плача провожать,
И весело самим прощаться,
И с легким сердцем уезжать.
3. Телеграмма
Как много чемодан потертый может
Сказать нам о хозяине своем,
Где он бывал и как им век свой прожит,
Тяжел он или легок на подъем!
Мы в юности отправились в дорогу,
Наш чемодан едва набит на треть,
Но стоит нам немного постареть,
Он начинает пухнуть понемногу.
Его мы все нежнее бережем,
Мы обрастаем и вторым, и третьим,
В окно давно уж некогда смотреть нам,
Нам только б уследить за багажом.
Свистят столбы, летят года и даты.
Чужие лица, с бляхой на груди,
Кряхтя, за нами тащат позади
Наш скарб, так мало весивший когда-то.
4. Номера в «Медвежьей Горе»
Всегда назад столбы летят в окне.
Ты можешь уезжать и возвращаться,
Они опять по той же стороне
К нам в прошлое обратно будут мчаться.
Я в детстве мог часами напролет
Смотреть, как телеграммы пролетают:
Телеграфист их в трубочку скатает,
На провод их наденет и пошлет.
В холодный тамбур выйдя нараспашку.
Я и теперь, смотря на провода,
Слежу, как пролетает иногда
Закрученная в трубочку бумажка.
5. Тоска
– Какой вам номер дать? – Не все ль
равно,
Мне нужно в этом зимнем городке —
Чтоб спать – тюфяк, чтобы дышать – окно,
И ключ, чтоб забывать его в замке.
Я в комнате, где вот уж сколько лет
Все оставляют мелкие следы:
Кто прошлогодний проездной билет,
Кто горстку пепла, кто стакан воды.
Я сам приехал, я сюда не зван.
Здесь полотенце, скрученное в жгут,
И зыбкий стол, и вытертый диван
Наверняка меня переживут.
Но все-таки, пока я здесь жилец,
Я сдвину шкаф, поставлю стол углом
И даже дыма несколько колец
Для красоты развешу над столом.
А если без особого труда
Удастся просьбу выполнить мою, —
Пусть за окном натянут провода,
На каждый посадив по воробью.
6. Вагон
– Что ты затосковал?
– Она ушла.
– Кто?
– Женщина.
И не вернется,
Не сядет рядом у стола,
Не разольет нам чай, не улыбнется;
Пока не отыщу ее следа —
Ни есть, ни пить спокойно не смогу я…
– Брось тосковать!
Что за беда?
Поищем —
И найдем другую.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Что ты затосковал?
– Она ушла!
– Кто?
– Муза.
Все сидела рядом.
И вдруг ушла и даже не могла
Предупредить хоть словом или взглядом.
Что ни пишу с тех пор – все бестолочь, вода,
Чернильные расплывшиеся пятна…
– Брось тосковать!
Что за беда?
Догоним, приведем обратно.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Что ты затосковал?
– Да так…
Вот фотография прибита косо.
Дождь на дворе,
Забыл купить табак,
Обшарил стол – нигде ни папиросы.
Ни день, ни ночь —
Какой-то средний час.
И скучно, и не знаешь, что такое…
– Ну что ж, тоскуй.
На этот раз
Ты пойман настоящею тоскою…
7. «Казбек»
Есть у каждого вагона
Свой тоннаж и габарит,
И таблица непреклонно
Нам об этом говорит.
Но в какие габариты
Влезет этот груз людской,
Если, заспаны, небриты,
Люди едут день-деньской?
Без усушки, бeз утруски
Проезжают города,
Море чаю пьют по-русски,
Стопку водки иногда.
Много ездив по отчизне,
Мы вагоном дорожим,
Он в пути, подобно жизни,
Бесконечно растяжим.
Вот ты влез на третью полку
И забился в уголок,
Там, где ехал втихомолку
Слезший ночью старичок;
Коренное населенье
Проявляет к тем, кто влез, —
К молодому пополненью —
Свой законный интерес,
А попутно с этим, если
Были люди хороши,
Тех, кто ехали и слезли,
Вспоминают от души.
Ты знакомишься случайно,
Поделившись табаком,
У соседа просишь чайник
И бежишь за кипятком.
Ты чужих детей качаешь,
Книжки почитать даешь,
Ты и сам не замечаешь,
Как в дороге устаешь.
Люди сходят понемногу,
Сходят каждый перегон,
Но, меняясь всю дорогу,
Не пустеет твой вагон.
Ты давно уже не знаешь,
Сколько лет в пути прожил,
И соседей вспоминаешь,
Как заправский старожил.
День темнеет. Дело к ночи.
Скоро – тот кусок пути,
Где без лишних проволочек
Предстоит тебе сойти.
Что ж, возьми пожитки в руки,
По возможности без слез,
Слушай, высадившись, стуки
Убегающих колес.
И надейся, что в вагоне
Целых пять минут подряд
На дорожном лексиконе
О тебе поговорят.
Что, проездивший полвека,
Непоседа и транжир,
Все ж хорошим человеком
Был сошедший пассажир.
8. В командировке
Я наконец приехал на Кавказ,
И моему неопытному взору
В далекой дымке в первый раз
Видны сто раз описанные горы.
Но где я раньше видел эти две
Под самым небом сросшихся вершины,
Седины льдов на старой голове,
И тень лесов, и ледников плешины?
Я твердо помню – та же крутизна,
И те же льды, и так же снег не тает.
И разве только черного пятна
Посередине где-то не хватает.
Все те места, где я бывал, где рос,
Я в памяти перебираю робко…
И вдруг, соскучившись без папирос,
Берусь за папиросную коробку,
Так вот оно, пятно! На фоне синих гор,
Пришпорив так, что не угнаться,
На черном скакуне во весь опор
Летит джигит за три пятнадцать.
Как жаль, что часто память в нас живет
Не о дорогах, тропах, полустанках,
А о наклейках минеральных вод,
О марках вин и о консервных банках…
Он, мельком оглядев свою каморку,
Создаст командировочный уют.
На стол положит старую «Вечерку»,
На ней и чай, а то и водку пьют.
Открыв свой чемоданчик из клеенки,
Пришпилит кнопкой посреди стены
Большую фотографию ребенка
И маленькую карточку жены.
Не замечая местную природу,
Скупой на внеслужебные слова,
Не хныча, проживет он здесь полгода,
А если надо, так и год и два.
Пожалуй, только письма бы почаще,
Да он ведь терпеливый адресат.
Должно быть, далеко почтовый ящик,
И сына утром надо в детский сад…
Все хорошо, и разве что с отвычки
Затосковав под самый Новый год,
В сенях исчиркав все, что были, спички,
Он москвича другого приведет.
По чайным чашкам разольет зубровку,
Покажет гостю карточку – жена,
Сам понимаешь, я в командировках…
А все-таки хорошая она.
И, хлопая друг друга по коленям,
Припомнят Разгуляй, Коровий брод,
Две комнаты – одну в Кривоколенном,
Другую у Кропоткинских ворот.
Зачем-то вдруг начнут считать трамваи,
Все станции метро переберут,
Друг друга второпях перебивая,
Заведомо с три короба наврут.
Тайком от захмелевшего соседа
Смахнут слезу без видимых причин.
Смешная полунощная беседа
Двух очень стосковавшихся мужчин.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Когда-нибудь, отмеченный в приказе,
В последний раз по россыпи снежка
Проедет он на кашляющем ГАЗе
По будущим проспектам городка.
Другой москвич зайдет в его каморку,
Займет ее на месяц или год,
На стол положит старую «Вечерку»
И над кроватью карточки прибьет.
1938–1939
Изгнанник
Испанским республиканцам
Нет больше родины. Нет неба, нет земли.
Нет хлеба, нет воды. Все взято.
Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли
Припасть к ней пересохшим ртом солдата.
Чужое море билось за кормой,
В чужое небо пену волн швыряя.
Чужие люди ехали «домой»,
Над ухом это слово повторяя.
Он знал язык. Они его жалели вслух
За костыли и за потертый ранец,
А он, к несчастью, не был глух,
Бездомная собака, иностранец.
Он высадился в Лондоне. Семь дней
Искал он комнату. Еще бы!
Ведь он искал чердак, чтоб был бедней
Последней лондонской трущобы.
И наконец нашел. В нем потолки текли,
На плитах пола промокали туфли,
Он на ночь у стены поставил костыли —
Они к утру от сырости разбухли.
Два раза в день спускался он в подвал
И медленно, скрывая нетерпенье,
Ел черствый здешний хлеб и запивал
Вонючим пивом за два пенни.
Он по ночам смотрел на потолок
И удивлялся, ничего не слыша:
Где «юнкерсы», где неба черный клок
И звезды сквозь разодранную крышу?
На третий месяц здесь, на чердаке,
Его нашел старик, прибывший с юга;
Старик был в штатском платье, в котелке,
Они едва смогли узнать друг друга.
Старик спешил. Он выложил на стол
Приказ и деньги – это означало,
Что первый час отчаянья прошел,
Пора домой, чтоб все начать сначала.
Но он не может. – Слышишь, не могу! —
Он показал на раненую ногу.
Старик молчал. – Ей-богу, я не лгу,
Я должен отдохнуть еще немного.
Старик молчал. – Еще хоть месяц так,
А там – пускай опять штыки, застенки, мавры.
Старик с улыбкой расстегнул пиджак
И вынул из кармана ветку лавра.
Три лавровых листка. Кто он такой,
Чтоб забывать на родину дорогу?
Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой,
Губами осторожно трогал.
Как он посмел забыть? Три лавровых
листка.
Что может быть прочней и проще?
Не все еще потеряно, пока
Там не завяли лавровые рощи.
Он в полночь выехал. Как родина близка,
Как долго пароход идет в тумане…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Когда он был убит, три лавровых листка
Среди бумаг нашли в его кармане.
1939
Старик
Памяти Амундсена
Весь дом пенькой проконопачен прочно,
Как корабельное сухое дно,
И в кабинете – круглое нарочно —
На океан прорублено окно.
Тут все кругом привычное, морское,
Такое, чтобы, вставши на причал,
Свой переход к свирепому покою
Хозяин дома реже замечал.
Он стар. Под старость странствия опасны,
Король ему назначил пенсион,
И с королем на этот раз согласны
Его шофер, кухарка, почтальон.
Следят, чтоб ночью угли не потухли,
И сплетничают разным докторам,
И по утрам подогревают туфли,
И пива не дают по вечерам.
Все подвиги его давно известны,
К бессмертной славе он приговорен,
И ни одной душе не интересно,
Что этой славой недоволен он.
Она не стоит одного ночлега
Под спальным шерстью пахнущим мешком,
Одной щепотки тающего снега,
Одной затяжки крепким табаком.
Ночь напролет камин ревет в столовой,
И, кочергой помешивая в нем,
Хозяин, как орел белоголовый,
Нахохлившись, сидит перед огнем.
По радио всю ночь бюро погоды
Предупреждает, что кругом шторма, —
Пускай в портах швартуют пароходы
И запирают накрепко дома.
В разрядах молний слышимость все глуше,
И вдруг из тыщеверстной темноты
Предсмертный крик: «Спасите наши души!»
И градусы примерной широты.
В шкафу висят забытые одежды —
Комбинезоны, спальные метки…
Он никогда бы не подумал прежде,
Что могут так заржаветь все крючки…
Как трудно их застегивать с отвычки!
Дождь бьет по стеклам мокрою листвой.
В резиновый карман – табак и спички,
Револьвер – в задний, компас – в боковой.
Уже с огнем забегали по дому,
Но, заревев и прыгнув из ворот,
Машина по пути к аэродрому
Давно ушла за первый поворот.
В лесу дубы под молнией, как свечи,
Над головой сгибаются, треща,
И дождь, ломаясь на лету о плечи,
Стекает в черный капюшон плаща.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Под осень, накануне ледостава,
Рыбачий бот, уйдя на промысла,
Найдет кусок его бессмертной славы —
Обломок обгоревшего крыла.
1939
Мальчик
Когда твоя тяжелая машина
Пошла к земле, ломаясь и гремя,
И черный столб взбешенного бензина
Поднялся над кабиною стоймя,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Разбитый и притиснутый к земле,
Конечно, ты не думал о мальчишке,
Который жил в Клину или Орле;
Как ты, не знавший головокруженья,
Как ты, он был упрям, драчлив и смел,
И самое прямое отношенье
К тебе, в тот день погибшему, имел.
Пятнадцать лет он медленно и твердо
Лез в небеса, упрямо сжав штурвал,
И все тобой не взятые рекорды
Он дерзкою рукой завоевал.
Когда его тяжелая машина
Перед посадкой встала на дыбы
И, как жестянка, сплющилась кабина,
Задев за телеграфные столбы,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Придавленный к обугленной траве,
Он тоже не подумал о мальчишке,
Который рос в Чите или в Москве…
Когда ужо известно, что в газетах
Назавтра будет черная кайма,
Мне хочется, поднявшись до рассвета,
Врываться в незнакомые дома,
Искать ту неизвестную квартиру,
Где спит, уже витая в облатках,
Мальчишка – рыжий маленький задира,
Весь в ссадинах, веснушках, синяках.
1939
Поручик
Уж сотый день врезаются гранаты
В Малахов окровавленный курган,
И рыжие британские солдаты
Идут на штурм под хриплый барабан.
А крепость Петропавловск-на-Камчатке
Погружена в привычный мирный сон.
Хромой поручик, натянув перчатки,
С утра обходит местный гарнизон.
Седой солдат, откозыряв неловко,
Трет рукавом ленивые глаза,
И возле пушек бродит на веревке
Худая гарнизонная коза.
Ни писем, ни вестей. Как ни проси их,
Они забыли там, за семь морей,
Что здесь, на самом кончике России,
Живет поручик с ротой егерей…
Поручик, долго щурясь против света,
Смотрел на юг, на море, где вдали —
Неужто нынче будет эстафета? —
Маячили в тумане корабли.
Он взял трубу. По зыби, то зеленой,
То белой от волнения, сюда,
Построившись кильватерной колонной,
Шли к берегу британские суда.
Зачем пришли они из Альбиона?
Что нужно им? Донесся дальний гром,
И волны у подножья бастиона
Вскипели, обожженные ядром.
Полдня они палили наудачу,
Грозя весь город обратить в костер.
Держа в кармане требованье сдачи,
На бастион взошел парламентер.
Поручик, в хромоте своей увидя
Опасность для достоинства страны,
Надменно принимал британца, сидя
На лавочке у крепостной стены.
Что защищать? Заржавленные пушки,
Две улицы то в лужах, то в пыли,
Косые гарнизонные избушки,
Клочок не нужной никому земли?
Но все-таки ведь что-то есть такое,
Что жаль отдать британцу с корабля?
Он горсточку земли растер рукою:
Забытая, а все-таки земля.
Дырявые, обветренные флаги
Над крышами шумят среди ветвей…
– Нет, я не подпишу твоей бумаги,
Так и скажи Виктории своей!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Уже давно британцев оттеснили,
На крышах залатали все листы,
Уже давно всех мертвых схоронили,
Поставили сосновые кресты,
Когда санкт-петербургские курьеры
Вдруг привезли, на год застряв в пути,
Приказ принять решительные меры
И гарнизон к присяге привести.
Для боевого действия к отряду
Был прислан в крепость новый капитан,
А старому поручику в награду
Был полный отпуск с пенсиею дан!
Он все ходил по крепости, бедняга,
Все медлил лезть на сходни корабля…
Холодная казенная бумага,
Нелепая любимая земля…
1939
Английское военное кладбище в Севастополе
Здесь нет ни остролистника, ни тиса.
Чужие камни и солончаки,
Проржавленные солнцем кипарисы
Как воткнутые в землю тесаки.
И спрятаны под их худые кроны
В земле, под серым слоем плитняка,
Побатальонно и поэскадронно
Построены британские войска.
Шумят тяжелые кусты сирени,
Раскачивая неба синеву,
И сторож, опустившись на колени,
На áнглийский манер стрижет траву.
К солдатам на последние квартиры
Корабль привез из Англии цветы,
Груз красных черепиц из Девоншира,
Колючие терновые кусты.
Солдатам на чужбине лучше спится,
Когда холмы у них над головой
Обложены английской черепицей,
Обсажены английскою травой.
На медных досках, на камнях надгробных,
На пыльных пирамидах из гранат
Английский гравер вырезал подробно
Число солдат и номера бригад.
Но прежде чем на судно погрузить их,
Боясь превратностей чужой земли,
Все надписи о горестных событьях
На русский второпях перевели.
Бродяга-переводчик неуклюже
Переиначил русские слова,
В которых о почтенье к праху мужа
Просила безутешная вдова:
«Сержант покойный спит здесь. Ради Бога,
С почтением склонись пред этот крест!»
Как много миль от Англии, как много
Морских узлов от жен и от невест.
В чужом краю его обидеть могут,
И землю распахать, и гроб сломать,
Вы слышите! Не смейте, ради бога!
Об этом просят вас жена и мать!
Напрасный страх. Уже дряхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам.
1939
Часы дружбы
Недавно тост я слышал на пиру,
И вот он здесь записан на бумагу.
– Приснилось мне, – сказал нам тамада,
– Что умер я, и все-таки не умер,
Что я не жив, и все-таки лежит
Передо мной последняя дорога.
Я шел по ней без хлеба, без огня,
Кругом качалась белая равнина,
Присевшие на корточки холмы
На согнутых хребтах держали небо.
Я шел по ней, весь день я не видал
Ни дыма, ни жилья, ни перекрестка,
Торчали вместо верстовых столбов
Могильные обломанные плиты —
Я надписи истертые читал,
Здесь были похоронены младенцы,
Умершие, едва успев родиться.
К полуночи я встретил старика,
Седой, как лунь, сидел он у дороги
И пил из рога черное вино,
Пахучим козьим сыром заедая.
«Скажи, отец, – спросил я у него, —
Ты сыр жуешь, ты пьешь вино из рога,
Как дожил ты до старости такой
Здесь, где никто не доживал до года?»
Старик, погладив мокрые усы,
Сказал: «Ты ошибаешься, прохожий,
Здесь до глубокой старости живут,
Здесь сверстники мои лежат в могилах,
Ты надписи неправильно прочел —
У нас другое летоисчисленье:
Мы измеряем, долго ли ты жил,
Не днями жизни, а часами дружбы». —
И тамада поднялся над столом:
– Так выпьем же, друзья, за годы дружбы!
Но мы молчали. Если так считать —
Боюсь, не каждый доживет до года!
1939
Транссибирский экспресс
У этого поезда плакать не принято. Штраф.
Я им говорил, чтоб они
догадались повесить.
Нет, не десять рублей. Я иначе хотел,
я был прав, —
Чтобы плачущих жен удаляли
с платформы за десять…
Понимаете вы, десять
самых последних минут,
Те, в которые что ни скажи – недослышат,
Те, в которые жены перчатки
отчаянно мнут,
Бестолковые буквы по стеклам
навыворот пишут.
Эти десять минут взять у них,
пригрозить, что возьмут, —
Они насухо вытрут глаза еще дома,
в передней.
Может, наше тиранство не все
они сразу поймут,
Но на десять минут подчинятся
нам все до последней.
Да, пускай улыбнется! Она
через силу должна,
Чтоб надолго запомнить лицо
ее очень спокойным.
Как охранная грамота, эта улыбка
нужна
Всем, кто хочет привыкнуть
к далеким дорогам и войнам.
Вот конверты, в пути пожелтевшие,
как сувенир, —
Над почтовым вагоном семь раз
изменялась погода, —
Шахматисты по почте играют
заочный турнир,
По два месяца ждут от партнера
ответного хода.
Надо просто запомнить глаза ее,
голос, пальто —
Все, что любишь давно, пусть хоть даже
ни за что ни про что,
Надо просто запомнить
и больше уже ни на что
Не ворчать, когда снова
застрянет в распутицу почта.
И домой возвращаясь, считая
все вздохи колес,
Чтоб с ума не сойти, сдав соседям
себя на поруки,
Помнить это лицо без кровинки,
зато и без слез,
Эту самую трудную маску
спокойной разлуки.
На обратном пути будем приступом
брать телеграф.
Сыпать молнии на Ярославский вокзал,
в управленье.
У этого поезда плакать не принято. Штраф.
– Мы вернулись! Пусть плачут.
Снимите свое объявленье.
1939
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































