Текст книги "Елена"
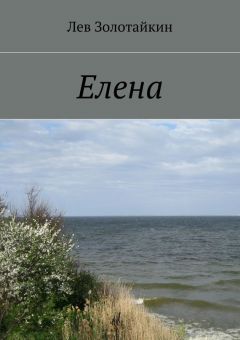
Автор книги: Лев Золотайкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Из всего я помню только танцы.
Мы танцуем с Еленой, я что-то нашептываю, Елена смеется…
– А у меня сегодня день рождения…
– Правда? Поздравляю…
– Спасибо…
– Леночка…
Замечательно, что в танце можно быть так близко, почти обнимать… Какое почти! Мы уже обнялись, и лица совсем рядом, и я целую в шейку…
Людей так много. Толкают. Мешают.
Мы оказываемся в пустом темном здании института и находим самое укромное место.
Потом я провожал Елену в ее далекое Тушино. Домой вернулся глубокой ночью.
Начались наши встречи и мои ночные путешествия на последних электричках, товарных поездах, запоздалых автобусах и уборочных машинах.
Мы тайно побывали в моей коммунальной квартире на Цветном бульваре.
Потом Тушино, комната Елены в общежитии.
А потом… потом было много всего.
Оказалось, что мы просто созданы друг для друга, и какое счастье, что мы, наконец, встретились!
Тут, очень кстати, появился роман «Мастер и Маргарита»:
«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!» – читали мы абсолютно про себя.
Недавно Ирина мне рассказывала, как Елена вроде бы переживала:
– Представляешь, он меня каждый раз провожает до дома. Возвращается ночью. Мне его так жалко.
Ну, это Елена кокетничала перед подругой.
Может быть, провожания были наши лучшие часы.
Время летит. Нужно обнять, поцеловать, сказать.
Каждая минута последняя.
А еще можно было сойти на Левобережной и погулять в лесочке.
Ночь, луна, звезды. Мы одни в мире.
Мы встретились уже взрослыми людьми. У обоих семьи, маленькие дочери.
Нам казалось, что мы нашли свою судьбу, но жизнь была до того бедная и так нас привязывала к единственному жилью и налаженному семейному быту, что нам пришлось еще долго жить в практически разваливающихся семьях.
Проза жизни много раз напомнит о себе, но пока мы были в эйфории, очень заметной для окружающих.
Первый раз мы с Еленой пошли на концерт и сразу засветились. Мой очень любопытный сокурсник, знавший мою жену, а теперь еще и наш коллега с Ветошного переулка, таращил на Елену глаза и со своего места делал мне разные знаки, дескать, что это значит?
Смотрели мы в ЦДРИ блестящий вечер пародий группы В. Полякова (все его помнят по роли фокусника в «Карнавальной ночи»). Было очень смешно, только вот проклятый Эдик никак не мог успокоиться.
Скоро небольшой группой мы поехали в Пермь, в нашу с Еленой первую и последнюю командировку.
Какое счастье, свободные в чужом городе! Только Владимир Иосифович хмурится и Парзик с Ольгой поджимают губки. Как так, я был собственностью бригады, а тут не успела появиться и сразу все ей.
Сама Елена вела себя идеально, добросовестно корпела над чертежами, а я такой весь балованный и нетерпеливый портил ей репутацию.
Вот, например, всей компанией мы отправились в кино, только Елена этот фильм видела и осталась в гостинице. Когда стали рассаживаться, гасить свет, я исчез и вернулся к самому концу сеанса. Удивленные контролеры пустили меня в зал, зажегся свет… и вот он я – просто в темноте потерялся и сидел на другом месте.
Были в этой командировке и другие фокусы. По возвращении Гевондяну обо всем было соответственно доложено, особенно авторитетно, я думаю, выступил Владимир Иосифович со своей партийной прямотой, и Елену, от греха подальше, перевели в другую бригаду, в наше помещение около ГУМа.
Позже мы с Еленой согласились с тем, что должны быть благодарны Завену Серапионовичу за то, что он развел нас по разным углам. Это наверняка спасло наши отношения и, главное, деловую репутацию Елены.
На новом месте Елена обрела душевное равновесие и со всем своим честолюбием занялась делом.
А еще Елена действительно переехала из «деревни» в «столицу». Этот наш отдел был знаменит очень интересными и модными женщинами, да еще рядом легендарный магазин.
Елене очень повезло с ГИПами, немного поработав с оригинальным и незаурядным Эпштейном, она окончательно обосновалась в бригаде Севы Белого.
Сева был талантливый специалист и просто хороший человек. Мы с ним какое-то время общались на почве сочинения стишков и разных шуточек для «световой газеты». У него была небольшая, в основном женская бригада. Тон задавали Люся Дубская и Лена Потапова – женщины такой активности и стервозности, что любимый Севочка был, как за каменной стеной от всех конторских несправедливостей и посягательств. Елена прекрасно вписалась в эту компанию.
Еще в бригаде была пожилая Наталья Михайловна, по общему мнению – наказание божие, всегда громко объявлявшая свое твердое мнение по любому вопросу. Мне с ней пришлось поработать несколько месяцев на одном объекте и как-то мы хорошо ладили, в общем-то, она была умница. И Елена с ней подружилась, и потом навещала на ее пенсии. Наталья Михайловна была одна из тех, кто с симпатией относился к нам с Еленой, как к паре, и до конца ее жизни мы получали добрые поздравительные открытки «от Наташи».
Так что Елена добросовестная, во все детально вникающая, быстро стала ведущим конструктором и работала у Севы Белого до ухода на пенсию, неизменно возвращаясь к нему после житейских разлучек.
Ну и, разумеется, Елена заняла свое место среди интересных женщин СКБ.
В те времена, когда все необходимое доставалось с боем, со стоянием в огромных очередях или разными хитрыми путями, женщине для того, чтобы быть хорошо и модно одетой, требовались ум, энергия, фантазия и деловая хватка.
Хорошо, что рядом был ГУМ, плохо, что денег платили мало.
Елену выручали ее швейные таланты, и большая часть ее обновок была делом собственных рук.
Теперь мы чаще всего встречались «у Вовика» – небольшой бюст Ленина в вестибюле станция метро «Театральная», стоит до сих пор.
От кульмана Елены до «Вовика» пять минут ходьбы, но я с «Сокола» всегда приезжал раньше и изнывал, пока в проеме дверей не появлялась улыбающаяся Елена.
Иногда, при хорошей погоде, мы просто гуляли. Елена еще плохо знала Москву, и я выискивал для нее что-нибудь занятное. Тогда Москва еще была небольшой красивой Москвой. В центре приютилось много небольших пустынных музеев и часто менялись разные выставки.
Было какое-то странное время, когда прорывы «оттепели» растворялись в привычном инфантилизме бедности и ограниченных возможностей.
Я завалил Елену книгами и бесконечными рассказами о своих литературных пристрастиях, любимых кинофильмах и спектаклях.
Если верно, что женщины любят ушами, то чувства в Елене должны были просто кипеть, а бедные уши, как они все это выдерживали.
Интерес Елены меня подстегивал, она смеялась именно там, где смешно и все впитывала, как губка. Поразительно, когда Елена успевала все усваивать и, вообще, выдерживать все эти перегрузки. Ведь еще дом, хозяйство и нужно поспать.
А сам-то я когда спал?
Вот и вспоминаю я то время со счастливым недоверием.
Первое время мы много ходили в кино. Очень доступно, потом в зале темно, а сидели мы всегда в последнем ряду.
Тогда в Москве каждую неделю вывешивались большие, сборные афиши всех кинотеатров и клубов и даже с расписанием сеансов. Мы эту афишу внимательно изучали и мчались куда-нибудь к черту на кулички, потому что все самое интересное показывали на окраинах.
Где-то совсем в глухомани посмотрели «Зеркало» Тарковского, в каком-то клубе отыскали «Земляничную поляну» Бергмана – невероятное тогда для нас копание в душе и в своем прошлом.
Очень смешной был английский фильм «Актер». Закулисная жизнь, снятая с веселой иронией. На тусовке мыкается пьяный актер с навязчивым вопросом: «Вот скажи, как играть заднюю часть слона, если передняя часть объелась чесноком…»
Другая богемная жизнь – картина Вайды «Все на продажу». Но это уже душевное раздевание, связанное с гибелью невероятно знаменитого Збигнева Цибульского. А на экране прекрасные Беата Тышкевич и Даниэль Ольбрыхский.
На массу афоризмов разлетелся блестящий «Айболит – 66», да еще с такой своевременной песенкой:
…Это очень хорошо, это очень хорошо,
что пока нам плохо…
Забавные грузинские короткометражки про компанию дорожных рабочих. И первые фильмы Отара Иоселиани.
А романтическое прошлое: жутковатые грузинские «Мольба» и «Древо желания». Яркие легенды Закарпатья – «Тени забытых предков», «Белая птица с черной отметиной», все в страстях, в крови, но с непременными песнями, плясками, с горами и бурными реками.
Мы находили фильмы, которые я еще студентом видел на неделях французского и итальянского кино.
А потом пошли картины Феллини, одна лучше другой: «Амаркорд», «Репетиция оркестра», «А корабль плывет», «Интервью»…
Наконец, мои обожаемые мультипликации, было как раз время их расцвета.
Когда в Москве была американская выставка с бесконечной очередью, я через разные дыры пробирался на нее несколько раз и даже утащил книжку про современное искусство. Но один раз я не вылезал из павильона мультипликации, где шли серии уморительных погонь и приключений разных зверюшек.
Все это я в лицах представлял Елене.
Какой интересной вырисовывается жизнь. Но, в общем-то, она такой и была.
С 1943 года и до ухода на пенсию в 1968 году моя мать работала в цирке на Цветном бульваре сначала билетером, а потом заведующей директорской ложей. Так я до института и ходил по кругу: дом на Трубной, школа на Самотеке и цирк на Цветном.
По цеховым связям и своему радушному характеру у матери образовалось много подруг в разных театрах. Для всех этих Вер, Нин, Тамар я был Таниным сыном и мог заходить в их театры, как в гости.
Еще в цирке, рядом со специальным входом в директорскую ложу, приютился театральный отдел Управления Культуры. Обленившиеся административные дамы меня привечали и я бегал по их просьбам на соседний Центральный рынок за продуктами к обеду. За это они меня подкармливали и разрешали брать билеты из брони, которая у них лежала кучей посреди комнаты, на круглом столе. За час до начала спектакля я мог выбирать из того, что осталось, все, что мне нравилось. Так что, театр был моим обыденным времяпрепровождением.
На сценах тогда в основном игралась советская тоска, но мастерство корифеев, все равно находило щели и прорывалось к зрителям. Этим театр и существовал.
Что-то Елена успела увидеть, я уж расстарался, но тут уже подоспело время, когда на сцену вырвалась молодежь.
Какое-то время театр Сатиры был у нас с Еленой одним из самых посещаемых. Началось его возрождение, среди авторов появились А. Арканов и Г. Горин, а на сцене – Ширвиндт, Державин, Миронов, Папанов и много других, новых и ярких. В режиссерах мелькнул Марк Захаров. То есть театр расцветал.
В стране еще продолжалась «оттепель», хотя Хрущев уже орал и топал ногами на встречах с творческой интеллигенцией.
Маленький кругленький Хрущев дал людям возможность вздохнуть после мрачной глыбы Сталина. Впервые один из молчаливых таинственных вождей открыл рот, выложил свой интеллект и развеселил страну.
Хохотали в зрительных залах, на кухнях и на работе. Ни один разговор не обходился без анекдота про главного комика страны.
Вот Хрущев на выставке картин:
– А это что за жопа с глазами?
– Да это зеркало, Никита Сергеевич.
В театре «Современник» публика рыдала от смеха на спектакле «Голый король».
Ю. Любимов вспоминал, как его и нескольких режиссеров позвали в качестве соучастников на совещание по вопросу закрытия «Современника»: «И все про „Голого короля“ разбирали: кто голый король, а кто премьер – это при Хрущеве было. И до того доразбирались, что закрыли заседание, потому что не могли понять – если Хрущев голый король, то кто же тогда премьер министр? Значит Брежнев».
Такое было сложное время, такие были заботы у партии.
А театры кипели и бурлили. Как будто распечатали коробку и высыпалось огромное количество актеров, режиссеров, драматургов.
Цензура надрывалась, запрещая и вычеркивая, но театр в совершенстве овладел эзоповым языком, намекая и подчеркивая двойной смысл. А хорошо натренированная публика все понимала, хохотала и устраивала овации.
Театр «Современник» был самым отчаянным и блестящим. На сцену выходили молодые, красивые: Ефремов, Табаков, Казаков, Даль, Евстигнеев, Вертинская, Кваша, Гафт, Волчек, Неелова, Мягков, Лаврова – и это только «самые-самые». Просто невероятно, как их сразу столько образовалось.
Мы с Еленой пересмотрели почти весь тогдашний репертуар «Современника».
Само расположение театра на площади Маяковского было очень удобным: близко от наших работ, а после спектакля бегом в метро до «Сокола» и на автобусе в Химки. Станции «Речной вокзал» еще не было.
У нас с Володей Александровым были разговоры о трилогии «Декабристы», «Народовольцы» и «Большевики». Он считал спектакли блестящими, смелыми и честными. По тем временам где-то так и было. Вот только большевиков я не любил ни в каком виде, и весь пафос этой пьесы мне казался наивным.
Ведь был уже напечатан «Один день Ивана Денисовича» и начал ходить по рукам «Ленин в Цюрихе».
Я рос под бабушкины рассказы о добром прошлом, а в реальности, которая нас окружала, над людьми издевались, вроде того, как нас гонял колхозный бригадир, когда мы с бабушкой собирали колоски в поле.
А тут сплошные честные глаза и умные разговоры.
В 1964 году по Москве прошел слух о необыкновенном спектакле, который поставил педагог Щукинского училища Юрий Любимов со своими выпускниками.
Спектакль назывался «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Б. Брехта. Мы с Еленой смотрели его в каком-то клубе.
Все в этом спектакле было праздником: непосредственность молодых артистов, их музыкальность, пластичность движений, множество песен, на отчаянной ноте звучали стихи Цветаевой «Мой милый, что тебе я сделала…» А зонги самого Брехта очень ложились на тогдашние настроения.
Любимов потом вспоминал: «Когда спели зонг «О баранах»
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны…
И второй зонг особенно:
Власти ходят по дороге…
Труп какой-то на дороге.
«Э! Да это ведь народ!»
Публика стала топать ногами и орать: «Пов-то-рить! Пов-то-рить! Пов-то-рить» и так минут пять».
Как свидетели, можем подтвердить, что на спектакле было еще много моментов, когда эмоции зрителей перехлестывали через край. Время было такое, взволнованное.
Как и очень многие, мы с Еленой «заболели» Таганкой. Посмотрели все первые поэтические представления от «Антимиров» до «Пугачева», спектакли с Высоцким, шедевры Таганки, в том числе и «Вишневый сад», который поставил А. Эфрос.
То есть мы проучились в школе Любимова до самого ее кризиса: смерть Высоцкого, отъезд Любимова за границу и раскол труппы.
Мы с Еленой никогда не стояли в тогдашних безнадежных очередях за театральными билетами.
Обычно я рыскал по уличным театральным кассам. Была реальная возможность найти дефицитные билеты с «нагрузкой», билетами на прогоревшие спектакли.
Слава богу, билеты в театры были еще дешевы, но все равно я был весь в долгах до отъезда в Сургут.
А большей частью я «стрелял» лишние билеты у входных дверей. Задолго до начала спектакля я уже шустрил в толпе и очень навострился в этом деле. Елена всегда говорила, что я глазастый, и, действительно, я издалека замечал, что человек не спроста еще далеко на подходе лезет в карман за билетом, и уже летел к нему с традиционным: «Нет лишнего билетика?» Кто-то выжидал до последнего, таких тоже нужно было не упускать из вида. Иногда женщины говорили: «Есть, пойдемте». Ну, тут я дико извинялся, дескать, мне бы билетик, а девушка уже есть.
В общем, мы попадали почти всегда. Такое было наше счастье и везение. Люди нам симпатизировали.
И, конечно, наградой была радость Елены, когда я выныривал из толпы с билетами в руках.
Где-то классе в шестом со мной за парту посадили нового мальчика, Гену Нефедычева, очень такого живого и компанейского. Скоро мы стали не разлей вода.
До этого Генка учился в балетной школе Большого театра, где физические нагрузки были запредельные. Поэтому, когда у него обнаружились проблемы с сердцем, родители Генки, напуганные тяжелой сердечной болезнью его старшей сестры, тут же перевели его в обычную школу.
Когда у нас на вечерах появились девочки, Генка был вне конкуренции. Пока мы жались по стенкам, он непринужденно подходил к даме, кланялся и приглашал на танец. Естественно, летом Генка стал жить у нас в деревне. Он приезжал со своим аккордеоном, по вечерам растягивал меха, и мы под бодрый фокстрот шагали в клуб. Народ встречал его ликованием.
Моя двоюродная сестра безнадежно сохла по Генке, и хотя была уже красавицей, но слишком маленькой. Когда в доме над ней посмеивались, а она плакала, Генка бросался ее утешать и клялся, что обязательно дождется, когда она вырастет.
Конечно, Генка не мог забыть сцену, на которой он уже танцевал в детских кордебалетах, и мы с ним начали ходить в Большой театр.
Генкины родители поощряли этот наш интерес, иногда даже покупали нам билеты, но чаще мы сами доставали копеечные входные контрамарки, а там уже пристраивались поближе к сцене.
И вот так, под Генкины комментарии, кто есть кто и кто чего стоит, мы пересмотрели весь балетный репертуар Большого театра.
Потом, в студенческой суете и простоте Большой театр отошел, как что-то слишком торжественное, и только уже с Еленой балет стал одним из наших главных театральных пристрастий.
Есть такое красивое выражение – вспышка новой звезды. В балете сразу ярко вспыхнула целая плеяда новых балетмейстеров и молодых солистов: Григорович, Васильев, Максимова, Лиепа, Бессмертнова, Гордеев, Наталья Касаткина, Алла Осипенко, Макарова…
Мы были на заключительном концерте Международного конкурса артистов балета, где Гран-При получила балерина из незабываемой Перми – Надежда Павлова.
Продолжала блистать Майя Плисецкая. Ее «Кармен-сюита» стала эталоном нового балета.
Екатерина Максимова и Владимир Васильев слились в памяти с трогательным до слез «Щелкунчиком». Потом они же в «Анюте», и, конечно, слава богу, сохранившиеся на пленке шедевры Максимовой «Галатея» и «Старое танго».
Нам очень нравилась Наталья Касаткина. Яркая, резкая, очень динамичная балерина, особенно хороша она была в «Половецких плясках». Под бешеную музыку на огромной сцене она носилась с таким темпераментом, что один из критиков сравнил ее с молодой кобылицей. Сравнение может и не балетное, но там все было в масть: и полуголые татары с бичами, и Касаткина с развевающейся гривой волос во главе целого табуна кордебалета.
А в «Весне священной» она танцевала Колдунью. Там сошлись и музыка рваная, шаманская, и ее пластика то взрывная, то завораживающая. Очень нравилась языческая Русь, вся в бодрых, седобородых мудрецах, страстях и идолах, не то, что постное христианство.
Сейчас, перебирая старые театральные программки, я удивляюсь, когда мы успевали столько смотреть.
Еще же были потрясающие балетные группы К. Голейзовского, Л. Якобсона, Б. Эйфмана. А потом стали приезжать гастролеры, целые балетные театры из Америки, ФРГ, Франции.
Просто фейерверк. Даже фамилии были необыкновенные, например – Хозе Лимон.
Сейчас при всех свободах и неограниченных возможностях даже близко нет тех театральных потрясений.
Тогда виртуозное мастерство исполнителей падало на обостренное восприятие зрителей.
А сейчас нет не только тех мастеров, но нет и того зрительного зала.
Исчез душевный отклик.
Ах, кино! Ах, театр! Суета все это.
Поиски уединения – вот главная проблема.
Советская власть была очень пуританской. В любую гостиницу пускали только по паспарту и со штампом о браке.
Мы перебивались квартирами друзей, знакомых, разными случайными возможностями, даже будущий начальник Гипростроймоста Алик Холмский помогал нам своей дачей.
От Северного речного вокзала на двухчасовую прогулку до «Бухты Радости» и обратно ходил известный среди таких же бесприютных пар теплоход «Михаил Калинин». А на нем были двухместные каюты и документов не спрашивали. Я бегал к открытию касс и, отстояв очередь из понятных мне озабоченных мужичков, добывал заветные билеты.
Насаждаемая мораль перекособочила все человеческое в людях. Однажды я, по простоте душевной, попробовал снять комнату в пригородном домике. Меня не поняли. Как это я буду приезжать с женщиной!? Хозяевам показалось, что я склоняю их к чему-то гнусному, чуть ли не к измене родине.
Со своей новой бригадой Елена начала ездить в командировки. И, конечно, при первой возможности я мчался к ней на свидание.
Началось с Ленинграда. До этого никто из нас в нем не был, а тут, как по заказу, еще и белые ночи.
Елена уже прожила в городе неделю и, в восторге от ленинградских красот, бросилась мне все показывать.
Пришли на квартиру Пушкина, а там огромная очередь растянулась по набережной. Мы зашли во двор, открыли какую-то дверь – вроде кухня, открыли еще дверь и оказались в гостиной. Экскурсовод вытаращила глаза, но у нас был такой и ошарашенный, и виноватый и умоляющий вид, что она засмеялась и повела нас всех дальше.
Мы бродили и по романтическим пригородам. То ли дни были раньше длинней, как-то мы много успевали.
И когда Елена работала под Серпуховом, я туда ездил все выходные.
В этой командировке с ними был Абрам Лазаревич Зубок – легендарная в СКБ личность. В молодости он слыл хулиганом и бабником. Все наши женщины-ветераны смотрели на него с обожанием и краснели по старой памяти.
Как-то Елена встречает меня и смеется:
– Зубок спрашивает: «Куда это ты собралась? А, небось Лев уже караулит в лесочке? Слушай, да что она у тебя золотая что ли? Что он в такую даль к тебе мотается?»
Еще был случай на тему, что судьба помогает ненормальным и влюбленным.
Елена уехала одна, в месткоме «горела путевка»: Псков, пушкинские места.
Я пометался и рванул следом, абсолютно наобум. Мобильников еще не было.
Слез с поезда, зная только, что недалеко от вокзала могила Пушкина.
Подхожу, стоит экскурсия и в первом ряду Елена с блокнотиком.
Поднимает она глаза, а за могилой моя сияющая физиономия…
Во время «оттепели» очень популярной стала тема Древней Руси
Когда немного рассеялся туман советской власти, оказалось, что у нас есть яркое прошлое.
Вдруг, как будто открыли бабушкин сундук, и все ахнули.
Огромные очереди стояли на выставки картин Николая и Святослава Рерихов. Горы, клубы облаков, необыкновенной освещенности. Идолы в пустынях, таинственные знаки на скалах, вся эта мистика Гималаев переплеталась с древностями Руси, ее деревянными богами, ночным «Гонцом» в утлом челне.
И тут же ярморочная старина Т. Мавриной с ярко раскрашенными людьми и каруселями.
Солнечная зима Юона и «Русь уходящая» Павла Корина.
Глазунов подсуетился с глазастыми святыми, тонконогими конями и хоругвями.
И очень всех поразила небольшая выставка картин рано и трагически ушедшего Константина Васильева.
Ну и конечно, целая россыпь художников «серебряного века»: Добужинский, Бенуа, Лентулов, Билибин, Лансере, Серебрякова и много-много других. Это была старина уже не просто яркая, а очень изящная, такая вся из себя, о другом мире и о других людях.
Но самое чудесное то, что этой красоты оказалось очень много вокруг нас: иконы, церковные росписи, а главное, архитектура, храмы, особняки, загородные усадьбы.
Тут же и книжки интересные появились: путеводители по древним городам, туристические карты, наборы открыток по разной старине, по деревянному зодчеству Севера. Я всем этим добром завалил Елену, а прекрасно изданная книга Л. Волынского «Страницы каменной летописи» стала у нее повседневным справочником.
Этим нашим увлечением уже полностью командовала Елена. Она дотошно готовилась к каждой поездке и всю программу выполняла неукоснительно.
Мы знакомились со стариной расширяющимися кругами: все в Москве, потом усадьбы и монастыри: Абрамцево, Архангельское, Марфино, Загорск, Новый Иерусалим и, наконец, города, позже получившие название «Золотого кольца»: Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Углич, Переяславль-Залесский, Муром, Ярославль.
Самой прекрасной была поездка в Суздаль. Солнечная зима. Гостиница пустая, кроме нас только пара командировочных.
Я тут же со своей подушкой прибежал к Елене и, вообще, жил бы в гостинице, не вылезая, в рай ведь попали.
Но Елена была тверда:
– А вот это вот не входит в наше трехразовое питание. Ты помнишь, зачем мы сюда приехали?
Я грустно закивал, какие с Еленой споры.
А на улице все специально для нас, двух единственных бездельников, которые бродят по городу и все им в ответ улыбаются. В церквях, музеях скучающие смотрительницы радовались нам, как родным.
Все мы облазили: Суздаль, Владимир, Кидекшу, а на Нерль пробивали тропинку в глубоком снегу.
Люди вспоминают мгновения счастья, а тут его была целая неделя.
Позже я даже написал «Сказку», которая мне очень нравится. И Володя Александров ее хвалил, а уж он-то искушеннейший читатель. Правда, в это время у них с Лидой был бурный период романа и возможно «Сказка» попала под настроение.
Я посылал ее в несколько молодежных журналов. Нигде не взяли. Только одна девушка ответила: «Очень мило, но не наша стилистика».
Черт бы побрал этих профессионалов! Мне казалось, что наша любовь должна радовать всех. Обычно в метро мы стояли, прижавшись, в углу двери, и я же видел краем глаза, как сидящая напротив девушка смотрела на нас и улыбалась.
А тут какая-то «стилистика».
С К А З К А
Очаровательна эта сказочная Русь.
Среди лягушек попадаются царевны. Каждая курочка – ряба, а каждая лисичка – обязательно сестричка.
По лесам хоронятся простоватые лешие и переливаются в неописуемой чаще их любопытные, разноцветные глаза.
Лунной дорожкой выходят щекотать прохожих закутанные в серебристые волосы русалки. Прозрачные и грустные, но сытые в реках переполненных рыбой.
Смешно в сказочной Руси. Избушки топчут землю курьими ножками и поворачиваются к молодцам только передом. А спереди резное окошко. А у окошка, ах! красна девица. Неналюбуешься.
Но мельком смотрят на окошки добры молодцы. Конные и пешие ищут они по белу свету диво-дивное, и во чистом поле спотыкаются о замшелый камень: «Налево – пропадешь, и направо – пропадешь, а прямо и вовсе ужас». Жуть.
Кто судьбу пытает, а иной детина плюет налево, крестится направо, «кышь», – кричит вещему ворону и, устроившись в тени камня, открывает торговлишку – дорожные принадлежности: железные башмаки, железные лепешки, ну там – кистени, посохи. Вокруг объявляются другие умельцы: и плотники, и шорники, и гвоздари, и пуговишники.
Растут домишки, встает городишко.
Вот уже сидит у ворот старец и поет новому городу славу. Струится борода старца, мешается со струнами, вплетаются туда же его тонкие персты и не поймешь, что там звучит, но поет складно и сердцу сладко.
Так хорошо живут, что соседям обидно. Против них опоясывается былинная Русь богатырскими заставами.
Приник Алеша Попович к гудящей земле:
– Ужо слышу рать.
Илья Муромец поднял бровь… Шевельнул плечищами, погрозил кулачищами, заржал его борзый конь.
– Рать ужо ушла, – усмехнулся Добрыня, глядя из-под ладони.
И снова богатыри тешатся молодецкой силой, легонько забивая друг друга в сыру землю, но не более, чем по грудь.
А за широкими спинами хорошо растут большие животы. И заплывшие глазки смотрят на узкое бледное лицо:
– Иди-ка ты, братец, туда… не знаю куда. И сделай… не знаю чего.
Знают Мастера, что делать. Давно облюбовано место – огромный заливной луг, окаймленный лесом. Две реки пересекают зеленый ковер и, сливаясь, исчезают за деревьями. На зеленом холме, среди небесной и речной голубизны построил Мастер белый храм.
Стройный, соразмерный с природой, легко стоит он, чуть возвышаясь над окрестностями. Нежная белизна храма светится под темной тучей, и среди поникшей осенней листвы он неизменно ясный.
Возвращаются с чужих сторон купцы и ратные люди, поднимаются ладьи по реке, лес редеет и дрожит во влажных глазах бесконечный простор с белым чудом посредине.
– Родина.
Другой мастер отошел от законченной картины.
Трое задумчивых юношей. Один сидит прямо. Он уходит, его ждет новая земная жизнь, и жизнь эта будет мучительной. Двое других погружены в свои мысли. Но сдержанный наклон в сторону уходящего говорит, что их мысли о нем. Они знают его судьбу и сам он ее знает. Дерево за их спинами склонилось к нему, и гора наклонила свою вершину.
Огромна и прекрасна древняя Русь.
Помнишь, милая.
Жили мы были и вдруг очутились в старом-престаром городе.
Утром вышли на улицу и засмеялись: приснится же наяву. В белом беззвучном просторе хороводы церквей. Они окружают площадь, стоят на всех пригорках, и с каждым шагом из-за крыши, из-за дерева, друг из-за друга появляются маковки, купола, луковицы.
На распахнутом настежь небе сияющая солнечная улыбка. Из труб летят вверх белые колечки и на длинном пути тают в изнеможении. Упираются в край неба поля нарядного снега. Дома низкие, горизонт свободный, земля кажется огромной и, наверное, она вся такая же сказочная.
Вон, видно по щучьему велению, на горке, над речкой растет чей-то терем. Раскрасневшиеся плотники играют топорами на крыше. Желтые щепки ныряют в снег.
Терем почти готов. Нужна только царевна, чтобы открыла окошко и подперла белой ручкой румяную щечку.
Да, вот же она царевна. Идет рядом, смеется, обнимает меня и толкает в сугроб.
И я тяну за собой в сугроб царевну.
– Ха-ха-ха, – заливается царевна и протягивает ко мне залепленные снегом губы. Снег осыпается с ресниц и тает между нашими щеками.
Мы бродим по городу и трогаем камни морщинистых стен. Суетливый ветер метет за нами и холодом толкает в бок:
– Ближе, ближе теплее…
И кончился день. Наступила ночь.
– Милый.
Откуда вдруг такие большие глаза. Улыбается в них солнце, вспыхивают бесконечные снежинки и нежность, нежность. Как перенести столько нежности. Где у времени рукав? Схватить! Дернуть!
– Не беги! Постой. Ну, чуть-чуть. Ведь у тебя вечность…
Но время спешит. Вот оно уже ведет рассвет, а за ним ведет день. День новый, но опять счастливый.
Мы кружим по карусели ярмарочного города. Я размечтался о жизни, про будущее.
У этого города не будет конца. Он вечный и годы его только красят. Пусть наша жизнь коротенькая, но где ее конец. Мы не знаем. А тогда она тоже вечная.
Я любуюсь своей царевной.
Вот сказка. Вечно рядом со мной будет прекрасная женщина.
И мне очень понравилось, что любить можно долго.
Уютно в сказочной Руси.
А время снова гонит вперед, не дает разнежиться, и некогда оглядываться на бегу.
Другая зима и другой зачарованный город.
У него свое настроение. Кругом ночь с черными силуэтами куполов на темном небе. Бездонные тени скрывают мощь несокрушимых стен. А мы маленькие, озябшие, посреди широкой площади, на белеющем среди черноты снегу.
В проемах звонницы, в безмолвии ночи застыли колокола. Древний Кремль за века сросся с землей, и стоит каменной глыбой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































