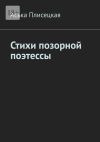Текст книги "Зал ожидания 1. Успех"
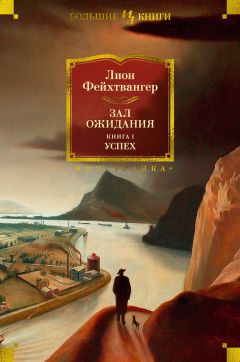
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Комик Бальтазар Гирль между тем в своей уборной снимал с себя грим. Хмурый, сидя на грубой деревянной табуретке, он при помощи вазелина удалил с носа белую клейкую массу, со щек – ядовито-алый румянец. При этом он тихонько ворчал себе под нос, жалуясь, что пиво недостаточно теплое: он страдал желудком и мог пить пиво только подогретым. Его подруга, изображавшая брандмейстера, решительного вида особа, все еще одетая в форму пожарного, старалась успокоить его. С ним было трудно: он всегда был чем-нибудь угнетен. Она уверяла его, что пиво имеет как раз предписанную температуру. Но он маловразумительно ворчал что-то о глупых бабах, которые всегда хотят оставить за собой последнее слово. Ему, конечно, сказали о том, какая изысканная публика собралась сегодня, и он, при всем своем напускном безразличии, зорко следил за производимым впечатлением и бесился, когда мельчайшая частица его остроумия пропадала впустую. Сейчас он ругался по адресу этих баранов, восхищавшихся им. Что ему с того? Неужели они думают, что его забавляют собственные шутки? Черта с два! Он был полон своим родным Мюнхеном. Он тосковал по большой комедии, в которой мог бы отразить себя, свой Мюнхен и весь мир. Но этого они не могли понять, эти болваны, эти идиоты пустоголовые!
Угрюмый, со впалыми щеками и скучающим лицом, высохший, в болтавшихся, как на вешалке, длинных подштанниках, стоял он посреди комнаты, жалкий, прищурясь, глядел на свою подругу, пил и не переставая тихо бранился. Наконец он (несмотря на большой заработок, он был скуп и не позволял себе роскоши взять такси) пошел, ведомый своей подругой, к трамвайной остановке. На площадке вагона он прижался к подруге от страха перед возможностью прикосновения чужих людей.
16. Свадьба в Одельсберге
На этот раз Иоганна поехала в одельсбергскую тюрьму по железной дороге. Поездка была сопряжена со многими неудобствами. Дважды пришлось пересаживаться. Вагоны в этих медленно ползущих, переполненных поездах были изношены и запущены. Инженер Каспар Прекль, так же как и г-н Гессрейтер, предлагал отвезти ее в Одельсберг в автомобиле. Но в глубине души Иоганна, несмотря на неудобства, связанные с поездкой по железной дороге, была рада, что погода помешала поездке в автомобиле. Ей было, пожалуй, даже приятно, что тюремное начальство не допустило Каспара Прекля в качестве свидетеля при венчании. При своем настроении она не испытывала желания быть в обществе этого резкого, одержимого своими идеями и отличавшегося дурными манерами человека. Зато она оказалась предоставленной без всякой защиты назойливости группы репортеров. Не сумев выманить у нее какие-либо замечания, которые они могли бы использовать, они стали досаждать ей тем, что дерзко глазели на нее, громко обменивались замечаниями на ее счет и щелкали своими фотоаппаратами.
Вот наконец и пустынная дорога, ведущая к тюрьме. Плоский, скучный ландшафт, напоминающий ненакрытый стол. Обнаженный, одинокий куб тюрьмы, равномерно продырявленный крохотными оконцами, еще сильнее подчеркивающими высоту стен. Огромные безобразные ворота, караул, помещение, в котором проверяют документы, длинные, пахнущие плесенью коридоры. Вид во двор с шестью замурованными деревьями.
Иоганну провели в кабинет директора. Кроличья физиономия оберрегирунгсрата Фертча была преисполнена важности, усики торопливо шевелились, следуя быстрому движению губ, торчавшие из носу волоски вздрагивали. Все лицо находилось в суетливом движении. Он упорно размышлял над тем, что скрывалось за этим браком, какие хитроумные мотивы таились за первоначальным отказом и всем ломанием, рисовкой и фокусами заключенного номер две тысячи четыреста семьдесят восемь. Но он так и не мог ни до чего додуматься. Где-то в этой истории – это директор Фертч чуял ясно – должна была таиться возможность выудить какую-то пользу для его, Фертча, карьеры. Эта свадьба во всяком случае пахла сенсацией. Он охотно использует ее. Он решил держаться просто, благодушно. Приготовил также несколько острот, которые при случае могли попасть в печать.
– Значит, вот как! – сказал он Иоганне с быстро скользнувшей и обнажившей испорченные зубы улыбкой.
В комнате находились еще полный, все время конфузившийся человек в длиннополом сюртуке и с толстой часовой цепочкой на животе – бургомистр близлежащего торгового местечка, который должен был официально оформить регистрацию брака, – и учитель, приглашенный для занесения записи в книгу. Приехавшие вместе с Иоганной репортеры стояли вдоль стен. Иоганна сердито переводила взгляд с одного на другого, медленно поворачиваясь к ним лицом.
– Могу я до венчания повидаться с Крюгером? – сухо и деловито спросила она.
– К сожалению, это не разрешается, – ответил директор. – Мы и так пошли на всевозможные поблажки. При подобном же случае другому арестованному после венчания было разрешено получасовое свидание, вам же я разрешил свидание в течение часа. Думаю, что вы вполне успеете наговориться!
Иоганна ничего не ответила, и в маленькой комнатке стало совсем тихо. На стенах висели докторский диплом директора, фотография, изображавшая его офицером, и портрет фельдмаршала Гинденбурга. В стороне, держа фуражки в руках, стояло несколько тюремных служащих. После долгих переговоров Крюгеру было разрешено пригласить в качестве свидетеля при венчании арестанта Леонгарда Ренкмайера, его товарища по прогулкам между шести деревьев. Вторым свидетелем должен был быть надзиратель, человек с квадратным, спокойным и не жестоким лицом. Он подошел к Иоганне, представился, дружелюбно протянул ей руку.
– Я думаю, пора начинать, – сказал бургомистр и, несмотря на то что на стене висели часы, поглядел на свои грубые карманные.
– Да, – ответил директор. – Введите… – он сделал паузу, – жениха.
Репортеры осклабились. В комнате сразу стало шумно от разговоров.
– Не робейте! – совсем неожиданно и так, чтобы не слышали остальные, шепнул Иоганне надзиратель, исполнявший обязанности свидетеля.
В комнату ввели Мартина Крюгера и Леонгарда Ренкмайера. Крюгеру для такого случая разрешили снять арестантское платье. При поступлении в одельсбергскую тюрьму он был одет в серый летний костюм. Он и сейчас был в этом костюме. Но он очень похудел и теперь, зимой, в стенах Одельсберга, производил какое-то странное впечатление в этом изящном прошлогоднем сером костюме. Ренкмайер был в серо-коричневом арестантском платье. Выпуклыми светлыми глазами поспешно оглядел он собравшихся, отвесил несколько быстрых поклонов, был чрезвычайно возбужден. Этот человек, любивший поговорить, жаждавший показать себя, сразу почуял сенсацию: инстинкт подсказал ему, что стоявшие вдоль стен господа – журналисты. Это был для него знаменательный день. Каждое движение, каждый взгляд в эти короткие мгновения были драгоценным добром, которым потом в долгие серые месяцы будет питаться этот общительный человек.
– Прошу, господин бургомистр, – произнес директор.
– Да, да, – ответил толстый бургомистр, слегка одергивая длинный черный сюртук. Учитель, смахнув капли пота с верхней губы, обстоятельно раскрыл огромную книгу. Бургомистр осведомился о согласии брачащихся. Мартин Крюгер оглянулся кругом, увидел директора, надзирателей, Леонгарда Ренкмайера, выстроившихся вдоль стен репортеров; внимательно поглядел на Иоганну, заметил, что она очень загорела; затем он произнес: «Да!» Иоганна ясно и четко также ответила: «Да» – и закусила верхнюю губу. Учитель вежливо попросил брачащихся и свидетелей внести свои подписи в большую книгу.
– Пожалуйста, только не вашу девичью фамилию, а фамилию вашего супруга, – сказал он Иоганне. Репортеры при слове «супруг» захихикали. Быстрым почерком без утолщений изобразил свою изящную подпись Леонгард Ренкмайер, наслаждаясь сладостным чувством, что все глядят на него, что газеты будут рассказывать об этом его действии.
Иоганна Крайн-Крюгер, вдыхая спертый воздух, наполнявший тесную комнату, стоя в кругу надзирателей, державших в руках фуражки, рядом с директором и бургомистром, машинально, лишь бы отвлечься, следила за вырисовывавшимися на бумаге линиями подписей – неровными, широкими, тонко выведенными буквами Ренкмайера, сжатыми, неуклюжими, жирными линиями почерка надзирателя. И в то же время она избегала взглянуть на подпись Мартина.
Теперь все обступили новобрачных. Их поздравляли, пожимали им руки. Мартин Крюгер принимал все это спокойно, любезно. Репортеры при всем желании не могли уловить в его поведении ни упрямства, ни проявления отчаяния, ни чего-нибудь еще такого, что могло бы пригодиться для газетной заметки. Зато Леонгард Ренкмайер немедленно попытался завязать с ними разговор. Однако после первых же его слов директор вмешался вежливо и решительно, и праздник Леонгарда Ренкмайера на этом кончился.
Мартина Крюгера и его жену увели в приемную, где Крюгеру разрешено было еще в течение часа побеседовать с женой в присутствии надзирателя. Один из репортеров спросил директора, не будет ли Крюгеру дана возможность осуществить только что заключенный брак. Оберрегирунгсрат Фертч с нетерпением ждал, чтобы Мартин или Иоганна обратились к нему с соответствующей просьбой, и был разочарован, что этого не случилось. Он на этот случай специально придумал несколько остроумных возражений. Теперь, быстро-быстро поднимая и опуская свою кроличью губу, он поспешил выложить любовно подготовленные шуточки хотя бы репортерам.
Разговор Иоганны с Мартином Крюгером тянулся вяло и часто прерывался. Благожелательно настроенный надзиратель старался не слушать, но время уходило, а они не умели использовать его. Они почти не говорили ни о чем личном. Иоганне было стыдно, что она так холодна. Но что могла она сказать этому человеку, сидевшему напротив и глядевшему на нее, словно взрослый на ребенка, с мудрой приветливой улыбкой? Как, собственно говоря, она должна была вести себя с ним?
– Как ты загорела, Иоганна, – дружески, несомненно без всякого укора, скорее даже весело произнес Крюгер. Но ей в ее смущении показалось, что она улавливает какую-то нотку упрека. В конце концов она принялась передавать ему теорию Каспара Прекля о влиянии фильма, подвижного изображения, на живопись и о том, что восприятие подвижного изображения должно в корне изменить восприятие зрителем неподвижной картины. Мартин как-то без связи с предыдущим заметил, что единственное, чего ему действительно недостает, – это возможности увидеть некоторые фильмы. Ему хотелось бы посмотреть зоологические фильмы. Он рассказал ей о своем увлечении «Жизнью животных» Брема. Рассказал о леммингах, этой кургузой, короткохвостой породе полевых мышей с маленькими, скрытыми в шерсти ушами и семенящим бегом. Об их загадочных странствиях, когда они, чудовищными стадами, словно свалившись с неба, появляются в городах северной равнины, и ни реки, ни озера, ни даже море не в состоянии приостановить их дальнейшее вторжение. Эти вызывавшие столько разговоров, возникавшие по неразгаданным причинам роковые странствия, все участники которых погибали под влиянием неблагоприятной погоды или чумы, уничтожались волками, лисицами, хорьками, куницами, собаками или совами, – очень занимали его. По мнению Брема, – добавил он с легкой усмешкой, – несомненно, неправильно считать, что причины этих «переселений народов» заключаются в недостатке пищи и носят экономический характер. Затем он тоном легкого превосходства заговорил о теории Каспара Прекля. Надзиратель, начавший наконец прислушиваться, был поражен тем, что муж в такой обстановке разговаривает с женой о подобных вещах.
Мартин рассказал ей еще о своем намерении написать большую книгу о картине «Иосиф и его братья». Оттолкнувшись от этой картины, он собирался развить свои взгляды на значение, которое в наш век может иметь искусство. Он рассказал ей также о том, что у него недавно явилась одна совершенно новая идея, такая новая и значительная, что она с трудом могла бы сейчас встретить понимание. Все же ему очень хотелось высказать эту мысль, хотелось бросить ее, как бросают в море запечатанную в бутылку записку, чтобы она достигла какого-то человека будущего. Но именно тогда, когда ему пришла эта мысль, он как раз в виде наказания был лишен права писать. У него не было бумаги, и он не мог записать свою мысль. Между тем она была органически связана со своей словесной формулировкой, как улитка со своей раковиной, и умирала, как эта улитка, лишенная раковины. Он чувствовал, как его идея постепенно меркнет. Она была ему ясна, а теперь ее уж нет, и он не скоро снова найдет ее. Он рассказывал ей это приветливо, без гнева и сожаления, рассказывал с такой поверхностной, бесплотной ласковостью, что Иоганне становилось холодно. Надзиратель стоял около них, недоумевая.
Иоганна была рада, когда кончился час свидания и она могла распрощаться. Она удалялась по коридору быстро, все ускоряя шаг, в конце концов чуть не бегом. Очутившись на улице, вновь увидев этот плоский ландшафт, она глубоко, с благодарностью вдохнула холодный воздух и, освобожденная, почти весело зашагала сквозь какую-то смесь дождя и грязного снега по дороге к вокзалу.
17. Священный ларец Каэтана Лехнера
Антиквар Каэтан Лехнер, присяжный заседатель в процессе Крюгера, ехал в голубом трамвайном вагоне из центра города к себе домой, на Унтерангер. Пятидесятипятилетний мужчина – полный, с круглой головой, белокурыми баками, зобастый – досадливо хмурился, громко сморкался в свой пестрый, в синюю шашечку платок, ворчал себе под нос, ругая подлый холодище, пытался движением согреть упрятанные в шерстяные перчатки руки и обутые в резиновые высокие сапоги ноги. На нем было коричневое пальто и долгополый черный сюртук из толстого сукна, уже много лет служивший ему для всех торжественных случаев жизни. Ведь он возвращался домой с очень важного делового свидания, к тому же еще свидания с иностранцем, с голландцем. Он долго колебался, не надеть ли ему цилиндр. Но цилиндр показался ему чересчур торжественным, и он удовлетворился будничной зеленовато-серой шляпой, украшенной сзади, согласно местному обычаю, кисточкой из шерсти дикой козы.
Добравшись до Унтерангера, он увидел, что никого из детей нет дома. Он заменил мокрые резиновые сапоги туфлями и торжественный сюртук – вязаным жилетом. Анни, конечно, путается где-нибудь со своим «чужаком», с господином инженером, этим самым Преклем. А Бени, наверное, торчит на каком-нибудь заседании своего дурацкого заводского комитета. «Собака красная! Собака!» – ворчал Лехнер, пододвигая ближе к печке глубокое, им самим реставрированное кресло. Он был вдовцом, чувствовал потребность излить свою душу. Особенно сегодня, после беседы с голландцем. И вот приходится сидеть в одиночестве. Ясное дело – растишь детей, а вот когда хочется разок поговорить, ни одного из них нет на месте.
Дело с голландцем, священный ларец, «комодик», полмиллиона. Чушь. Конечно. Он не хочет больше об этом думать. Пусть его оставят в покое. Чтоб отделаться от этих глупых мыслей, Лехнер постарался ясно представить себе лица детей. Собственно говоря, Бени быстро опять выбился на дорогу. Вся эта история, конечно, была просто мальчишеством, юношеским заблуждением, как совершенно верно заметил духовный отец. Ведь в конце концов все дело в том, что Бени хотелось учиться играть на рояле. Иначе этот сопляк никогда не стал бы связываться с «Красной семеркой». Он по характеру вовсе не «политик». Его показания были, конечно, правдивы: в списки этого коммунистического кружка он попал потому, что в задней комнате «Гундскугеля», где собиралась эта «Красная семерка», был рояль. О покушении на взрыв, за которое потом чрезвычайный суд приговорил всех членов организации к тюремному заключению, Бени, разумеется, и понятия не имел. Он как будто теперь снова начинает входить в колею, после того как ему, по ходатайству его преосвященства, сократили срок заключения больше чем вдвое. У него даже и служба порядочная есть на «Автомобильных заводах», и лекции он слушает в Высшей технической школе. Сломить его тюрьмой им не удалось. А вот все-таки довели мальчишку до того, что он теперь настоящим большевиком сделался, паршивец такой.
Анни тоже ничего себе зарабатывает. Аккуратненькая она такая, хорошая девочка. То, что она с кавалером гуляет, так это уж так в здешних краях принято, на это сетовать не приходится. Только что кавалер – вот этот самый «чужак» Каспар Прекль, вот это обидно. Просто свинство.
Каэтан Лехнер встал и, шаркая ногами, заходил взад и вперед по комнате. На стенах висели снимки, сделанные им в молодости, – снимки с разных кресел, столов, с ярко освещенной зеркальной галереи, с часовой цепочки, украшенной многочисленными брелоками. Каждая деталь была любовно выделена. Против воли г-н Каэтан Лехнер снова вспомнил о деле. «Голландец, паршивый этакий», – проворчал он себе под нос.
Ибо на сей раз – он знал это – дело шло всерьез. Если он теперь не продаст ларца, то уж никогда не сделает этого. Тогда, значит, Роза, покойница-то, не права была, и он, Каэтан Лехнер, просто тряпка. И правы тогда дети, которые хоть и не смеются, но строят недоверчивые, замкнутые физиономии, если он уверяет, что еще когда-нибудь выбьется в люди. Если он и на этот раз не продаст ларца, то никогда не будет принадлежать ему дом, тот желтоватый дом, на Барерштрассе, давно желанный дом.
В общем, если он даже и не продаст «комодика», дела идут не так уж плохо. Он подмазывает гостиничных портье, и богатые приезжие, которых они посылают, потом не жалеют о дальнем пути до Унтерангера. Теперь, во время инфляции, в город нахлынула масса иностранцев. А он, Каэтан Лехнер, – хитрец: он запрашивает с них неслыханные цены. Но судьба, Каэтан Лехнер, еще хитрее, и хоть ты за одни сутки повышаешь цены втрое, полученные тобой деньги за этот же срок успевают обесцениться в четыре раза.
Каэтан Лехнер фыркнул носом, высморкался, приложил руки к печке, подкинул дров, хотя ему и без того было жарко. Да, иностранцы платят хорошо, но он любит свои вещи и неохотно расстается с ними. Сколько труда, утомительной беготни, пота стоили ему они! Он рыщет за ними по ярмаркам, по специальным базарам старых вещей. Заглядывает в квартиры городских мещан и окрестных крестьян. У него есть некоторые вещи – мебель, кресла, столы, стулья, горки, комоды, – он просто сросся с ними. Некоторые из них, казавшиеся безнадежно поломанными, он чинил, любовно и тщательно, как хороший хирург – безнадежного пациента, на которого уже почти что махнули рукой. А тут вот приходят эти идиотские иностранцы и соблазняют все возрастающими ценами. Итак, теперь за ночь, за какие-нибудь двенадцать часов он должен решить – расстаться ли со своей любимой вещью, с «комодиком», который он не согласился уступить даже художнику Ленбаху.
Каэтан Лехнер тяжело дышит в слишком сильно натопленной комнате. Сердце его не очень надежно: это большое, жирное сердце, расширенное от поглощаемого пива, ослабленное неприятностями, причиняемыми детьми и попытками все-таки выбиться в люди. Да и зоб – тоже не большое удовольствие. Каэтан Лехнер сидит, перегнувшись вперед, сопя, положив руки на колени, и вдруг резким движением хватает коричневое пальто, накидывает его на плечи и быстрым, неловким шагом направляется из теплой комнаты в холодную лавку.
Вот он стоит, ларец. Это хороший ларец, действительно красивая вещь, подобной которой не найти. И был он – но этого антиквар Лехнер не знал – сделан когда-то в Сицилии норманскими мастерами под сарацинским влиянием. Затем он был куплен германским королем Карлом IV, Карлом Люксембург-Богемским, для реликвий какого-то святого, потому что этот король очень любил реликвии. Затем «комодик» стоял в церкви в Богемии. В нем хранились какие-то обломки костей и железные щипцы. Эти кости, по уверению продавца, в то время, когда на них еще было мясо, принадлежали какому-то поименованному в календаре святому, которому язычники переломали их за то, что он соблюдал свою веру, а железными щипцами они выдирали у него из тела клочья мяса. В день этого святого его останки показывали народу. Их почитали, к ним прикладывались, они творили чудеса. Когда началось восстание гуситов, священнослужители с ларцом бежали на запад. Щипцы затерялись, кости рассыпались и рассеялись по ветру. Священный ларец прошел через много рук. Это был искусно сделанный ларец, не бросавшийся в глаза. Благородная работа – львиные лапы из бронзы, врезанные в дерево, отливавший матовым блеском металл. В семнадцатом веке этот ларец приобрел, не зная, для чего он служил когда-то, в числе многих других предметов неизвестного происхождения, еврей по имени Мендель Гирш. Когда ларец был опознан как предмет церковной утвари, еврея посадили в тюрьму, подвергли пыткам, сожгли за осквернение христианских святынь. За обладание его наследством боролись церковные власти и курфюрст. В конце концов пришли к добровольному соглашению, что ларец остается за светской властью. Курфюрст Карл Теодор подарил его одной из своих любовниц, танцовщице Грациэлле, хранившей в нем свои драгоценности. Когда она впала в немилость и обеднела, ларец приобрел придворный кондитер Плайхенэдер. Его наследники продали ларец. Вместе со всяким хламом он попал к старьевщикам на мюнхенскую ярмарку старых вещей, где его двадцать два года назад высмотрел и купил антиквар Каэтан Лехнер.
И вот ларец стоял теперь в антикварной лавке Каэтана Лехнера на Унтерангере. Кругом была нагромождена старая мебель, канделябры, изображения мадонны, деревенские украшения, оленьи рога, огромные рамы от картин, старинные, покрытые красками холсты, гигантские ботфорты. Но Каэтан Лехнер не видел этих вещей. Его водянисто-голубые глаза беспомощно, страдальчески, влюбленно, и все же уже готовые к предательству, глядели на ларец. Тут ничего не поделаешь: проклятый голландец не отставал, хоть сдохни, не отставал! Каэтан Лехнер запросил такую бессовестную цену, что самому страшно стало. Полмиллиона марок. Но ничего не помогло: голландец все же согласился. Возможно, что голландец подсчитал, что полмиллиона марок, при переводе на голландскую валюту, составит ведь всего пять тысяч гульденов. А Каэтан Лехнер, когда он услышал утвердительный ответ голландца, онемел. Вытирая со лба пот, он промычал непонятные слова на баварском диалекте, пока наконец выведенный из терпения голландец не заявил ему недвусмысленно: либо г-н Лехнер завтра не позже десяти часов доставит ему в гостиницу ларец, либо сделка не состоится.
Ночная тишина и холод царили в лавке антиквара. Каэтан Лехнер не замечал этого. Он зажег все электрические лампочки, так чтобы ларец был хорошо освещен, тщательно вытер красные потрескавшиеся руки, нежно погладил ларец. Полмиллиона – большие деньги. Но и ларец – хорошая штука. Собственно говоря, ведь в тесной связи с этим ларцом строилась вся жизнь Каэтана Лехнера. Он вспомнил о том, как собирался когда-то свою жизнь строить на искусстве, на своих занятиях фотографией. Его честолюбие не удовлетворялось фотографированием чего-то крупного – мебели, человеческих лиц. Нет, интересно было именно запечатлеть мелочи – пивную кружку, коллекцию жуков, «хлам с душой», как назвал это однажды художник Ленбах, – вот в этом таилась его сокровенная мечта. С такими вещами он возился и не находил себе покоя, пока не добивался того, чтобы все мельчайшие, действовавшие на настроение особенности предмета выступили в настоящем свете и запечатлелись в памяти зрителя. И в том, что не на этом искусстве построил он свою жизнь, в том, что он отказался от него, был виновен ларец.
Он разыскал его примерно через полгода после первой встречи с Розой Гюбер. Роза была молчаливая, набожная девушка, католичка с непоколебимо твердыми взглядами на жизнь. Настоящая, хорошая женщина. Каждое произнесенное ею слово попадало в точку. Вместе с нею основать свой домашний очаг – вот цель, которую с первого дня поставил себе Каэтан Лехнер. Сопротивление Розы, решившей выйти замуж лишь за человека с твердым положением, только разжигало его мужицко-баварское упорство. Она гуляла с ним, без сомнения любила его. С мягкой грустью вспомнил он чудесные утренние часы в «Китайской башне», своеобразном ресторанчике в Английском саду. Как он там кружил в танце свою Розу в толпе всякого непритязательного мелкого люда – служанок, кучеров, портных, сторожей, почтальонов, которые ранним утром, до того как отправиться к обедне, плясали здесь среди зелени под звуки духового оркестра. Роза охотно делила с ним подобные развлечения, но замуж выйти не соглашалась. Так обстояли дела к тому времени, когда Лехнер случайно на одной из ярмарок среди всякого ненужного хлама увидел ларец. Сердце у Лехнера тогда еще было здоровое и крепкое, и все же нелегко было ему скрыть от продававшей ларец старьевщицы охвативший его восторг. Но вот, когда «комодик» оказался у него в комнате, стал его собственностью, когда пришел еврей-антиквар и предложил ему за него восемьсот марок, тогда только у Розы раскрылись глаза на то, что он, Каэтан Лехнер, собой представляет. Она пошла за него, вложила все свои сбережения в его лавку на Унтерангере.
Часто с тех пор являлся у Лехнера соблазн продать ларец, но он противился, считая, что эта вещь приносит ему счастье. Менялись стоявшие вокруг него статуи мадонны, чепцы, сундуки, кресла, доспехи и мундиры, но прекрасный, на радость знатокам, красовался в лавке старинный ларец. Роза наконец умерла. Пожалуй, – нередко думал он теперь, – хорошо, что она умерла и ей не пришлось пережить этих последних лет – гнусную жратву и еще более гнусное пиво военного времени, дурацкую связь Анни с «чужаком» и особенно историю с мальчуганом.
Это было величайшее свинство. Когда Лехнер вспоминал о травле, которой тогда подвергли мальчишку, перед его глазами тускнела металлическая отделка ларца, словно грязью покрывалось благородное его дерево. Каэтан Лехнер был консерватором, стоял за покой и порядок, но ему все же было ясно, как суп с клецками, что обвинение против «семерки» выдвинули только потому, что правительству нужен был материал, подтверждавший необходимость сохранения «гражданской обороны». Ради этого нужно было превратить его Бени в каторжника. Каэтан не был чрезмерно горячим католиком и при жизни жены только ради нее и ходил в церковь. «Эй, старушка, не дури!» – извлекал он из своего зобастого горла припев добродушной народной песенки, когда Роза чересчур далеко заходила со своей набожностью, и при этом он весело подталкивал жену в зад. После приговора, вынесенного сыну, несмотря на то что освободить его из тюрьмы помог духовный отец, религиозные чувства его окончательно увяли. Нет, на бога полагаться нельзя было, а духовный отец не умел посоветовать ему, как вести дела: продать ли «комодик» или нет. Полмиллиона – большие деньги. Если ему не повезло с детьми, то хоть желтоватый дом господь бог должен ему подарить. От этого дома он не может отказаться, он должен его получить. Ведь выбиться в люди нужно. Если это и теперь не удастся, ну, это уж будет безобразие. Старик чуть ли не с угрозой поднял взор к огромному деревенскому распятию, висевшему рядом с ларцом. Он, Лехнер, должен стать домовладельцем. Владельцем именно того желанного желтоватого дома на Барерштрассе. Пернрейтер, нынешний владелец, – бесстыжий скряга, но перед цифрой в полмиллиона он не устоит. До того как отправиться к голландцу, Лехнер сегодня еще раз ходил полюбоваться домом. Постоял около него, простукал стены, ощупал старинную бронзовую надпись на воротах. Поднялся до лесенке, поглаживая перила, просмотрел дощечки с фамилиями жильцов – четыре фарфоровые, две эмалированные, две медные – внимательно, как осматривал когда-то предметы, которые собирался фотографировать.
Старик, стоявший среди ночи перед ларцом в туфлях и коричневом пальто, ощутил острый холод лавки. Тем не менее он все еще не решался потушить свет. Так он стоял, почесывая рыжеватые бакенбарды, и его голубые глаза, которые он никак не мог отвести от ларца, сердито поблескивали. Да, завтра вечером он вот так же будет стоять здесь, в своей лавке на Унтерангере, но «комодика» здесь уже не будет. Неприятная мысль. Домов на свете много. Пятьдесят две тысячи домов было в одном Мюнхене. А «комодик» был только один. Второго такого нет. «Голландец паршивый, черт собачий!» – выругался он, тяжело вздыхая, и направился в теплую комнату.
И вот он снова сидел в глубоком кресле, еще и еще раз взвешивал все доводы за и против продажи. Мало радости, если он сейчас продаст «комодик». Но если он его не продаст, то также радости мало. Он подумал: «Да, да, решение тяжелое, и времени немного». Утром рано он должен пойти к голландцу – или отказаться от мечты о желтоватом доме. Он подумал также, что утро вечера мудренее, что второго такого случая не представится и о том, что он уже не юноша. А также о том, что тот не достоин талера, кто не уважает пфеннига. Мысленно он уже видел себя в черном сюртуке, представляющимся жильцам своего дома в качестве его нового владельца. Затем – как он сообщает о покупке дома своим приятелям по «Клубу любителей игры в кегли». Они станут насмехаться над ним, но сами будут злиться, а он пустит им пыль в глаза, и они будут лопаться от зависти.
Антиквар Каэтан Лехнер поднялся с кресла, кряхтя, оделся. Вот какую радость имеешь от детей: человеку, когда у него есть желание поговорить, приходится зимой, на ночь глядя, идти из дому. Он отправился в свой «Клуб любителей игры в кегли» с твердым намерением умолчать перед приятелями о своих планах относительно «комодика» и покупки дома. Если он скажет им, они будут дразнить его.
Затем он все же сказал, и его дразнили.
В этот вечер он выпил довольно много и на обратном пути ругательски ругал своего сына Бени, паршивца этакого, красную собаку. Войдя в переднюю своей квартиры, он услышал ровное дыхание спящего Бени. Не зажигая света, он, хотя и сильно был под хмельком, стащил с себя высокие резиновые сапоги, чтобы не разбудить парня, и осторожно пробрался к себе в кровать. Из своего зобастого горла, как можно тише, он извлекал, уже засыпая, звуки старинной полузабытой песни: «Эй, старушка, не дури!»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?