Читать книгу "Иностранная литература №07/2011"
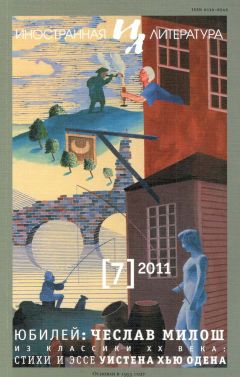
Автор книги: Литературно-художественный журнал
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
А значит, пора было делать знак соседу. Но, погрузившись в жизнь Сократа, чтобы свыкнуться с ролью, которую мне предстояло играть, я в последний момент обнаружил одну деталь, на которую зачастую не обращают внимания: Сократ не просто ходил, он ходил босиком. Соответственно, и я должен был вернуться в мир в таком же виде, пусть я заплачу за это своим здоровьем.
Я торжественно разулся: не для того чтобы покинуть мир, но чтобы в него вернуться, чтобы вернуться босым и преображенным, вернуться в мир с босыми ногами. Этот шаг был в чистом виде философским поступком, в нем не было ничего вздорного и случайного, никакой дани new agevum хиппи.
Итак, я взял свою последнюю пару мокасин от Джона Лобба и широким жестом, венчающим всю мою жизнь (и определяющим судьбу эпохи), отправил ее в окно. Так получилось, что случайно один из мокасин приземлился на крышу напротив, в то время как другой исчез в недрах стиснутого домами дворика. После этого я послал условный сигнал моему соседу, чтобы тот отпер дверь.
Ответа не последовало.
Постучал снова. Нет ответа.
Эмпедокл, из Диогена Лаэртского, op. cit. Вполне вероятно, что он не сдержал слова и съехал, не поставив меня в известность (но продолжая, тем не менее, получать денежный перевод, который я распорядился ежемесячно отправлять на его счет). Целую неделю я продолжал посылать ему сигналы (три удара в стену с интервалами в три секунды, повторить трижды). Безрезультатно.
Надо мне было поручить это продавцу ксероксов, который живет несколькими этажами выше: он как будто понадежней, и потом, имея жену и двоих детей не так-то просто исчезнуть (а дочка у него странная, сдается мне, ее тоже посещает философский гений).
Итак, я окончательно замурован в своей квартире, хотя мне во что бы то ни стало надо вернуться в мир. Телефон я срезал у себя уже давно, так что и слесаря теперь не вызовешь.
Нечего и говорить, что положение мое представляется мне несправедливым, затруднительным и одновременно смешным. В какой-то момент я потерял самообладание, тем более что мои продовольственные запасы подошли к концу. Но потом я понял смысл происходящего. Вернее, я понял необходимость возникшей ситуации. Все предельно ясно. Я имел глупость полагать, что смогу выйти из моей пещеры так же, как проник в нее, точнее, тем же способом. Абсолютная чепуха. Совершенно очевидно, что для выхода надо искать другие пути.
Какой же иной путь, как не через окно?
Итак, я решился, несмотря на мои угасающие силы, покинуть квартиру через окно и отправиться в новое странствие. Учитывая высоту здания и состояние моего здоровья, шансов выйти из этого приключения живым у меня немного, но мне не хочется думать, что уготованная мне судьба сведется к такому нелепому итогу. Все же я решил написать это первое и последнее объяснение, дабы мои современники, если я уже никогда не предстану перед ними, хотя бы знали, что произошло. Так или иначе, я все равно уже исчез для них, и, даже если теперь вновь появлюсь, я уже буду не тем, кого все знали. А значит, я исчезну в любом случае.
Помимо этих страниц, которые я оставляю человечеству, сохранится еще один след моего пребывания на земле. Известно, что философ Эмпедокл, которого современники почитали как бога, сгинул в Этне во время извержения. Бездна, в которую он провалился, кажется мне вполне равноценной той, что открывается из моего окна. По преданию, вулкан выплюнул золотую сандалию этого богоподобного философа. Что касается меня, то сейчас, когда я пишу эти строки, прямо перед собой на крыше соседнего дома я вижу собственный башмак, будто заранее выплюнутый расщелиной двора, над которой я склонюсь через минуту. Так какие же могут быть сомнения?
Кладу ручку и открываю окно. В путь!
10. ЭпилогПрыжок ангела
(Что произошло на самом деле)
Долго ли я буду лететь отсюда до земли? Секунду? Две? Вот именно: не успею даже испугаться. Мне страшно только сейчас. Ну и что с того? Хорошо еще, что ночь. Не знаю почему, но почему-то от этого легче. Все кругом спят.
Ну, может, не совсем все. Вон, в том окне маленькая девочка в пижаме смотрит на меня. Что она там делает, почему не спит в такой час? Стоит у окна, лбом к стеклу прижалась, на меня смотрит. А все спят. Я ей улыбнулся. Это хорошо, что она будет моим единственным свидетелем. Она потом решит, что ей все приснилось. Какая ж ты хорошенькая в этой своей пижаме. Ты отмечена благодатью, это сразу видно.
Ну ладно, надо все же это сделать. Не стоять же здесь всю ночь. Я ж не для того сюда пришел, чтобы ночных птиц изображать. Ты давай-ка, детка, иди спать ложись. Не беспокойся ни о чем. А мне надо сделать то, что надо, но имей в виду: я это делаю не только для себя. Это в некотором роде всех вас касается. Я не просто так на краю крыши тут стою.
Ой, Господи, все же как-то немного страшно. Вон там, далеко, внизу, железнодорожные пути тянутся. Высоковато однако. Надо было напиться что ли вусмерть, я бы тогда не понимал, что творю. Когда духу не хватает, это помогает. О чем хоть полагается думать в такие моменты? Надо, наверно, представлять себе, что вот сейчас полетишь? И что в последний момент могучая рука подхватит тебя чудесным образом и вернет туда, где ты был? Нет, надо быть крепко пьяным. Накуриться не знаю чего. Бывают, правда, и такие, что думают, когда в окно прыгают, будто они птицы. Смешно: мало того, что ты все равно разобьешься, так еще и обманываешь себя. А если там наверху есть какой-то Бог (я вот думаю, как ему удается в воздухе парить?), то он, наверное, поймает тебя с иронической усмешкой в уголке рта: “Ну что? Мы в бабочек решили поиграть? Или вообразили себя розовым фламинго? А может, крылышки дома забыли?” Забавно было бы. Но я, так или иначе, столько всего несу на своем горбу, что практически никакого шанса преодолеть закон притяжения.
Интересно, на что я буду похож, когда окажусь внизу? Как будут лежать мои руки, ноги (о голове лучше не думать)? И на что я упаду, вот тоже вопрос.
Ну же, смелей. Всех дел-то на минуту, как говорят зубные врачи. Вот я есть – оп! – и меня нет. До двух досчитать не успею.
Может, мне надо было записку оставить?
Да нет, что бы я в ней написал? Только хуже. Написать, что я не хочу больше жить? Смешно: людей, которым жить надоело, тьма тьмущая, но не все же бросаются из-за этого с крыши. И потом, если рассуждать здраво: это ведь не причина, как ни крути. Несчастных на свете полно. А я, кстати, разве так уж несчастен? В жизни не бывает, чтобы все шло идеально, всегда что-нибудь да не так – вот, например, когда ты все время один. Но не делать же из этого трагедию.
Хотя нет. Да, именно так я и решил: из этого надо сделать трагедию. И поэтому я здесь. Может, из этого получится не трагедия, а трагикомедия, но я ее разыграю, совершив прыжок ангела. Действительно, в этом есть что-то комическое: сигать с крыши. А может, доля юмора или иронии. Но не такая, чтобы хохотать, разинув пасть, а только чтобы улыбнуться – комический элемент. Разумеется, здесь и сейчас мне не так легко этот комический элемент найти, но, судя по всему, я недалек от истины. Взять хотя бы следующее: долго и упорно карабкаться наверх, чтобы в мгновение ока упасть вниз — ведь это комично. Хотя существуют на свете чудаки, для которых это профессия, – лыжники, к примеру. Мне лично это кажется весьма комичным. Но, возможно, все идет откуда-то изнутри, из глубинного порыва смирения, который борется с соблазном hybris[6]6
Дерзость, гордыня (древнегрен.).
[Закрыть], стремлением подняться как можно выше. Не знаю. С другой стороны, если ты уже на вершине, какой смысл спускаться?
Нет, я не для того сюда забрался, чтобы разговоры разговаривать. Я пришел за другим.
Я пришел оплакать этот мир.
Через несколько часов рассвет, мир возродится к жизни, и я буду плакать над ним. Я хочу омыть этот мир слезами моего сострадания и подарить тем, кто проснется утром в ледяном одиночестве, немного моей нежности. Я хочу принести себя им в жертву. Они действительно в этом нуждаются. Нынче ночью я плачу по всем вам, прячущимися в потайные закоулки своего одиночества. Огни рампы погасли, театр этого мира закрыл свои двери, вы разошлись по домам, но я не сплю и плачу о вас. Я хочу, чтобы мои слезы смягчили ваши черты, которые за маской безмятежности сна скрывают отчаяние и печаль.
Разумеется, я плачу и над собой. Это мне хорошо удается, я уже довольно давно этим занимаюсь. Мой последний друг, перед тем как я совсем лишился друзей, так и сказал мне: “Единственное, что ты умеешь, это оплакивать свою участь”. (Кажется, это была последняя его фраза.) Только теперь я оплакиваю участь всего мира – потому что я избран для этого. Странное предназначение, согласен, и я сам себе могу его объяснить не иначе как фразой, которую не помню уже, где вычитал: “Человек должен принести себя в жертву поколению”. Что тут скажешь? Разумеется, этот человек я (кто ж еще?). Впрочем, я не очень хорошо понимаю, почему он обязательно должен приносить себя в жертву и зачем поколению нужна эта жертва?
В некотором смысле мне уготована участь исключительная, хотя и недолгая. В этом можно легко убедиться, если проследить мой образ жизни в последнее время: я взвалил на свои плечи все одиночество мира, абсолютно все. Как будто его по всем закоулкам земного шара насобирали по крохе и водрузили мне на спину. С таким грузом за плечами я не то что взлететь, я выпрямиться-то не могу. Но я не грехи мира на себя взял – это, насколько я помню, уже сделано. Я взял на себя его одиночество – если только одиночество не есть его грех. И вот что я пытаюсь понять: какую же Благую Весть я принесу взамен одиночества? Ведь должна же быть какая-то Благая Весть? Ума не приложу.
Вернее, не мог приложить до нынешней ночи, когда все вдруг стало предельно ясно. Дело в том, что я наконец-то понял, в чем состоит мое истинное предназначение. Понял как-то не сразу, а постепенно, и в один прекрасный момент это стало очевидно: ведь если я родился на свет, так значит все это не случайно, учитывая систематический характер того, что со мной происходило. А происходило то, что мой мир как-то постепенно и практически без моего участия стал вдруг пустеть. Можно было поверить в злой рок, во всесильный закон подлости. Известное дело, пришла беда – и так далее… Сначала вы теряете работу, затем от вас уходит жена, потом у вас находят рак, угоняют купленную в кредит машину и в конце концов по дороге в супермаркет, куда вы идете с жалкими остатками финансов, дети начинают ставить вам подножки. Я не говорю, что это более завидная судьба, чем моя, но, может быть, поколению требуется не одна, а несколько жертв для разных целей.
Совсем другое дело, когда одиночество, как ржавчина, разъедает окружающий вас мир, непрерывно и необратимо. Знаете, что это такое? Какая-то обезлюдевающая гангрена (кажется, я сказал это вслух!). У вас было столько друзей, вокруг крутилось столько знакомых. Мир был радушен и дружелюбен, но право на его гостеприимство нужно было подкреплять адресами, телефонами и ресторанными счетами на несколько человек. И вдруг он становится жестоким, то есть таким, какой он есть на самом деле, – едва только ресторанные счета оплачиваются реже или количество приглашенных уменьшается. Вот тут мир и показывает свое истинное лицо, и вы вспоминаете текст Священного писания: “И лицо этого поколения будет собачье”[7]7
“Когда придет сын Давида, лицо поколения будет подобно собачьей морде” (Сота 496 и Санхедрин 97а). Пророчество о днях прихода Машиаха (мессии) в Талмуде.
[Закрыть].
Вы меня покинули, вы отвернули от меня свое лицо (сказал я вслух) – но, возможно, вы просто не могли иначе, потому что это лицо есть лицо поколения. И все же как тяжело, Господи, как тяжело. Кем надо быть, чтобы вынести такую тяжесть? Нет тяжести большей, чем тяжесть отсутствия. Но почему я? Почему именно я должен нести на себе за весь мир бремя одиночества? Ведь я тоже хотел жить и имел на это не меньше прав, чем вы. Что я такого сделал, что все отвернули от меня взгляд свой, что друзья мои исчезли один за другим? Или они во мне разочаровались? Устали от меня? Невелико же у них терпение. Отчего вы меня покинули? У вас было много других дел? Я-то вас любил. Если б вы знали, как я вас любил. Неужели я носил на лбу клеймо жертвы? Я вовсе не чувствовал в себе призвания к отшельничеству. Вы бросили меня – вам что, стало от этого легче?
И вот теперь, именно теперь, говорю я себе, взбираясь на крышу, произойдет главное. Я унесу с собой в бездну бремя вашего одиночества, я похороню его вместе с собой. Не беспокойтесь, обратно мне уже не подняться. Я страдаю за вас за всех, я взял на себя бремя ваших страданий. Я потерял всех своих друзей, и никто обо мне не беспокоится. Я и есть лицо этого поколения.
Мне надо было дозреть до того, чтобы подняться на крышу. Поначалу я дни напролет смотрел в окно. Я видел вас: детей, одиноких старушек, потерявших надежду молодых женщин, психопатов, покинутых любовников, мономанов, ипохондриков, обманутых друзей, актеров-неудачников и даже кошку с собакой, которые тоже одиноки и неприкаянны в этом мире. Я видел вас, я смотрел на вас с огромным сочувствием. Вы могли бы стать моими друзьями. Я оплакивал вас и себя вместе с вами. (Тут я расставил в стороны руки, потому что мне показалось, что на крыше это уместно.) Я не сразу полез на крышу, я ждал, пока все одиночество мира не ляжет мне на плечи. И вот я здесь. Я говорю это во весь голос: и вот я здесь!
И я клянусь, по-настоящему клянусь: я готов был принести себя в жертву.
Но в самый последний момент меня вдруг охватило сомнение. А вдруг никто эту жертву не заметит? Не то чтобы мое жертвоприношение так уж нуждалось в рекламе, дело скорее в его эффективности. Я готов разбиться об асфальт – но что, если вдруг, вопреки моим ожиданиям, одиночество от этого не исчезнет? Нет, это не трусость, честное слово, я просто хочу принести пользу. Поскольку мой поступок не знает аналогов в истории, я понял, что мне нужно придумать знак, знак моего жертвоприношения. Нужно оставить какой-то символ. Крест уже занят (кстати, его воздействие, как известно, оказалось слабее, чем рассчитывали), поэтому пришлось придумать что-то другое. Согласен, на оригинальное решение меня не хватило, но, если кто считает, что мой символ смешон, пусть сам влезет на крышу и посмотрит, сможет ли он придумать что-нибудь получше. Идея пришла мне в голову, когда я стоял на краю и смотрел на свои ботинки, нависшие над бездной: я вдруг воспринял их метафизически. А потом я подумал, что в конечном счете принесение в жертву моей персоны, может быть, не так уж и нужно. Я спросил себя: чего ты на самом деле хочешь? Чтобы благодаря твоей жертве они избавились от своего одиночества, или чтобы они перестали обращать на него внимание, отвлеклись?
Кроме того, надо идти в ногу со временем. В конце концов, сейчас не эпоха Христа. Сейчас скорее эпоха рациональной экономии: малые затраты – большая прибыль. Пожертвовать человеческой жизнью, пусть даже моей, которая ничего, в общем-то, не стоит, не бессмысленная ли это трата? Может быть, можно пожертвовать чем-нибудь более незначительным и добиться при этом той же пользы – но с большей эффективностью? Ты хочешь отвлечь их от одиночества или, по крайней мере, дать им возможность осознать его? Ведь люди, если подумать, так поверхностны, достаточно какого-нибудь пустяка, чтобы изменить их настроение: надо просто отвлечь их внимание от страдания и переключить на что-нибудь другое. Надо просто показать им предмет, и они перенесут на него все свои несчастья и все смешное, что есть в мире. А чем, скажите, башмак не смешон? В нашу эпоху (сказал я в полный голос), вместо того чтобы жертвовать жизнью, можно запросто пожертвовать башмаком, а? Пойду-ка я домой.
Расшнуровал я ботинок и пристроил его на край водосточной трубы, чтобы он остался там как знак того, что нынче ночью кто-то бодрствовал подле них, оберегая их сон, и так было не только сегодня, а всегда, каждый день. Чтобы они, проснувшись утром и обнаружив на крыше башмак, могли придумать разные истории и забыть о своем одиночестве. Чтобы они могли убедить себя этими историями – хотя бы на время, – что они не так уж одиноки, ведь в этих историях они смогли рассказать о себе.
Я уже собирался вернуться домой, как вдруг распахнулось чье-то окно, и зычный голос заорал:
– Когда-нибудь кончится этот бардак на крыше?
Я никак не ожидал услышать чей-то голос, мне казалось, что все крепко спят. По правде говоря, я и не подозревал, что говорю так громко. От неожиданности я поскользнулся и, как полный дурак, полетел с крыши. Вот самая нелепая история, которую рассказал бы я сам, если бы остался жив[8]8
Какой бы невероятной ни была эта история, если она дает правдивое объяснение, то хочется спросить: как так получилось, что тела на асфальте не нашли? (N. d. А.)
[Закрыть].
Александар Хемон
Проект “Лазарь”
Роман
Перевод с английского Юлии Степаненко
Окончание. Начало в “ИЛ”, 2011, № 6.
Спустившись с последней ступеньки трамвая, Ольга по щиколотку увязла в жидкой грязи и потеряла второй каблук. Толпа напирает сзади, пихает ее руками и локтями; разве его теперь найдешь?! “Еще одна потеря, – думает Ольга. – Не первая и не последняя, и с каждым разом все равнодушнее к этому относишься”. Ботинки покрылись коростой из грязи и всякой гадости и насквозь отсырели, Ольга не помнит, когда у нее в последний раз были сухие ноги. Сколько пятнадцатичасовых смен ей пришлось отработать, чтобы накопить на ботинки, и, вот тебе, пожалуйста, они уже разваливаются: швы разошлись и крючки отрываются. Она могла бы выскочить из ботинок и оставить их прямо тут, в грязи, а потом, глядишь, сбросить одежду и заодно избавиться от всего остального: от мыслей, от жизни, от боли. Вот тогда бы наступила полная свобода: терять больше нечего, все, что тебя держало на этой земле, исчезло, и ты готова к встрече с мессией или смертью. У всего есть начало, у всего есть конец.
“Конец света, может, и не за горами, – сказал ей как-то Исидор, – но стоит ли его торопить?! Не лучше ли не спеша двигаться ему навстречу, попутно наслаждаясь жизнью?” Но ей не до прогулок; еле держась на ногах от усталости и боли, она бредет в разваливающихся ботинках по Двенадцатой, затем сворачивает на Максвелл-стрит. Потеплело; выглянуло солнце, от старьевщиков поднимается пар, выглядит это так, будто отлетают их души. Под ногами у них греются на солнце облезлые собаки. Кажется, что народу на улицах прибавилось и свободного места стало меньше. Откуда взялись все эти люди? Город уменьшился; тротуары забиты прохожими, они с трудом протискиваются между тележками и колясками, бродят туда-сюда, им, похоже, некуда спешить. От мужских пальто пахнет зимней затхлостью; за долгую зиму люди отвыкли от солнца и потому надвигают шляпы по самые глаза, защищаясь от яркого света. Женщины стягивают перчатки и щупают тряпье; обмороженные зимой щеки горят; они отчаянно торгуются со старьевщиками. Все эти люди – чьи-то братья, сестры, родители; все продержались зиму; все постигли науку выживания. Лошадь ржет; уличные торговцы пронзительно кричат, их голоса разносятся над толпой, накрывая ее невидимой сетью, призывая купить по дешевке всякое барахло: носки, тряпье, шапки, жизнь. Коротко стриженная девушка раздает листовки, хрипло выкрикивая: “Ни царя, ни короля, ни президента; нам нужна только свобода!” В чащобе ног то тут, то там промелькнет ребенок. При входе в магазин Якова Шапиро выстроилась беспорядочная нетерпеливая очередь. Слепец, повернувшись лицом к очереди, затянул печальную песню; у него мутно-белесые глаза, рука лежит на плече мальчика-поводыря, держащего шапку для подаяния. Все, словно пейзаж в солнечных лучах, утопает в звуках этой невыносимо грустной песни. Из каких-то грязных палаток просачивается зловонный запах тухлой рыбы. Рядом с магазином Мендака мальчишка продает “Еврейское слово”, выкрикивая заголовки то на английском, то на идише. Когда Ольга проходит мимо него, он вдруг начинает орать: “Лазарь Авербах – выродок-убийца, а вовсе не еврей!” Он что, ее узнал? Ее фотографию тоже напечатали в газете? Он кричит ей вслед? Она оборачивается, чтобы получше рассмотреть мальчишку: под шапкой, которая ему велика, сопливый курносый нос и уродливый подбородок; словно не замечая ее испепеляющего взгляда, он продолжает кричать: “Евреи должны объединиться с христианами для борьбы с анархизмом!” Ольгу так и подмывает влепить ему затрещину, чтобы запылали огнем его бледные щеки, схватить его за ухо и выкручивать, пока мальчишка не взмолится о пощаде.
Двое полицейских в темной форме шагают по улице, отбрасывая перед собой длинные тени; прохожие расступаются; девушка с листовками моментально растворяется в толпе. Один из полицейских помахивает дубинкой, рука у него громадная, пальцы узловатые; на поясе кобура с пистолетом. Посреди квадратной физиономии – сплющенный в драке нос; на людей на улице он не глядит, словно их не существует, с тем же успехом он мог бы шествовать между надгробными памятниками. Его напарник – молодой, с чересчур уж бравыми усами и чересчур блестящими пуговицами на мундире. Этот тоже наслаждается властью: заткнув большой палец за пояс, свысока посматривает на толпу, ни на ком не задерживая взгляда. Ольга ясно представляет себе картину: молодой полицьянт падает навзничь, а она, наступив ногой на грудь, размахнувшись, дубинкой расшибает ему нос; струйки крови текут у него по щекам, застревают в усах. Второго полицьянта она будет дубасить по большим мясистым бычьим ушам, пока они не превратятся в кровавое месиво. Полицейские проходят мимо Ольги; оба такие высокие, что их нагрудные бляхи блеснули на уровне ее глаз. Она будет бить их, пока они не перестанут дергаться, и тогда выдавит им глаза. “Душевнобольная забила полицейских до смерти!” – вот что будет орать мальчишка-газетчик. И уж в следующий раз он наверняка сразу ее узнает.
Она проталкивается сквозь толпу к просвету, где поменьше людей, где они не будут ежесекундно об нее тереться; прохожие с готовностью уступают ей дорогу – даже не нужно к ним прикасаться, – словно чувствуют исходящие от нее волны яростного гнева. Ей хочется взвыть от ненависти к ним с их услужливостью, но зачем? – на улице стоит такой гам, что никто ее не услышит; уличный шум, как воздух, вездесущ и необходим.
Дорогая мамочка, ты, наверное, сочтешь меня жестокой и ненормальной, но я не могу больше держать все это в себе. Лазаря, как невинного агнца, отправили на заклание безо всяких причин и к тому же выставляют убийцей. Лазарь – убийца?! Злу нет конца, оно настигло нас даже здесь.
Неожиданно проход в толпе закрылся. Путь Ольги преградила маленькая женщина в грязном белом платье и шляпе, похожей на шляпку гриба. Глаза у нее горят лихорадочным блеском, рот полуоткрыт; Ольга гадает почему: то ли женщина силится улыбнуться, то ли у нее воспалены десны и болят зубы – провал рта похож на один сплошной нарыв, от которого исходит запах мертвечины. Ольга пытается обогнуть ее, но женщина не уступает дорогу, уставившись на нее невидящим взглядом. Изо рта у безумной вырывается что-то среднее между шипением и шепотом: “Тот, кого ты любишь, болен”.
Ольга отталкивает женщину, но та хватает ее за рукав и притягивает к себе. “Но он не умрет. Слава Господу и Сыну Господню”. Шипение становится все громче и переходит в завывание. Ольга пытается высвободиться, но женщина вцепилась в нее мертвой хваткой. “Оставьте меня в покое”, – вскрикивает Ольга. У сумасшедшей сохранились только нижние зубы, язык шлепает по верхней десне. “Развяжите его, – вопит она, – развяжите и отпустите на волю”. Ольга с силой вырывает руку из цепких когтей; кажется, ей удастся уйти. Прохожие замедляют шаг, некоторые останавливаются и смотрят на них, помалу образуется круг из любопытных. Женщина, выкрикивая что-то нечленораздельное, вцепляется Ольге в волосы и тянет ее назад. Резко повернувшись, Ольга с размаху влепляет ей пощечину, чувствует, что костяшками пальцев рассекла кожу на скуле безумицы. Женщина ошарашено замирает и выпускает Ольгины волосы. “Твой брат воскреснет, – говорит она совершенно спокойно, будто произошло небольшое недоразумение, а теперь все уладилось. – Лазарь воскреснет. Господь нас не оставит”.
На лестничной площадке сидит, раскачиваясь на стуле, полицьянт с гротескно длинной и толстой сигарой в руке. “Какая приятная неожиданность! Рад вновь увидеть ваше прелестное личико, мисс Авербах, – говорит он с ухмылкой. – Счастлив доложить, что, пока вас не было, ничего не изменилось”. Ольга проходит мимо, не проронив ни слова. На ее двери мелом нарисован крест, она стирает его рукой и вставляет ключ в замочную скважину – ба, дверь не заперта! Может, Исидору удалось улизнуть, проскочить незамеченным мимо этого вонючего шныря? Как они до сих пор его не обнаружили?! Это просто чудо. Господи, почему ты бросил меня одну в темной чаще?
– Какие только евреи не навещали ваших соседей, мисс Авербах! Много длиннобородых. Насколько мне известно, они замышляют новые преступления, все эти Любели и им подобные. Будь моя воля, я бы вас всех утопил, как котят, всех до одного. Только ведь вы, евреи, имеете влиятельных друзей в нужных местах, верно? Никуда не денешься, приходится с вами хорошо обращаться. Однако не советую расслабляться. Ни-ни. Придет время, наша возьмет.
В голове у Ольги моментально созрел гневный ответ, и она поворачивается, чтобы все высказать шпику, как вдруг дверь квартиры Любелей распахивается и оттуда выходят пятеро мужчин в черных пальто. По длинной бороде Ольга узнает в одном из них раввина Клопштока; на Ольгу он демонстративно не смотрит; все направляются к лестнице. К ней никто и не подумал зайти; никто не хочет иметь с ней дело. Клопшток торопливо проходит мимо полицейского, остальные спешат за ним; Ольге они незнакомы. Все безбородые, все одеты на американский манер, на всех котелки, как у Таубе.
– Ну? Я же говорил, – хихикает полицьянт, жуя сигару. Он перестает качаться, передние ножки стула со стуком опускаются на пол; полицьянт привстает, провожая взглядом спускающихся по лестнице евреев. – Не очень-то они вас жалуют, правда?
Как бы ей хотелось сбросить эту свинью со стула, а господ в котелках столкнуть с лестницы, чтобы, загремев вниз, они кучей навалились на достопочтимого ребе. Пусть никогда не сбудутся их мечты! Пусть они подохнут в муках боли и унижения! У Ольги подгибаются ноги от усталости; хорошо бы присесть или растянуться на кровати. Но вместо того чтобы идти к себе, она идет к Любелям.
В маленькой комнатушке пахнет камфарой; из стоящей на плите кастрюли поднимается пар; Пиня рыдает над ней, словно кипятит там свои слезы. Исаак лежит в кровати; из-под одеяла торчат его опухшие синеватые ноги; землистого цвета лицо перекошено от боли, на губах пузырится кровь. На краю кровати примостились Зося и Абрам. Они сосут леденцы, у Абрама в руке бумажный кулек, Зося не сводит с него жадного взгляда. Исаак, кажется, не замечает детей; глаза у него расширяются, только когда он стонет. С тех пор как Ольга была у них в последний раз, все тут изменилось. Полиция перевернула дом вверх дном, но жалкие пожитки остались на своих местах: полочка с тарелками и чашками, висящие на крючках кастрюли и сковородки, стопка книг в углу, зеркало. Ольгина прошлая жизнь была галлюцинацией, все, что происходило до смерти Лазаря, ей приснилось. Халоймес[9]9
Пустяки, ерунда; сны (иврит). (Здесь и далее – прим. перев.)
[Закрыть]. А вот теперь началась реальность.
Проход между кроватью и плитой такой узкий, что Пиня и Ольга стоят чуть ли не в обнимку. Под глазами у Пини темные круги, как будто из глаз текут не слезы, а чернила.
– Они сломали ему все ребра, – говорит Пиня, всхлипывая. – И еще что-то внутри. Били без перерыва. Забрали вчера вечером, били до утра и вернули уже без сознания. Всю ночь избивали. Наверно, им просто это нравилось. Спрашивали его про Исидора. Будто бы ему было что-то известно про анархистов и Лазаря. Я не знаю, о чем речь. Я не знаю, как буду жить, если он умрет. Кто будет кормить детей? Они вечно голодные.
Она вытирает нос какой-то рубашкой, а затем бросает ее в кастрюлю – там кипятится белье. Ноздри у Пини покраснели и распухли; с виска катятся бисеринки пота.
– Доктор Грузенберг считает, что у него оторвалась почка, – продолжает Пиня. – Ребе Клопшток собирается пожаловаться властям.
Ольга презрительно хмыкает, Пиня согласно кивает. Исаак в прострации, не сознает, что в комнате кто-то есть: водит взглядом туда-сюда, словно следит за передвижениями в животе оторвавшейся почки. Он, похоже, не перестает удивляться каждому своему короткому вздоху. “Господи, – думает Ольга, – точь-в-точь как я”.
– Этому ужасу нет конца, – говорит Пиня. – Каждый раз ты думаешь, что вот она, новая жизнь, но все по-старому: они живут, а мы умираем. Ничего не меняется.
Ольга обнимает ее. Без каблуков она стала ниже Пини; прижавшись щекой к ее груди, она слышит ровное биение сердца, безразличного к их слезам и хрипу цепляющегося за жизнь Исаака.
Как и следовало ожидать, десятичасовой Автобус на Кишинев не приехал. Никто ничего не знал и объяснить не мог; мы с Ророй, как и все на остановке, просидели два томительных часа, пока не появился следующий, двенадцатичасовой. Если запастись терпением, то что-нибудь обязательно произойдет; не было еще случая, чтобы что-нибудь да не произошло.
В час дня двенадцатичасовой автобус все еще стоял на автобусной станции, а я обвинял своих будущих попутчиков: кто, как не они, вонючие, злые и покорные, виноваты в том, что нам приходится ждать на жаре?! Я их всех ненавидел. А Popa между тем спокойно прогуливался вокруг и фотографировал. В отвратительной атмосфере ожидания он чувствовал себя как дома. Время от времени подходил ко мне и интересовался, не нужно ли мне чего-нибудь; видимо, хотел таким образом продемонстрировать свое превосходство в сложившейся ситуации. Мне нужно было очень много: принять душ, выпить воды, сходить в туалет, завершить это идиотское путешествие, написать книгу. Мне нужна была любовь и комфорт. “Ничего мне не надо”, – огрызнулся я. Popa в отместку меня сфотографировал – крупным планом, почти упершись камерой мне в лицо.
Ветки берез, растущих вокруг автобусной станции, уныло повисли; птицы, стараясь перекрыть шум моторов, надрывно переговаривались; в набитом доверху мусорном баке пузырились влажные полиэтиленовые пакеты. Каким поганым ветром меня сюда занесло? Как я оказался на Юго-Западной Украине, на земле озлобленных и покорных, так далеко от всего и всех, кого я любил?
Лазарь в поезде “Вена – Триест”: вагоны третьего класса забиты эмигрантами; едут целыми семьями; сидя на баулах с барахлом, размышляют о туманном будущем; мужчины на ночь устраивались на багажных полках. В купе с Лазарем ехали три чеха; они играли в карты на деньги, и один все время проигрывал – если и дальше так пойдет, вряд ли ему удастся сесть на пароход. Лазарь взмок от жары, но пальто снять боялся, чтобы не потерять деньги, спрятанные во внутреннем кармане; так всю дорогу и сидел, скрестив руки на груди. За окном мелькали расплывчатые пейзажи; по стеклу, как желток, разливались отблески заходящего солнца. Все знали названия своих пароходов. Пароход Лазаря назывался “Франческа”; Лазарь представлял, что это будет длинное и широкое грациозное судно, пропахшее солью, солнцем и чайками. До чего красиво звучит – “Франческа”! У Лазаря не было ни одной знакомой с таким именем.









































