Читать книгу "Каинова печать"
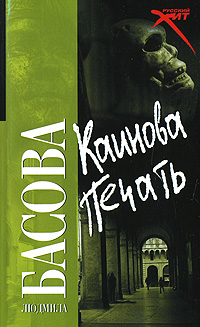
Автор книги: Людмила Басова
Жанр: Современные детективы, Детективы
сообщить о неприемлемом содержимом
Людмила Басова
Каинова печать
– Здравствуй, Каин. Это брат твой, Авель…
Геля хмыкнула в трубку. Из-за низкого, с хрипотцой, голоса ее часто принимали за мужчину, но еще никто не начинал разговор таким образом. Она прокашлялась, но голос не стал женственней, когда она произнесла:
– Простите, не поняла…
– Не поняла? – Звонивший был явно растерян. – Вы хотите сказать, что вы женщина?
– Я бы не смела этого утверждать… Но то, что не мужчина, это уж точно.
– Простите, но я звонил в мастерскую художника Графова.
– Вы туда и попали, только его нет, будет позже. Я тут убираю, скорее всего, дождусь его. Что передать?
В трубке долго молчали, но до Гели доносилось прерывистое дыхание, она нутром почувствовала, что человек нервничает.
– Ну, Авель, решайтесь…
Послышалось какое-то бормотание, и трубку бросили.
«Так… – Геля прислонила швабру к стене, уселась в кресло. – Имена, конечно, библейские, а вот брат… Настоящий? Никогда не слышала, что у Виктора, у ее Благодетеля…
Тут ее губы раздвинулись в улыбке, которая, впрочем, не сделала лицо мягче, а выражение глаз добрее.
…был брат. Не должно у него быть никакого брата, да и вообще никого… А вот как сообщить ему о звонке, надо подумать. Можно под дурочку: звонил тут какой-то шутник, поприветствовал странным образом. А можно иначе. Можно в точности повторить интонацию звонившего и взгляда не отводить от его глаз».
Подошла к большому овальному зеркалу, привычно поморщилась. Своего отражения Геля не любила, потому что любить его было невозможно. На нее смотрело жабье лицо с выпученными глазами и бородавчатой кожей. На шее безобразной складкой колыхался зоб.
– Ну, что, жаба? – спросила Геля ту, что отражалась в зеркале. – Как порадуем нашего Благодетеля?
Мысль перескочила совсем на другое. «Я стала похожа на Надежду Константиновну, жену вождя мирового пролетариата. Вот только загадка – была ли та когда-нибудь красавицей, которую изуродовала болезнь? Да никогда!» Геля видела ее молодые фотографии. А вот она, Геля, была… Знаете сказку про царевну-лягушку? Ну вот, только без счастливого конца. Сначала красавица-царевна, а потом на всю жизнь уродина. Жаба. Поэтому и сыночек у нее урод. Кто может родиться у жабы? Головастик. Он и родился – маленький, похожий на червячка, с огромной головой. В голове, как врачи сказали, вместо мозгов водичка. А теперь этому головастику 10 лет, и мозги у него все-таки есть. Он все понимает, что говорит ему мама, он ее любит, потому что она любит его. Больше на этом свете им любить некого.
Впрочем, надо браться за дело, скоро придет Благодетель, будет недоволен, что она еще возится. И так ведь держит из милости. Убирает Геля плохо, сама знает это, но лучше не может. Руки дрожат, иногда ходуном ходят, как у алкоголика, а сердце бьется так, что начинает вздрагивать и раздуваться зоб. У жабы тоже он раздувается, только, кажется, у жабы-самца, когда он зовет свою самку.
И все-таки, как же доложить о звонке своему Благодетелю?
Раздумья прервал громкий, нервный стук в дверь.
– Скотина Митрохин, – определила Геля, но злости в ее голосе не было. Не торопясь, пошла открывать дверь.
На пороге стоял действительно Митрохин, художник, чья мастерская была расположена в соседнем подъезде, через стенку. Морда опухшая, руки тоже трясутся, но совсем не по той причине, что у Гели, а по весьма понятной: Павел Митрохин запойный пьяница. В мастерской не только работал (если работал), но и жил, из семьи полгода назад ушел. Борода спутана, в пуху, как и кудлатая голова, видимо, от порванной подушки. И все равно хорош, мерзавец. Тряхнув русой шевелюрой, попытался сконцентрировать на Геле взгляд синих своих изумительных глаз, прокашлялся, но спросить не успел.
– Нет его, не пришел еще, – опередила Геля.
– Тогда, это… – начал было художник, но Геля и тут не стала ждать:
– Без него ничего не дам.
– Геля!
Страдание разлилось по красивому, измученному жаждой лицу, синие глаза затуманились слезою.
– Ну, Геля…
И сердце Гели дрогнуло. Открыв потайную дверцу маленького бара, встроенного в шкаф для хранения кистей, достала почти полную бутылку коньяка, налила в длинный, без ножки, хрустальный бокал, протянула Павлу. Тот принял его сразу в обе ладони, стараясь не расплескать, осторожно поднес ко рту, а выпив, довольно крякнул, потом одной ручищей обхватив Гелю за плечи, притянул к себе и трижды громко, смачно поцеловал. Пахло от Павла перегаром, потом и заношенным бельем, но Геле этот запах вовсе не был противен. Наоборот, прильнув на мгновение к художнику, она поспешила вдохнуть, втянуть его в себя, потом резко отстранилась:
– Ну, иди теперь…
Это было ее чудное мгновенье. Опять в который раз подумала: «Надо же, расцеловал, не побрезговал. Не противно ему… Благодетель – тот не поцелует, да что там, пальцем до нее не дотронется». Заплакала, но слезы у нее теперь товар недорогой, это тоже свойство ее болезни – слезливость, как и неоправданные вспышки гнева. Услышав знакомый перестук тросточки, быстро схватила швабру и скрылась в ванной. Там, прижавшись к стене, платком вытерла покрасневшие глаза и начала возить тряпкой по полу, подождала, пока Благодетель не позвал:
– Геля!
Вышла, разулыбалась, хотя знала, что не будет Благодетель отвечать на ее улыбку, да и вообще смотреть в ее сторону. Оттого заторопилась, не давая ему увернуться, как бы цепляясь своим взглядом за его взгляд.
– Вам тут звонили, я не успела еще сказать, что вы не пришли, а он сразу: Здравствуй, Каин, это брат твой, Авель…
– Кто-кто?
– Ну, Авель.
– Что за ерунду ты говоришь, Геля, не пойму я. Ну-ка еще раз…
Геля повторила, медленно, выдерживая паузы между словами, подстраиваясь под ускользающий взгляд и вдруг увидела, как бледность разлилась по холеному, благородно интеллигентному лицу ее Благодетеля. Теперь он смотрел Геле прямо в глаза, и губы его шевелились, а сам он медленно отступал назад, пока не дошел до кресла и не опустился в него как-то расслабленно и обреченно. Тонкими пальцами дотронулся до шеи, пытаясь расстегнуть пуговицу рубашки, как будто ему нечем стало дышать, едва выговорил:
– Геля, там… валидол…
Где валидол, Геля знала. Достала, протянула таблетку. Виктор Иванович взял ее вздрагивающими пальцами, и она подумала: «Сегодня у всех дрожат руки», и ей почему-то стало смешно. Но когда Виктор Иванович вздохнул, словно всхлипнул, Геля испугалась. Он был немолод, ее Благодетель, заслуженный, известный художник Виктор Графов, до его 70-летнего юбилея оставалось чуть меньше месяца. Геля не стала торопиться домой, как всегда, а еще где-то с час посидела со своим Благодетелем. Чайку заварила зеленого, с жасмином, устроилась в кресле напротив, внимательно всматриваясь в лицо художника. Полуприкрытые веки его мелко вздрагивали, дыхание оставалось все таким же прерывистым. Робко осведомилась:
– Может, врача вызвать?
Он молча покачал головой – не надо. Так сидели они друг против друга, пока дыхание Виктора Ивановича не выровнялось, не отошла бледность. Наконец он поднял глаза, тихо распорядился: «Иди». Но вдруг остановил жестом, вытащил портмоне, протянул несколько сотенных и повторил: «Иди».
В прихожей Геля сняла старый застиранный халат, натянула на свое несуразное расплывшееся тело платье, которое, впрочем, мало отличалось от рабочего халата, вышла на улицу. Раз уж расщедрился Благодетель, устроит она своему сыночку праздник. Купит и апельсинов, и яблок, и колбаски копченой.
Вовочка, как и ожидала Геля, давно обмочился, и памперсы не помогли. Ну да, они же совсем на маленьких рассчитаны, а у Вовочки хоть и ножки тоненькие, и попка что у пятилетнего, надует будь здоров. Увидев мать, он встревожился, задвигался, пытаясь оторвать от подушки тяжелую голову, замычал, пуская пузыри, и сердце Гели трепетно отозвалось на это мычание. Радуется сынок… Первым делом вытащила из-под него простынки, сняла памперсы. Легко приподняв, подмыла, обтерла мягким полотенцем. Ничего, никаких опрелостей, даже покраснения нет. Когда-то Геля отказалась делать операцию на щитовидной железе именно из-за страха перед этими опрелостями у сыночка. Все представлялось ей, что если она умрет, будет Вовочка в доме инвалидов лежать в вонючей жиже, которая разъест нежную кожу, будет щипать и саднить, а жестокосердные чужие люди, хоть санитарка, хоть медсестра, не услышат в его мычании ни боли, ни страдания. А если бы и предположить, что операцию Геля выдержит даже с ее больным сердцем, ей на время болезни не с кем оставить Вовочку, не было у нее на всем белом свете близкого человека.
* * *
Не надо, не надо было звонить… Сколько собирался, сколько сил душевных потратил, как обмирал, наполняясь то неизведанной до сих пор ненавистью, то позабытой любовью, и вот нарвался на чужую бабу, уборщицу, которая говорила почему-то мужским голосом. Да и вообще, с чего он решил, что Виктор непременно должен быть один в своей мастерской? И тут же, откуда-то из подсознания: «А с чего ты решил, что вовсе не ошибся и что это все-таки Виктор? Не надо было звонить, надо было сразу прийти. Проследить, чтоб был непременно один, а заготовленную фразу сказать прямо в лицо, глядя в глаза. Тогда и сомнения последние исчезли бы…»
С этими мыслями Григорий и проснулся, скорее всего, они мучили его и во сне. Долго еще лежал, прислушивался к щемящему, тоскливому чувству, которое пришло вместе с сумбурным, отрывочным сном. Вот ведь чудеса – чем старше человек, тем чаще видит себя во сне ребенком. Недавнее стирается в памяти, блекнет, едва миновав, а то, далекое, держит мертвой хваткой, не отступая. Может, для кого-то эти детские сны как отдохновение, но в детстве Григория не было ничего светлого, ничего такого, что вспоминалось бы по доброй воле, а не врывалось тайком, ночами, во сне, когда человек не волен в своих мыслях и воспоминаниях. Пожалуй, каждый, чье детство пришлось на войну, может назвать его тяжелым. Да тяжесть-то у всех разная. Иногда в электричке случайные попутчики, разговорившись, вспоминали военные годы – голод, холод, а те, что пережили оккупацию, – расстрелы и смерть близких людей. Григорий никогда не принимал участия в таких разговорах. И не только потому, что за долгие годы привык молчать. Была некая грань, отделявшая его детство от детства сверстников.
Он родился в маленьком шахтерском городке незадолго до войны. Но этих лет в памяти нет, как нет и отца, умершего перед самой войной. Первые картинки детства – серое, зыбкое утро, остывшая за ночь печь. Они с братом Витей. Но в отличие от него, Гриши, шустрого и крепенького, брат, который на два года старше, едва передвигается по комнате на самодельных костылях: залез на крышу сарая с мальчишками вишню рвать, свалился, да так неудачно – напоролся на колючую проволоку. С той поры то заживет рана, то снова откроется, а нога болит и сохнет. Фельдшер сказал – кость повреждена, остеомиелит называется, без операции не пройдет. А какая уж тут операция…
Он-то, Витя, и будит Гришку:
– Вставай! Надо дров принести из сарая, за водой сбегать.
Мать давно на работе, у своих собак. Вернее, не у своих, у немецких. Это и есть ее работа – варить еду овчаркам, убирать у них. Вечером она приносит целую чашку еды, в которой кроме хлеба огромные кости с мясом. Гринька не видел, чтобы мать сама когда-нибудь притрагивалась к этой еде, а они с братом набрасывались с жадностью. Так что голода, считай, и не испытали. Да только за эту еду дразнили их мальчишки Тузиками, а взрослые обходили дом стороной.
Витя на улицу почти не выходил, разве когда мать на завалинку выведет, да и то летом, на солнышке погреться. А уж ему, Гриньке, все шишки доставались.
– Тузик, Тузик! Собачьи объедки ел! – кричали ему вслед голодные злые мальчишки, а то и швырялись камнями.
У Вити свое занятие: сидит и рисует лошадей. Всегда только лошадей, со вскинутыми мордами, с летящими гривами. Однажды соседка тетя Галя, единственная, которая еще заходила к ним, посмотрев на рисунки, удивилась:
– Надо же, калека, ему б не лошадей рисовать, а…
Но что именно следовало рисовать Вите, не придумала.
Витя же ничего не сказал тогда, посмотрел на соседку кроткими светлокарими глазами и опять взялся за карандаш. Гриньке тоскливо дома, а на улицу не выйдешь, засмеют. Однажды он попросил мать:
– Уйди с этой работы.
Она заплакала:
– Ты что говоришь, умник! Жрать-то чего будем? Вы оба легкими слабые, Витька вообще калека. Другие мужей, бог даст, дождутся, а мне на кого надеяться, чего ждать?
Помолчав, добавила:
– И отвечать мне не перед кем… А с вас спросу нет.
Ошибалась мать и в том, что отвечать не перед кем, и в том, что с них спросу нет.
Поздно ночью, крадучись, приходила к ним соседка тетя Галя, которая одна маялась с тремя детьми. Мать давала ей еды, та не благодарила, только просила:
– Ты уж ни слова никому, смотри… Мой вернется, мне прощения не будет. Да и ребят засмеют. Твоих, вишь, Тузиками дразнят.
Мать обещаний молчать не давала, только усмехалась да неулыбчиво глядела на суетящуюся, прячущую глаза соседку. Но говорить, видно, никому не говорила, иначе соседский Генка не орал бы громче других Гриньке вслед: «Тузик, Тузик, на!..»
Григорий сел на кровати, нащупал ногами тапочки, сжал ладонями седую голову. Не только во сне, но и наяву не волен человек в своих мыслях. Поднялся, стараясь не шуметь, подошел к двери, прислушался, тихо приоткрыл ее. Соня спала, и лицо ее, слабо освещенное ночником, казалось молодым и прекрасным. Прикрыл дверь, постоял в раздумье минуту-другую, и, нашарив на столике сигареты, вышел в сад. С досадой подумал: «Если бы от этих мыслей хоть какой прок… Если бы можно было понять самое главное. За что он с малых лет нес на себе людскую ненависть, кому она была нужна и было ли кому от нее хоть чуточку легче? Понять этого так и не удалось.
Через несколько дней, когда город освободили, к ним в дом пришла тетя Галя с двумя красноармейцами. Пришла хозяйкою, не стучась, сама отворила дверь и торжественно, звонким голосом, гордая выпавшей не нее особой миссией, объявила:
– Вот она, фашистская прислужница! А это ее Тузики. – И, встретив непонимающий взгляд красноармейца, пояснила: – Их тут все Тузиками зовут, выродков ее.
– Понятно! – ответил красноармеец и сурово произнес: – Пройдемте…
Мать молча надела телогрейку, низко повязалась платком и уже на пороге, словно опомнившись, крикнула громко:
– Гринька! Витьку береги, береги Витьку!
Еще неделю они прожили одни в нетопленой хате, голодные. Витя все рисовал своих лошадей, время от времени отогревая под мышками руки, а Гринька ждал мать. Через неделю приехали за ними, посадили в машину.
В узком коридоре толпились мальчишки. Были среди них такие, как Гринька, были и постарше Вити. Одни ребята жались друг к другу, у других был вид бывалый: шпана малолетняя. Витька сел на пол, стоять ему было трудно. И тут же один из бойких пнул его ботинком по ноге. Гришка хотел было кинуться на обидчика, да забоялся, заплакал. И вдруг услышал:
– Ты чего это распинался, хулиган! Сейчас я тебе уши-то надеру!
Голос был взрослый, женский, и Гришка только сейчас в толпе мальчишек увидел маленькую горбатую тетю Паню, что жила неподалеку от них. Рядом с ней стоял десятилетний Иванко, у которого недавно умерла мать, а отец еще раньше погиб на фронте. Его-то и привела сюда тетя Паня, чтобы пристроить в детский дом. Она подошла к Вите, не наклоняясь – руки у нее были почти до полу – погладила по голове, приказала и Гриньке: не реви, наревешься еще, твое еще все впереди. Как в воду глядела… Подошла к закрытой двери, постучала, не дождавшись ответа, открыла ее, заглянула в комнату и обратилась к кому-то:
– Вы бы нам табуреточку вынесли. Мальчонка тут на костылях.
Вышла женщина, в очках, в белом халате.
– Это кто тут на костылях?
Увидела сидящего на полу Витю.
– Это ж надо! Какой умник его сюда привез? Мы в детские дома нормальных детей определяем, а его в дом инвалидов надо.
– Так он не один, с братишкой, – сказала тетя Паня.
– Не имеет значения. Пусть пока сидит, табуретку я дам, а когда освобожусь, отведу в другой отдел, где инвалидами занимаются.
Тетя Паня подняла Витю, посадила на табурет. Когда, наконец, Гриньку вызвали в комнату, он увидел, что кроме женщины за столом сидит пожилой мужчина.
– Ну, как тебя зовут? – ласково заговорила женщина, перебирая какие-то бумажки. Гриня… Григорий, значит. Восемь лет, девятый. Ну что ж, ты уже вполне большой, и наверное, понимаешь, кем была твоя мать? Конечно, понимаешь. Ты ведь знаешь, кто такие фашисты? Так вот, когда наша страна, когда все как один геройски сражались с врагом, твоя мать помогала им, работала на них, кормила овчарок, которыми травили советских людей. Ее за это будут судить.
Голос у женщины был так ласков, глаза из-под очков смотрели на Гриньку почти с нежностью, оттого слов он не понимал, почти не слышал. С ним давно уже никто так спокойно и ласково не разговаривал. Он глядел завороженно на тетю и улыбался ей. Мужчина же, напротив, хмурился, а потом бросил:
– Не стоило бы так, Валентина Федоровна. Право, не стоило бы…
– Это почему же? – ласково спросила женщина. – Ему многое теперь придется понять. То, что о нем будет заботиться наше советское государство, кормить и поить, учить в школе. И что он будет жить среди детей, чьи родители погибли, сражаясь на фронте за нашу Родину. И его, быть может, даже примут в пионеры. Вы ведь возьмете его к себе?
– Конечно, возьму, – все также хмуро сказал мужчина.
Гринька на него даже смотреть боялся, как боялся уйти от улыбающейся женщины, когда она ему сказала: «Пройди вон туда, за ширму, медсестра тебя посмотрит».
Гринька вспомнил, что там, в коридоре, сидит Витька.
– Тетечка, а Витька как же?
– О нем тоже позаботится государство. Его определят в дом инвалидов. Не волнуйся.
– Мать сказала, чтоб я Витьку берег!
– Опять мать!
Лицо женщины вдруг стало злым и некрасивым, маленький ротик странно сдвинулся куда-то вбок, и слова выходили из него теперь с трудом, выговаривались отрывисто:
– Объяснила же, кто она, твоя мамаша, так нет, «мать сказала»… – А вы, – повернулась она к мужчине, – вы, Иван Иваныч, еще утверждаете… Вот попробуйте с такими, переделайте их, а я посмотрю, что у вас получится.
Если б знал в ту минуту Гринька, что будет искать брата всю жизнь, то, может, выскочил бы в коридор, хоть слово бы сказал, хоть попрощался бы или хотя бы глянул еще раз на его бледное, почти не видевшее солнечного света лицо, на кроткие, недетские глаза. Да кто же тогда чего знал…
В детдоме Гриньке поначалу нравилось, только очень уж голодно было. Но Иван Иванович, директор, говорил: «Держитесь, хлопцы. Нам бы только до осени дожить. А там картошки своей накопаем, заживем!» А пока – пустой суп, в котором буряк да несколько капустных листиков. Вся надежда на пайку хлеба. Держались они с Иванкой вдвоем, как-никак соседи, с одной улицы, тот постарше, покрепче Гриньки, вдвоем им и сдачи дать легче, если кто обидит. Но дружба была недолгою: немного времени прошло, как из друга превратился Иванко во врага и мучителя. Проглотив всю пайку хлеба разом, Иванко вечером попросил Гриню: «Дай мне хлебца». Гринька удивился, тут хлеба никто ни у кого не просил, разве что отбирали силою или воровали, если кто зазевался или вместо того, чтоб за пазухой держать, спрятал под подушкой, в постели. Но Гринька все же отщипнул чуток – хлеб не ломался, прилипал к пальцам.
– Ну, ну, не жадись, Тузик! – негромко сказал Иванко, и Гринька безропотно протянул ему весь кусок.
С того дня остался Гринька без пайки. А тут еще приблудилась к детдому тощая, драная собачонка, щенок, которого Иванко тут же окрестил Тузиком. Только войдут во двор, он тут же начинает звать:
– Тузик, Тузик…
Гринька на глазах съеживался, серея от страха разоблачения. Иванко пихал его в спину:
– Чего ты? Я ж собаку…
Однажды Гринька решил убить щенка. Он не знал, как это сделает, но перво-наперво увел его подальше от детдомовского двора. Щенок бежал за ним охотно, подпрыгивая, терся о ноги. На полянке, за густыми кустами, Гринька сел на пенек, подозвал собачку, огляделся. Рядом валялся булыжник, Гринька потянулся за ним и в тот же миг почувствовал дрожь – сначала где-то внутри, затем в руках, но справился, приподнял камень. Щенок подполз к нему, примостился у ног и вдруг опрокинулся навзничь, поджал лапки, подставив Гриньке розовый с черными пятнышками впалый животик. И тогда, откинув булыжник в сторону, Гринька заплакал. Щенок тоже стал повизгивать и, встав на задние лапки, лизнул соленую щеку теплым языком.
Возвращались они в детдом вместе, и тот же мучитель Иванко, завидев их издали, радостно крикнул:
– О, вон Тузик идет, а мы думали, потерялся!
С той поры Гринька сам отдавал свой хлеб Иванке и совсем было отощал, но у него вдруг появился защитник из вновь прибывших, звали его Сашка. Уж чем Гринька ему приглянулся, неизвестно, но, заметив, как по-хозяйски забирает Иванко чужую пайку, отвел его однажды в сторонку. О чем они шептались, Гринька не слышал, но догадывался, что теперь и новичок будет знать его постыдную тайну. И действительно, в тот же вечер Сашка спросил:
– Это правда, что ты собак ел?
– Нет, – потупился Гринька. – Мамка приносила собачью еду.
– Я думал, собак, – разочарованно протянул Сашка и вдруг сказал такое, что Гринька сначала ушам своим не поверил: – А я ел. Ничего, мясо как мясо… Я, Гринька, много где побывал, вот только до фронта не добрался. Мне и лет почти четырнадцать, только ростом мал, вот и дурю их… А то в ФЗО отправят. А из детдома бежать легче.
– Куда же ты побежишь? – спросил Гринька, и тут уж его новый друг стал говорить такие странные вещи, что он аж рот разинул.
– А куда глаза глядят. У меня ведь родители есть, отец, мать, живут фартово… Только я ненормальный, дома не могу жить, да и нигде не могу долго. Меня мать к доктору водила, он так и сказал – склонен к бродяжничеству. Болезнь такая, психическая. Да ты не пугайся, я никого не обижаю, даже, наоборот, жалею. И мать с отцом жалею, а сделать ничего не могу. Когда живу дома, они не знают, как мне угодить, пианино купили, учителя наняли. А меня словно что-то душит…
Лицо у Сашки было белое, глаза голубые, а глядел он вроде бы на Гриньку, а вроде бы и нет. Такое выражение глаз было у Витьки, когда рисовал он своих лошадей.
– Вот душит и душит, я уже ни с кем говорить не могу, даже видеть никого не хочу. А уж как побегу, так у меня холодок такой в груди, или вроде как ветерок прохладный. Хорошо…
Это от мамки родной бегать? Да от отца? Из дома, где пианино есть? Гринька этого не мог понять никак, а Сашка еще больше огорошивает:
– И еще такой холодок, когда украду чего. Аж дух занимается. Это уж совсем хорошо, лучше не бывает.
Конечно, у них в детдоме тоже воровали, но это с голодухи. Гринька бы и сам чего украл, если бы не боялся, но почему от этого хорошо бывает? А Сашка, словно прочитав его мысли, пояснил:
– Да ты не думай, что я кусок хлеба у дохляка детдомовского украду. Мне надо, чтоб опасно, рискованно. Вот тогда-то холодок.
– А ты Иванко не боишься? – Гринька перевел разговор в более доступное для его понимания русло.
– Я, брат, никого не боюсь. Ты не смотри, что я маленький, я очень сильный, если до драки доходит. Только такое редко бывает. Потому что у меня другая сила есть.
– Какая другая?
– А вот увидишь.
И Гринька увидел на следующий день.
Детдомовцы потянулись из столовой, и каждый, кто устоял перед соблазном съесть весь хлеб сразу, нес пайку за пазухой. Сашка, игравший во дворе со щенком, окликнул Иванко и, глядя в глаза, тихонько сказал:
– Иванко, поделись хлебом с Тузиком. Собака тоже есть хочет.
И также безропотно, как когда-то сам Гринька протягивал Иванко свою пайку, тот протянул ее щенку и поспешил прочь, словно чего-то испугавшись насмерть. Гринька глянул на Сашку и тоже испугался. Чего именно – и до сей поры не поймет. Пожалуй, застывшего взгляда глаз его, ставших из голубых темно-серыми, да еще какой-то жилочки, что билась на лице, заставляя подергиваться уголок рта.
При Сашкиной опеке жилось Гриньке в детдоме спокойно. Иванко ходил тише воды, только недолго это длилось. Однажды за обедом Сашка подвинул Гриньке свою порцию щей, подумав, отдал и хлеб.
– Ты чего? – удивился тот.
– Все, брат, не могу есть. Я уж и не сплю какую ночь. Пора, значит…
– Куда пора? – испугался Гринька, но сам уже все понял. Теперь и ему не спалось всю ночь. Как же отыграется на нем Иванко, когда не будет рядом Сашки!
Утром, когда озябшие ребята вылезли из-под байковых одеял и потянулись к завтраку, Сашка остался в постели. Глаза его, не мигая, смотрели в потолок. Задержался и Гриня, подошел к нему, присел на краешек кровати:
– Сашка!
Тот будто бы не слышал, и тогда Гринька заревел в голос.
– Возьми меня с собой.
– Так я ж бродить буду. Куда брать-то? – посмотрел на него, как мимо. Широко раскрытые глаза казались незрячими.
– Куда хошь возьми. И я бродить буду. Может, где Витьку встречу…
Сашка тоже сел, поставил на пол босые ноги, потянулся, потом рывком поднялся, напружинился, и Гринька увидел, как по худому телу прокатилась волна мускулов.
– А выдержишь?
– Выдержу!
– Нас ведь и побить могут.
– Пусть бьют. Все лучше, чем здесь с Иванкой.
– А если где брошу в дороге? Со мной ведь все случиться может.
– Пусть бросишь.
Гринька был согласен на все.
– Ну что ж, тогда сегодня и уйдем.
– Прямо сегодня?
У Гриньки что-то екнуло в груди, стало страшно. Но оставаться было страшнее.
И все-таки, все-таки… Когда уходили, было Гриньке не по себе. Стыдно перед Иваном Ивановичем. Однорукий директор ребят жалел. Опять же, хоть и несытно кормили, но с голоду ребята не пухли. Да и одежда на Гриньке была казенная: совсем еще нестарый ватник, на ногах крепкие сапоги-кирзухи с портянками, фланелевая рубаха. Но глянул на Сашку – у того в глазах словно сполохи, всегда бледное лицо порозовело, а шел он так пружинисто, так скоро, что Гринька, преодолев сомнения и страх, поспешил за ним.
Григорий вышел во двор. Утро было душным, порывистый ветер не приносил прохлады, розы пахли пряно, тяжело. Поднял голову– над садом нависла черная туча. «Гроза, – усмехнулся Григорий. – То-то меня одолели воспоминания»… Почему-то именно при грозе чаще всего возвращало его в прошлое. Здесь, в саду, думалось легче, скорее, что ли. Минувшее проносилось калейдоскопом. Отдельные кадрики: как снимали их с крыш поездов, отлавливали вместе с другими беспризорниками на базарах, устраивали в очередной детдом, откуда они вновь убегали. Еще помнились теплые подвалы, где беглецы коротали порой ночи, и Сашкины рассказы про графа Монте-Кристо, про индейцев – он успел прочитать много книг и хорошо помнил их. Многое выдумывал сам, причем врал безбожно. У Сашки не было на левой руке мизинца, а когда Гриня решился и спросил, что с ним случилось, спокойно отмахнулся: «А, один людоед откусил…». В детприемниках они называли себя братьями, им не верили, но не разлучали. Мальчишки были непохожи, но ведь цыганистый Гринька и на своего родного брата Витю не очень был похож. Одну из холодных зим они прожили у одноногого сапожника-инвалида где-то под Москвой, и он научил Гриньку вырезать и прибивать подметки, ловко класть строчку на кожу. Сашка ремеслу не учился, оно у него было одно: воровать. Делал он это ловко и рискованно, не попался ни разу. А избили их однажды до смерти на базаре, когда Сашка ничего не украл и даже не собирался. Он вообще не воровал на базарах. Одно дело – срезать за секунду сумочку у разодетой дамочки или достать портмоне у важного дяди – тогда, как говорил Сашка, – появлялся такой необходимый ему холодок в груди, другое – стащить шмат сала у зазевавшегося крестьянина. Нет, сало он покупал, щедро расплачивался из стянутого им кошелька. Да еще ходил вдоль прилавка, выбирая кусок порозовее, потолще, принюхивался, и ноздри точеного носа его вздрагивали, втягивая остро-копченый вожделенный запах. Гриньку он к воровству не приучал, сразу сказал – у тебя не получится. А избили их потому, что накануне прошли сквозь базар цыганки, шумные женщины в широких юбках приставали к торговкам с гаданием, раскладывали карты, уговаривали полечиться от порчи, между ними шмыгали туда-сюда цыганята, поодаль стояли молодые парни, готовые тут же вступиться за своих, если те поймаются на воровстве. Много тогда чего недосчитались крестьяне… И вот ведь надо было обознаться одному из торговцев! Только пошли Гринька с Сашкой вдоль рядов, как здоровенный мужик схватил Гриньку в охапку: «Вот он, вот тот парень, что цыган охранял! У меня всю выручку сперли. Бей его!» Оттащили за ворота, били долго и жестоко обоих – Сашка кинулся на помощь. Бросили, когда вмешался прохожий военный, вся грудь в орденах, фронтовик:
– Что вы делаете! Озверели совсем!
Вытащил пистолет и пальнул в воздух.
Григорий поежился, словно ощущая и сейчас ту далекую боль.
С неба упало несколько крупных капель, раздались первые раскаты грома. Нет, не случайно одолевает минувшее именно в предгрозье. Когда полуживые лежали они на берегу незнакомого озерца, тоже была гроза. Дождь размывал на лицах кровь и слезы, но принес и неожиданное облегчение. Тогда Сашка поднялся, потянулся пружинисто, словно и не был весь измолот побоями, улыбнулся Гриньке, сказал:
– Ну, мне пора…
Так говорил он, когда из очередного детдома решался на новый побег. Только тогда он говорил: нам пора… Неужели бросит избитого товарища здесь, на берегу?
Гринька собрался с силами, но встать не смог. Кружилась голова, подташнивало. А Сашка пошел – не от озера, а к озеру. И сколько ни прокручивал Гринька в памяти увиденное, перед ним вставала одна и та же картина: Сашка вошел в воду и шел до тех пор, пока она не сомкнулась над его головой. И все… Не бросился в озеро, как бросаются самоубийцы, не поплыл, не вынырнул потом хоть на мгновение. Просто ушел…
Когда Гринька проснулся, была ночь, его бил озноб. Сознание отказывалось воспринять случившееся, но Сашки не было. Тогда он забылся вновь, и ему то ли приснилось, то ли привиделось… Дома, над материной кроватью, висел размалеванный коврик с озерцом и русалкой на берегу. Русалка была по пояс обнаженная, с грудями, похожими на спелые яблоки, с рыбьим чешуйчатым хвостом, лица ее он почему-то не помнил, хоть и видел каждый день. Вот и привиделась ему эта русалка, только с нежным девичьим лицом. И будто гладила она его и ласкала, щекотала длинными своими волосами.
– Где Сашка? – спросил Гринька.
– У нас, – ответила русалочка, – у нас хорошо…
И стала вроде как таять.









































