Текст книги "Третья сторона"
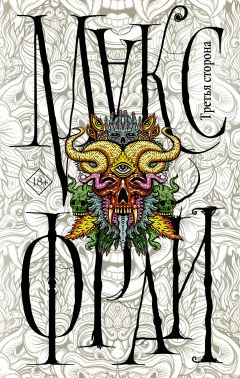
Автор книги: Макс Фрай
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Шёл и думал: естественно больше не напишу. На хрен мне это надо. И представлял, как отрубает голову Отто огромным, тяжёлым, как в фильмах показывают, мечом. От этого становилось гораздо легче. Примерно секунд на пять.
Потом уехал, почти как умер, с концами, ухватившись за первое попавшееся предложение о работе – неважно, куда и на каких условиях, лишь бы отсюда. А когда после его отъезда родителям принялись названивать из издательства, попросил послать их подальше. Где они раньше были? А теперь пусть идут в задницу, мне уже ничего не надо. Не было никакой книжки. Ничего не было. И не будет. Хватит с меня.
Отличную, в итоге, сделал карьеру, хотя вот уж чего никогда не планировал. Видимо, потому, что от работы особо не отвлекался – ни на книги, ни на музыку, ни, упаси боже, на дружбу, на хрен она сдалась.
Главное, мне же тогда твоя книжка очень понравилась, – вдруг сказал Отто. – Такая крутая, я даже не ожидал. Но мне стало дико обидно, что ты написал её один, без меня. Не обсуждал ничего, не рассказывал, не советовался, даже не хвастался. Я вообще не знал, что ты всё это время что-то тайком писал! Чуть не лопнул тогда от злости, но быстро изобрёл способ перестать на тебя сердиться: написать что-нибудь вместе, ещё в сто раз лучше. Стал придумывать сюжеты и предлагать, но тебе ничего не нравилось. А идея с картонками так меня зацепила, что, сам видишь, до сих пор не отпускает. Вот я и начал на тебя наседать. Сам-то книг писать не умею, даже браться не стал бы… Можешь не говорить, что я вёл себя, как целое стадо тупых идиотов, это я и сам понимаю. Теперь понимаю. А толку-то от моего понимания. Я бы сказал сейчас: «прости дурака», только этого мало. Что было, то было, ничего не изменишь, прощай, не прощай.
Сказал: да ладно, проехали. Подумаешь, книжка. Я теперь даже рад, что тогда обломался и больше не стал писать. Одним графоманом меньше, невелика потеря. Жалко, конечно, что из-за неё разругались. Я же тоже скучал.
Книжка была крутая, – упрямо повторил Отто. – Никогда себе не прощу, что тебя обломал. Убить за такое мало… ну или не мало, а в самый раз.
Улыбнулся, как только Отто умел улыбаться – открыто и одновременно загадочно, как будто он – тайный правитель этого мира и сейчас позовёт тебя в свой волшебный дворец. Всегда покупался на эту его улыбку; все на неё покупались. И прощали Отто если не всё на свете, то уж точно гораздо больше, чем самим себе.
Я же почему тогда так вцепился в эту идею с картонками, – сказал Отто. – Потому что был совершенно уверен, что у нас с тобой получится книжка, от которой судьбы будут меняться у каждого, кто её прочитает. Что это будет самая настоящая магия, в которую никто в здравом уме не верит, даже представить не может, а она всё равно есть. И действует на каждого, кто случайно под руку ей подвернётся. Мы с тобой вообще всегда были про это. По отдельности – люди как люди, зато как соберёмся вместе – чёрт знает что.
Изумлённо покачал головой: ну ты и псих.
Да не вопрос, псих конечно, – легко согласился Отто. – Но я же не совсем на ровном месте свихнулся. У нас с тобой очень часто получались всякие странные штуки – ты помнишь? Когда на Рождество, переодевшись толстой двухголовой старухой-цыганкой, в шутку гадали на картах, все вокруг рыдали от смеха от той ерунды, которую мы несли, но слушай, всё же потом сбылось, слово в слово. Просто не у всех сразу, у многих через сколько-то лет. Ты-то смылся с концами, а меня находили, специально чтобы припомнить это наше рождественское гадание и рассказать, что было потом. Я поначалу не очень-то верил, думал, разыгрывают, но факты упрямая вещь. Даже Жук действительно женился на негритянке, придуманной исключительно для абсурда, а Витка, на которую я в тот вечер был зол и в сердцах предсказал ей работу на свиноферме, устроилась в крутую ай-ти контору, где чокнутый шеф держит пару ручных мини-пигов, прямо в его кабинете живут. То есть, в каком-то смысле, свиноферма и есть.
Рассмеялся: ну надо же! Наверное, когда говорят, что жизнь наглее литературы, что-то такое имеют в виду.
А помнишь, как мы познакомились с девчонками из Таллина и устроили для них экскурсию по несбывшимся увеселительным заведениям города? – перебил его Отто. – Потому что на сбывшиеся у нас тогда денег не было, а девчонки попались отличные, жалко таких отпускать.
Согласился: офигенная получилась экскурсия. Как же нас в тот вечер несло!
Так вот, – Отто сделал большие глаза, как будто рассказывал страшную сказку, и сюжет подошёл к появлению Чёрной Руки. – Через несколько лет эти «несбывшиеся заведения» начали открываться, одно за другим, причём на тех самых улицах, по которым мы девчонок водили. Включая бар «Пьяный кальмар» – самое нелепое в мире название, но он действительно был на Садовой улице целых полтора года. Я в первое время постоянно туда ходил – просто от удивления. Не веришь, спроси… да кого хочешь, на самом деле. Уверен, многие вспомнят, туда же весь город бегал, не выпить, так сфотографировать вывеску. Жалко, конечно, что ты его не застал.
Ну ничего себе. «Пьяный кальмар»! Чокнуться можно. Так не бывает. Всё что угодно, только не бар «Пьяный кальмар».
Так не бывает, – подтвердил Отто. – О том и речь. У нас с тобой иногда получались такие вещи, каких, в принципе, быть не может. И не должно. Я всегда откуда-то это знал, точно, без доказательств, они мне до одного места, я же только для тебя, если однажды всё-таки встретимся, их собирал. Поэтому так помешался на идее с книжкой. Был уверен, она натурально как волшебная бомба сработает, дело за малым – уговорить тебя её написать. Хотя сразу мог бы сообразить, что можно обойтись и без книжки. Достаточно пойти в любой бар, взять стопку картонок… ты, кстати, знаешь, что на самом деле они называются «бирдекели»? Я специально в словаре посмотрел.
Отто наконец вспомнил про свой стакан и отпил глоток сидра. Выглядел удивлённым, словно ожидал чего-то другого. Сказал почти обиженным голосом: сладкий, как газировка. И тут же рассмеялся: так мне и надо. Если впал в детство, не удивляйся, что спиртные напитки в твоём стакане превращаются в лимонад. Спросил, тоже совершенно по-детски, нетерпеливо, заранее уверенный, что всё будет, как он пожелает, как будто отказов вообще не бывает в природе: ну правда же, мы с тобой вот прямо сейчас сейчас сочиним много-много прекрасных пророчеств? Но зловещих, как я тогда предлагал, пожалуй, не надо, людям и без нас непросто живётся, не стоит им проблем добавлять. Я могу сам всё придумать, ты, главное, рядом сиди и поддерживай… ладно, хотя бы просто не возражай. Но кстати, было бы круто писать по-английски. В городе сейчас толпы туристов, а английский почти все более-менее понимают. Пусть у приезжих тоже будет шанс. Ты мне поможешь грамотно перевести? Отлично. А у тебя есть чем писать?
Всё-таки Отто есть Отто. Что ему всегда удавалось, так это всех вокруг припахать.
Ничего не ответил, только пожал плечами, но принялся рыться в карманах в поисках маркера или ручки, которых никогда с собой не носил. Зато нашарил карандаш из IKEA. Он их почему-то очень любил. Всякий раз, оказавшись там, сразу брал короткий остро заточенный карандашик, ничего не записывал, только с наслаждением крутил добычу в руках, и никогда не возвращал возле кассы, как, по идее, положено, просто не мог расстаться, уносил с собой; в общем, неудивительно, что карандаш сейчас отыскался, у него, наверное, в каждом кармане лежал такой карандаш.
Отлично, – кивнул Отто, страшно довольный, что повернул всё по-своему. – А ты сможешь перевести на английский: «Научишься понимать языки ветров»?
Он даже почти рассердился: ты серьёзно спрашиваешь? Совсем простая фраза, чего тут не мочь. Ладно тебе, – отмахнулся Отто. – Я, например, хоть убей, не помню, как правильно писать «андерстенд»… Тогда давай так: «Научишься понимать языки ветров и будешь узнавать от них по-настоящему важные новости со всех концов земли». Можно? В смысле, перевести получится? Ну ты крут!
На радостях Отто залпом выпил свой сидр и с душераздирающим грохотом сгрыз несколько кубиков льда. Размахивал всё ещё не раскуренной сигаретой, как дирижёрской палочкой, вдохновенно вещал: «Научись танцевать, остальное само устроится», – дописал? Бери следующую. Пиши: «Плюнь на всё и уезжай к морю, возле моря тебе будет во всём везти». Дальше: «Когда не знаешь, что делать, спрашивай тех, кто тебе снится, им можно доверять», «Твой счастливый день – понедельник, любой, навсегда», «При первой же возможности обязательно заблудись в горах», «Во всём есть смысл», «Пол должен быть жёлтым, а стены зелёными, остальное случится само», «Рыжий пёс – к удаче», «Ты построишь дом на острове, и каждому, кто в него войдёт, станет ясно, что счастье есть», «Сегодня тебе всё можно, в следующий раз всё станет можно второго июня, потом восемнадцатого июля, потом – всегда».
Взмолился: не так быстро, я уже не успеваю записывать. И карандаш затупился, не пишет уже ни хрена. Отто выхватил из рук карандаш, вскочил, умчался в помещение бара, минуту спустя вернулся, размахивая уже остро заточенным, такой счастливый, что казалось, он светится. Ну или просто предвечернее майское солнце просвечивает через него насквозь. Удивительный оптический эффект получился, но Отто не дал ему наглядеться. Сел рядом, положил на плечо тяжеленную лапу, скомандовал: поехали дальше. Только ты тоже давай придумывай, а то что всё я да я.
И они поехали дальше. В смысле, снова стали писать. «Главное – больше никогда не вставай по будильнику, «Где-нибудь непременно есть улица с твоим именем, отыщи её и там поселись», «Ты научишься сочинять сказки, которые будут сбываться, начинай прямо сейчас», «Что тебе сегодня кажется страшным, скоро станет просто смешно», «Не выбирай что-то одно, бери всё сразу», «Надо больше плавать и петь», «Просто всегда держи на окне фонарь», «Каждое съеденное пирожное продлевает жизнь на три дня». Сам придумывал надписи покороче, поневоле экономил усилия, потому что пальцы болели с отвычки, уже задолбался писать: «делай – получится», «жизнь начинается в мае», «звёзды ближе, чем кажется», «послезавтра исправится», «чаще делай подарки», «ты – любимый котик Вселенной» и даже «искусство превыше всего», – Отто так когда-то орал в репетиционном подвале, размалёвывая куски фанеры оставшейся от ремонта нитроэмалью, вонища невыносимая, не выветривалась потом неделю, все матерились страшно, а он только ржал. И сейчас заржал, опознав цитату. Потом сказал: ты и это помнишь! Пожал плечами – нашёл чему удивляться. Конечно, помню. Я помню всё.
Когда картонки закончились, Отто, не долго думая, сгрёб ещё с соседних пустых столов, а взамен разбросал там исписанные. Сказал: уже готовы, так пусть работают, нечего прохлаждаться. Снова подумал: ну он всё-таки мастер всех припахать!
Точить карандаш пришлось ещё трижды, но Отто больше не бегал, поулыбался бритой татуированной девице, и они получили в своё полное распоряжение короткий кривой ножик, каким обычно чистят картошку, для карандаша – самое то.
Под конец совсем разошлись, писали, азартно пихая друг друга локтями, уже полное чёрт знает что: «ты умеешь очаровывать тени», «место силы – везде», «синий – наш рулевой», «обладатель власти над миром туманных мороков», «Летучий Голландец как ролевая модель», «всё сказанное вслух по четвергам перед сном будет сбываться», «просто возьми бубен и бей», «любимец тайных драконов», «исцеляющий пирогами», «познакомься с тем, кто живёт в твоём зеркале, не пожалеешь», «ты есть огонь». Невольно прикидывал: какой из наших записок я бы сам обрадовался? Выходило, что примерно любой.
Когда картонки закончились, Отто встал, потянулся до хруста, ослепительно улыбнулся, сказал: извини, так надо, – и ушел. Он был уверен, что в туалет – ну, то есть, без вариантов, куда ещё можно уйти посреди разговора, вот так, не прощаясь, коротко бросив на ходу: «извини», – но Отто пошёл не в помещение бара, а куда-то ещё, через площадь, залитую предвечерним солнечным светом, густым, как сироп. Сперва не заподозрил неладного, мало ли где тут у них туалеты, вполне может быть, что и за углом, сидел, смотрел ему вслед, своими глазами видел, как Отто делается всё прозрачней, растворяется в этом свете, становится им. Это было красиво и, мать его за ногу, так похоже на Отто – встретить как бы случайно на улице, потащить в бар, заставить писать всякую хрень на пивных картонках, а потом раствориться к чертям собачьим у меня на глазах. Убить за такое мало… ну или не мало, а в самый раз.
Привстал было, но тут же снова уселся на место. Нет смысла за ним бежать. Отто уже не догонишь. Некого там догонять. Подумал: и не надейся, что я теперь начну о тебе расспрашивать, выяснять, что с тобой случилось. Нарочно уеду завтра же, чтобы никого из общих знакомых не встретить и не услышать… Чтобы вообще ничего о тебе не услышать. Для меня ты живой, здоровый, такой же придурок, как раньше, и одет, как пугало. То есть, по-прежнему лучше всех в мире. Другие версии не принимаются. Не хочу ничего больше знать.
Взял картонку, всё это время лежавшую под его кружкой, написал заново затупившимся карандашом, с таким нажимом, что картон в нескольких местах надорвался: «Встретил однажды на улице старого друга, убедился, что ни смерти, ни времени нет, жил потом круче прежнего, потому что ни хера не боялся и всегда делал, что хотел». Сунул картонку в карман, положил на стол деньги, встал и пошёл куда-то под этим невыносимым ярким вечерним солнцем и невидимым, заливавшим только его лицо дождём.
* * *
– Смотри, что! – сказала Анна.
Сара сначала не поняла, о чём речь. Подруга зачем-то вытащила картонку из-под стакана и теперь разглядывала во все глаза.
– Здесь написано, причём по-английски: «Научишься понимать языки ветров и будешь узнавать от них по-настоящему важные новости со всех концов земли»… Слушай, я поняла! Это же уличная поэзия. Она и есть!
– Уличная поэзия? – переспросила Сара.
– Ну да. Такой новый, очень модный среди молодёжи жанр: пишут разные тексты и расклеивают их в городе, как объявления, даже специально печатают этикетки, чтобы неизвестно кто при не пойми каких обстоятельствах однажды случайно это прочитал. А теперь и до бирдекелей добрались, хорошая идея, молодцы… Что ты сказала? При чём тут морская горчица? [2]2
Морская горчица (Cakile Maritima) – однолетнее травянистое растение семейства Капустные. Действительно в дюнах растёт и цветёт мелкими розовыми цветами.
[Закрыть]
– Какая морская горчица? – опешила Сара.
– Ну как же? Ты сказала… или это за соседним столом кто-то сказал? «В дюнах расцвела морская горчица, в этом году очень рано, даже лета не дождалась». Я ещё удивилась – откуда ты знаешь? И при чём тут вообще она?
– Я не говорила про морскую горчицу, – ответила Сара. – И не слышала. Вроде никто ничего такого не говорил.
– Ну, значит, действительно ветер нашептал, – рассмеялась Анна. – Кому и знать, что сейчас цветёт в дюнах, если не ему.
Рукопись, найденная на рынке
(из сборника «Сказки Старого Вильнюса VII»)
– Завтра на рынке Халес будут играть Баха, – говорит Анна.
– А в круглосуточной «Максиме» Моцарта? – мгновенно откликается Йорги. – А в центральном универмаге Вагнера? Давно пора.
– Нет, не будет ни Моцарта в «Максиме», ни Вагнера в универмаге, – невозмутимо отвечает Томас. – Не настолько всё у нас хорошо. Пока только Бах на центральном рынке, чем богаты, тем и рады. Бери, что дают.
– Вы что, серьёзно? – хмурится Йорги. – Бах на рынке? На чём его там можно играть? На электрооргане? Зачем? Какой бред.
– Да нет, вроде, не на электро, – говорит Томас. – На самом обычном, только довольно компактном. Его привезут. И ещё на аккордеоне, который, теоретически, тоже немножко орган. В городе фестиваль аккордеонной музыки, или что-то вроде того; неважно. Важно, что на рынок Халес приволокут орган и будут играть Баха. По-моему, такое нельзя пропустить.
А Анна достаёт из сумки буклет фестиваля, где на бирюзовом фоне изображён летящий аккордеонист.
– Смотри, какая красота.
– Ты имеешь в виду эту бумажку? – снисходительно щурится Йорги, но глаза его сразу теплеют. – Дай сюда. – И потом, после долгой паузы, кивает: – Да, ничего так картинка. Даже удивительно, что её взяли для буклета. Обычно заказчики выбирают полное говно и требуют ещё немножко его испортить. Может, чей-то родственник сделал бесплатно? Или просто времени не было носом крутить?
– Да какая разница, – отмахивается Анна. – Главное вот что: тридцатое августа, Бах на рынке, аккордеон, орган; аккордеониста выписали аж из Италии, а органистка, судя по фамилии, местная [3]3
* На настоящем концерте «Бах на рынке», который состоялся 30 августа 2017 года на рынке Халес в Вильнюсе и стал прообразом описанного, исполнителями были итальянский аккордеонист Петро Роффи (Pietro Roffi) и литовская органистка Кристина Кузминскайте (Kristina Kuzminskaitė).
[Закрыть]. А ещё тут написано, что после смерти Баха забыли почти на сто лет, но потом его ноты случайно нашлись не где-нибудь, а именно на рынке, в них торговцы заворачивали сыр. Однажды сыр попал в хорошие руки, в смысле, какому-то известному музыканту, и он вернул Баха человечеству…
– …которое его совершенно не заслужило, – мрачно кивает Йорги. – Дурацкая легенда. Бессмысленное враньё. То есть, нотные бумаги Баха из его личного архива после его смерти действительно продали лавочникам, и в них заворачивали продукты. Выгодная, вероятно, вышла сделка: бумага в то время была дорога. Но следствием стало не чудесное возвращение Баха умилённому человечеству, а только потеря чёрт знает какого количества его кантат. Окончательная, бесповоротная и невосполнимая. А вспомнили Баха не потому, что вовремя прочитали обёртку от сыра, а потому, что его ноты, слава богу, хранились не только дома, а в разных других местах, и специалисты имели к ним доступ. Вот они, специалисты, и вернули публике Баха [4]4
Считается, что возвращение надолго забытого наследия Иоганна Себастьяна Баха широкой аудитории началось благодаря интересу к его творчеству композиторов-романтиков, в частности, Феликса Мендельсона, организовавшего первое концертное исполнение мессы Баха «Страсти по Матфею».
[Закрыть]. А вовсе не лавочники, которые просто уничтожили, сколько смогли.
– Конечно, ты прав, – говорит Томас. – Но легенда всё равно хороша. Делай что хочешь, уважаемое человечество, но от Баха ты не отвертишься, хоть все сыры мира в нотную бумагу заверни. Бах неизбежен и неотвратим – как для всего неблагодарного человечества, так и для тебя лично, потому что мы купили тебе билет. Возражения не принимаются, отмазки не катят, в смысле, никакие обстоятельства не берутся в расчёт. Не доживёшь до завтра, отволочём на рынок твой хладный труп и положим на прилавок с колбасами. Ты меня знаешь, я экономный. Билету пропасть не дам.
– Ладно, до завтра, так и быть, не помру, – ухмыляется Йорги. – Не хочу лежать на прилавке. Хреновая из меня ветчина.
* * *
– Смотри, смотри, – Марина возбуждённо дёргает Ларри за рукав, – они и правда приволокли на рынок орган!
– Приволокли, – повторяет Ларри и деликатно отворачивается, опасаясь, что на его лице сейчас отражается всё, что он думает об этой нелепой затее, транспортировке на рынок органа, его предполагаемом состоянии, о том, какой жуткий должен быть звук, и об уровне исполнителя, согласившегося играть Баха в таких условиях, на таком, прости господи, инструменте; пожалуйста, господи, прости, я, честное слово, не сноб, и стараюсь быть милым, я помню, что я здесь гость, и никого не хочу обижать, поэтому, господи, прикрой меня, пожалуйста, своей широкой спиной, пока у меня на лице отражаются разные сложные чувства, которых у настоящего музыканта в сложившихся обстоятельствах просто не может не быть.
– Давай пока выпьем вина, – наконец говорит он Марине. – И закусим сыром. Ты говорила, где-то здесь продаётся какой-то удивительный пепельный сыр.
– Не пепельный, – смеётся Марина, – а просто в пепле. Он воооон в том стеклянном киоске, идём.
* * *
– Еле прошла, – говорит Алдона. – Сказала, у меня тут сестра работает, просила прийти помочь перед концертом. Прости, что соврала, «сестра» всё-таки убедительней звучит, чем «подруга». Так они спросили твоё имя и номер киоска, несколько минут проверяли по каким-то спискам, потом куда-то звонили, но в конце концов всё-таки разрешили зайти.
– Билеты дорогие, по одиннадцать евро, – объясняет Руслана. – Конечно, они проверяют, чтобы никто даром не пролез. А ты молодец, что такая настырная. Я рада, что ты пришла. Давай-ка выпьем немного, у меня тут вино ежевичное. Пробовала такое когда-нибудь?
– Ежевичное? Никогда! А разве из ежевики можно делать вино?
– Сейчас вино вообще из всего делают. Такая новая мода. Мы теперь его продаём. Эта бутылка открыта специально для дегустации, можно будет списать в честь праздника, смотри, какая толпа. Ну что, попробуем, пока у меня покупателей нет?
* * *
– А ты взял камеру? – спрашивает Томас.
Йорги морщится, как от зубной боли, а в его вечно усталых глазах на миг вспыхивает такая ярость, словно он вот прямо сейчас превратится в тигра и всех, не разбираясь, сожрёт.
Но Йорги, конечно, ни в кого такого не превращается. А вполне человеческим, только внезапно осипшим голосом спрашивает:
– На хера?
Томас молча пожимает плечами, всем своим видом изображая нечто среднеарифметическое между «да кто ж тебя знает» и «нет так нет».
– Да ладно тебе, – примирительно говорит Анна. – Никто не собирается тебя уговаривать. Просто откуда мы знаем, может, тебе какая-нибудь новая вожжа под хвост попала? Вместо той, которая была под ним раньше.
– Это не вожжа, Аннушка, – мягко говорит Йорги. – Просто больше не хочется. Не хочется, и всё. Сам себе надоел. Скучно мне стало. Гораздо скучнее работы в агентстве, за которую хотя бы платят. Что мне, силой себя заставлять? Делать то, что кроме меня никому не нужно? А теперь не нужно и мне самому? По-моему, это нелепо. Пошли лучше выпьем по бутылке сидра. И не надо делать такие трагические лица. Что вы, как маленькие. Сидр это просто сидр. Почти лимонад. Я не развяжу.
Да лучше бы уж развязал, чем вот так, день за днём, с безупречно прямой спиной и погасшим взглядом, – думает Томас. – Вдохновенный пьяный дурак, при всех своих недостатках, был далеко не так безнадёжен, как этот живой мертвец.
* * *
– Вкусное вино, – говорит Алдона. – Только в горле немножко горчит.
– Да ладно, что там такого вкусного, бормотуха она и есть бормотуха, в какую красивую бутылку её ни налей, – смеётся Руслана.
– Бормо… что?
– «Бормотуха». Это русское слово. Так мой отец называл дрянное дешёвое плодово-ягодное вино. Правда, это совсем не дешёвое, но цену написать можно какую угодно, лучше оно от этого не сделается.
– Не наговаривай. Вкусное вино. Спасибо, что угостила. И что пригласила прийти.
– Ну я же знаю, как ты музыку любишь. А тут такой цирк с органом устроили. Грех было тебя не позвать… Так, а вот и мои покупатели.
– Где? Нет же никого.
– Уже идут. Бабу эту страшную рыжую видишь? Моя постоянная клиентка. Богатая, хотя по одежде не скажешь. Приходит часто, иногда по два раза в неделю. И всегда покупает самый дорогой сыр.
* * *
– Слушай, это невероятно, – говорит Ларри. – Это не сыр, а натурально кантата. Или всё-таки просто прелюдия? Не могу разобраться, нужна добавка.
– Держи, – улыбается Марина, протягивая ему ломтик сыра. – Это не сыр кантата, это ты ешь, как дирижируешь. Очень вдохновенно ты его лопаешь! Хочешь, купим ещё?
– Обязательно! – с набитым ртом отвечает Ларри. – Сейчас, погоди, я доем и…
– Сиди, доедай спокойно, я сама куплю. Заодно покарауль мой стул, их тут, сам видишь, на всех желающих не хватает. Только смотри, никому не отдавай!
– И домой тоже купи, – говорит ей вслед Ларри. – Бери побольше. Будем пировать!
Его больше не раздражает нелепая идея устроить концерт на рынке. Не было бы концерта, так и не попробовал бы этот сыр, во всяком случае, точно не в этот приезд.
Ларри не такой уж великий гурман, просто ему на самом деле совсем немного надо для счастья: чтобы хоть что-нибудь в окружающем мире было безупречно хорошо. Тогда всё остальное становится легко игнорировать – мало ли, в какую дрянную оправу заключён драгоценный бриллиант.
На этот раз роль бриллианта досталась козьему сыру в пепле; он того стоит, совершенно исключительный сыр. И даже при первых звуках органа, как и следовало ожидать, слишком глухих, словно бы вымученных, Ларри не морщится, а отправляет в рот очередной кусок сыра. И запивает терпким сладковатым вином.
* * *
– А ничего так выходит, – улыбается Анна. – Я думала, звук будет хуже…
Томас кивает, а Йорги её не слушает. Выглядит так, словно только что проснулся в незнакомом месте. Озирается по сторонам.
– Какой свет, – наконец говорит он. – Матерь божья, какой же здесь невшибенный свет! Вот этот косой предвечерний из окон и белый от рыночных ламп, и жёлтый от прожекторов, и синий от какого-то фонаря, и все четыре встречаются на одном-единственном женском лице, вы видите?.. Чёрт, я должен это снять.
Достаёт из кармана телефон, нажимает на кнопки, страдальчески морщится, почти беззвучно бормочет: «Говённая дрянь, свет не берёт».
– У меня есть камера, – шепчет ему Анна. – Не ахти что, твой же старый «Олимпус», который ты мне давал с собой в Грецию, а потом не стал забирать…
Глаза Йорги вспыхивают ярче концертных прожекторов, и голос предательски вздрагивает, когда он говорит:
– Гениально. Давай её сюда.
Заполучив камеру, он сразу, не примериваясь, нажимает на спуск, потом ещё раз, удивлённо приподнимает бровь: «Ну-ка, ну-ка», – поднимается со стула, с камерой в одной руке и почти полной бутылкой сидра в другой, делает несколько неуверенных шагов вперёд и в сторону, присаживается на корточки, снова встаёт; в общем, можно забыть, что здесь был какой-то Йорги. Нет его больше. В смысле, наконец-то он снова есть.
– Какая ты молодец, что взяла с собой камеру, – говорит Томас Анне.
– А я её всегда беру, когда мы идём куда-нибудь с Йорги. На всякий случай. Всё жду, вдруг он заорёт: «Какой кадр!» – схватится за телефон и начнёт ругаться, что ни хрена не выходит. И тут я такая: «А у меня с собой твой «Олимпус», совершенно случайно из сумки не вынула». Ну вот, дождалась.
* * *
– Как здорово придумали! – восхищённо шепчет Алдона, раскрасневшаяся от выпитого вина. – Сперва на органе играют, как в церкви, и вдруг, откуда ни возьмись, аккордеон. Сверху, из-под самого потолка. Видишь, куда аккордеониста усадили? Я сама не сразу разглядела, его отсюда почти не видно.
– Да вижу я, вижу, – кивает Руслана, отвернувшись, чтобы подруга не заметила, как по её щеке катится не то счастливая, не то злая слеза. – А знаешь что? Давай-ка ещё с тобой выпьем, – говорит она.
– За музыку, – кивает Алдона, протягивая бокал.
– За музыку, – мрачно повторяет Руслана. И вдруг добавляет: – Я её ненавижу. Вся жизнь моя из-за этой сраной музыки псу под хвост.
Вот уж чего не собиралась говорить. Но зачем-то сказала. Не надо было пить вино перед самым концертом. И Алдону не надо было звать. Думала, подруга поможет отвлечься, но, положа руку на сердце, чем тут поможешь. Ничем.
– Русонька! Ты чего? – пугается Алдона. – Я что-то не то сказала?
– Извини, – говорит Руслана. – Что-то меня повело с полрюмки. Извини, дорогая. Не бери в голову. Я старая дура, а ты вообще ни при чём.
* * *
– Аккордеонист, кстати, совсем неплохой, – благодушно говорит Ларри. – Хорошая техника. А что звук не очень, так это не его вина. Да и вообще ничья. Грех требовать от концерта на рынке идеального звука. В таких условиях как есть – уже чудо. Организаторы молодцы.
– А мне вообще всё нравится, – признаётся Марина. – Просто сам факт, что Бах звучит под сводами крытого рынка. И этот орган посреди копчёных колбас. И органистка похожа на красивого мальчика, такой подрощенный ангелок Рафаэля. И что аккордеониста усадили под самым потолком, и как они перекликаются: традиционно низменный, профанный аккордеон как бы с неба, а духовный, церковный инструмент орган твёрдо стоит на земле…
– Я бы посмотрел, как бы они орган под потолком подвесили, – невольно ухмыляется Ларри. И поспешно говорит: – Извини. Ты совершенно права, красивая получилась перекличка. По крайней мере, как символ…
– Да я понимаю, что для твоего слуха это, должно быть, ужасно, – улыбается Марина. – Дурацкая была идея тебя сюда притащить. Но я подумала, если уж так совпало, что ты приехал, а тут как раз этот концерт и сыр, который я не успела купить к твоему приезду…
– Божественный сыр, – твёрдо говорит Ларри. И великодушно добавляет: – И концерт на самом деле прекрасный даже для такого зануды, как я. Ты молодец, что меня пригласила. Обидно было бы всё это пропустить.
* * *
Йорги медленно ползёт на коленях по грязному кафельному полу рынка. Эти кадры надо снимать только снизу, подниматься на ноги смысла нет. Только передвинуться ещё немного, буквально на пару метров, и будет совсем зашибись. Было бы удобней встать на четвереньки, но руки у Йорги заняты: в одной – камера, на экран которой он смотрит, как калека-паломник на чудотворную икону, а в другой ещё что-то… бутылка? Зачем мне она? А, всё правильно, там же сидр.
Йорги подносит бутылку к губам, чтобы сделать глоток, зря, что ли, я её за собой таскаю, есть сидр, значит, надо пить, и в этот миг всё наконец-то сходится в одной сияющей точке: два профиля в кадре, музыка, льющаяся из-под крыши, музыка, медленно поднимающаяся с земли, как туман из оврага, рассеянный зыбкий свет из дальнего бокового окна, тусклые лампы, цветной фонарь, яркий телевизионный прожектор, газированная влага на пересохших губах, плач, доносящийся издалека, смех у него за спиной, сам бы сейчас смеялся и плакал от счастья, от боли в коленях и в сердце, от страха, что эта прекрасная боль однажды пройдёт, от нежности к неизвестно кому и чему, непостижимому и неопределённому, но слава богу, можно заняться делом, не отвлекаясь на смех и слёзы, кто-то уже любезно делает это за меня.
* * *
– Извини, – говорит Руслана сквозь слёзы. – Пожалуйста, извини. Устроила истерику, всё удовольствие тебе испортила. Не надо мне было эту ежевичную бормотуху пить. Извини, я сейчас успокоюсь. Просто давно не слушала музыку. И забыла, как сильно я её ненавижу, потому что она оказалась не для меня.
– Почему не для тебя? – изумляется Алдона. – Ты же не глухая. Ты её слышишь!
– Да при чём тут «глухая». Просто я когда-то училась в консерватории…
– Я не знала, что ты там училась, – растерянно говорит Алдона. – Так ты музыкант?
– Нет, конечно, – почти беззвучно отвечает Руслана. – Какой из меня музыкант. Я уже много лет не играю.
– Но ты же училась!
– Не доучилась. Вылетела с третьего курса. Я тогда такая была… своенравная девочка. Никого не признавала авторитетом. Со всеми спорила. Таких студентов никто не любит, и это нетрудно понять. А я ещё сочиняла музыку. Ни на что не похожую. Авангардную. Думала, я великий талант и новатор, а все вокруг дураки, ничего не понимают. Впрочем, они и были дураки. Но это ничего не меняет. Умным моя музыка тоже не нужна. Ни тогда, при Советах, ни сразу после Независимости, ни теперь, хотя от слова «авангард» давным-давно никто не шарахается. Наоборот, всем его подавай. Но моя музыка никого так и не заинтересовала. Скорее всего, потому, что дрянь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































