Текст книги "Шестикрылый серафим Врубеля"
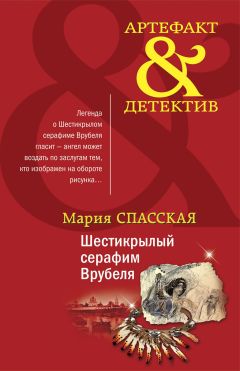
Автор книги: Мария Спасская
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Так я потом и написала в объяснительной записке, которую от меня потребовали в детской комнате милиции. Рядом со мной сочинял объяснительную Пашка-МиГ, его тоже задержали в ходе рейда по отлову уродующих город вандалов. МиГ поглядывал на меня с нескрываемым уважением. И даже с симпатией. И, заглядывая ко мне в бланк и читая мои каракули, говорил:
– Пипец какой-то! Рисовала солнце! Как в детском садике. Пусть всегда будет солнце! А знаешь что? Сделай солнце своим тэгом. Ты Соня? Подписываться будешь Солнцем.
Рядом с ним скучала над исписанным листком ярко накрашенная девица, то и дело целовавшая Пашку в щеку для утверждения своих на него прав и смотревшая на меня, как солдат на вошь. Заметив слишком пристальное внимание МиГа ко мне, она вдруг выпалила:
– Между прочим, я точно знаю, что это она организовала приемку.
И вместо того чтобы окоротить обманщицу, объект моего обожания глянул на меня с неприязнью и презрительно протянул:
– Так это ты нас сдала?
Он так легко поверил гнусной лжи, и это повергло меня в шок. Ради него я залезла в мамин кошелек и похитила деньги, ради него мерзла ночью у стены, ради него убегала от преследовавших меня полицейских и томилась в набитом деклассированными элементами автобусе. И от него я слышу такие страшные вещи! Любовь тут же завяла, как ромашка на снегу.
Вместо меня ответил наблюдавший за нами капитан:
– Не Кораблина вас сдала. Это общегородской рейд. Пришла разнарядка сверху.
И, посмотрев на раскрашенную девицу, капитан грозно сдвинул брови:
– А ты, Ломакина, прекращай!
– А чего сразу я-то? – заныла девица.
– Много разговариваешь. На волосок от колонии, а все никак не угомонишься.
Так я остыла к граффити и разлюбила Пашку Петрова. Зато он всю школу мне прохода не давал. И даже поехал за мной в Москву, поступать во ВГИК. Я училась на киноведческом, Петров – на художественном. Иногда ребята с его факультета устраивали в стенах вуза выставки, на которые я, само собой, ходила. И видела Пашкины работы. Рисовал он так, что я снова в него влюбилась. А вот он ко мне заметно охладел, ибо увлекся своей однокурсницей, не чурающейся стрит-арта. К своему стыду, должна признаться, что я снова накупила цветных аэрозолей и стала мотаться с компанией творческой молодежи теперь уже по Москве, оставляя свои следы на урнах и ларьках, расписывая концептуальным бредом лавочки и магазинные жалюзи.
Пашка меня игнорировал. Вернее, не то чтобы игнорировал, а относился спокойно, как к старому другу. Меня душила обида, и я до самого окончания института из кожи лезла вон, чтобы ему понравиться. Потом уехала домой и про него забыла. А теперь вот снова.
– Привет, Паш, – улыбнулась я.
Он почти не изменился. Невысокий, плотный, в черном худи с готическими рунами, широких джинсах и в шапке-бини, из-под которой свисает его неизменный русый чуб. В руках дымящаяся сигарета, в прищуренных глазах дерзкий вызов всему миру.
– Солнце, ты сейчас куда?
Я отправила в урну бумажку от мороженого и ответила:
– В «Арт-Плей».
– Я тоже туда, – обрадовался Пашка. Окинул меня заинтересованным взглядом и пояснил: – Сволочь одну ловить.
– Ты все с Шестикрылым воюешь?
– Должен же кто-то его остановить. Написал, гад, в Инстаграмме, что вывесит сегодня на «Мистик Юниверсе» свои работы. Хвастается, козел. Ребята уже там, мы его с поличным возьмем.
История вражды российского граффити-сообщества с художником стрит-арта с тегом «Шестикрылый» брала начало года с две тысячи десятого. Ни с того ни с сего появился на просторах столицы неизвестный райтер, быстро и метко оставляющий трафаретные рисунки в самых неожиданных местах. Рядом с трафаретными картинками неизменно появлялся тег «Шестикрылый». Работы были остро социальные, и вскоре о художнике заговорили все средства массовой информации, называя Шестикрылого уникальным явлением и пророча ему большое будущее. В то время, когда власти города его мазню во избежание порчи покрывали защитным стеклом, остальных райтеров продолжали забирать в полицию и жестоко карать. Это не могло не вызвать волну возмущения среди уличных художников. И Шестикрылому объявили войну, призывая остановиться.
Но тот не собирался останавливаться и пиарил себя как только мог, все больше коммерциализируя свой талант. Понятно, что трудился над этим он не сам. И что у парня была команда менеджеров и агентов, помогавшая Шестикрылому сохранять инкогнито и в то же время устраивать выставки своих работ, на которых за астрономические суммы продавались нанесенные на холст его самые узнаваемые трафареты. А чтобы шумиха вокруг его имени не утихала, Шестикрылый, насмешливо прозванный в сообществе художников граффити Падшим Ангелом, повадился наведываться в художественные галереи и на выставки, расклеивая между экспонирующихся картин свои работы. Именно о такой готовящейся акции и говорил МиГ. Я сделала осведомленное лицо и уточнила:
– И много людей собираются ловить?
– Сейчас увидим. Списывались человек десять, придут, полагаю, поменьше. Хочешь поучаствовать в охоте?
– Само собой, – обрадовалась я.
Пашка глубоко, до фильтра, затянулся. Поравнявшись с урной, выбросил окурок и, кинув на меня быстрый взгляд, проговорил:
– Только ты это, на Громову не обращай внимания. Я решил, что мы с ней разбежались, но Люська не согласна.
– С чем?
– Глупый вопрос, – недовольно протянул Пашка. – Само собой, с тем, что разбежались. Громова столько для меня сделала, а я, получаюсь, свинья. Это же Люська меня в театр декоратором устроила. И в Москве регистрацию оформила. Я ей, конечно, за это очень благодарен, но не могу больше с ней жить. Душная она.
– Раньше мог, а теперь не можешь?
– Ну не люблю я ее, – с надрывом простонал Петров. – Думал, как-то притремся друг к другу, а все не притираемся. А ты как, Солнце? Замужем?
– Я свободна, и если тебя интересует, есть ли у меня молодой человек, сразу отвечу – нет.
Сказала, покраснела, понимая, что лукавлю, и тут же успокоила себя. Виктор не в счет, хотя сосед по коммуналке всячески и старается стать для меня незаменимым. Я, конечно же, ценю его внимание, но все-таки считаю, что никому ничего не должна.
– Солнце, это знак! – оживился парень. – Я не сомневался, что рано или поздно снова с тобой увижусь. И что на этот раз все будет как надо.
Мы подошли к большому зданию красного кирпича и перед входом увидели с десяток парней и одну-единственную коротко стриженную девицу, в которой я сразу же узнала Громову. В студенческие годы ее называли Муха Навозница – за пристрастие к блестящей одежде. Вот и сейчас Люська сверкала фиолетовой, с алым отливом, туникой в пол, под которой виднелись крохотные серебряные шорты и перламутровый топ.
Заметив, что Пашка не один, она изменилась в лице и стала злобно сверлить меня глазами – похоже, что тоже узнала. Пока ребята обменивались приветствиями, Муха терпела и исходила ядом молча, а когда пошли внутрь галереи, все-таки не выдержала, прибилась к нам с Пашкой и, следуя за нами по пятам, сердито зашипела:
– Слушай, Паш, на кой черт ты ее приволок? Чтобы меня уесть?
Не сбавляя шаг, Пашка презрительно сплюнул и ничего не сказал.
– Совсем оглох? – повысила голос Громова. – Отвечай! С тобой разговаривают!
– Чего тебе? – миролюбиво откликнулся Пашка.
– Мне назло Кораблину приволок, тебя спрашиваю?
– Да мы случайно встретились…
– Да ладно, случайно! Так я и поверила! Сонька всегда таскалась за тобой хвостом, потом вернулась в Питер, ты остался в Москве, и вдруг – о чудо! В многомиллионной столице вы с ней случайно встретились!
– Да говорю тебе…
– Сонька сталкерит за тобой! Следит за каждым твоим шагом! Простить не может, что ты со мной живешь!
– Не живу, а жил, – флегматично поправил Паша.
– Да по фиг! – рассвирепела Люська. Но тут же взяла себя в руки и уже спокойно заметила: – Паш, а помнишь, ты говорил, что с месяц назад у тебя смартфон пропал.
– Ну да, посеял где-то.
– Она и сперла!
Павел остановился, развернулся к бывшей сожительнице и хмуро обронил:
– Слушай, мать, ты утомила. Ты же теперь с Илюшей? Вот и иди к своему Саркисяну, не раздражай мужчину. Видишь, как недобро он на меня поглядывает. Еще зарэжэт.
Шипя, как рассерженная гусыня, Люська отошла, а МиГ, собрав всех в холле, проговорил:
– Значит, так. Мы с Солнцем встанем у черного хода. Илья и Людмила – у центрального. Остальные расходятся по залу и внимательно следят за всеми посетителями. Неважно, мужчина это или женщина. Шестикрылый может подослать кого угодно.
Недовольно морщась, Громова подхватила под руку высокого смуглого парня с буйной шевелюрой и затравленным взглядом и устремилась к большому, во всю стену, зеркалу. Здесь и осталась, делая вид, что прихорашивается и оправляет клетчатую рубашку своего кавалера. Другие охотники за Падшим Ангелом двинулись в зал, а мы с Пашей прогулочным шагом направились по коридору в глубь галереи, делая вид, что просто осматриваемся.
– Я видел схему здания, служебный выход где-то здесь, – прошептал МиГ, сворачивая за угол и спускаясь по ступеням вниз.
И в самом деле, мы приблизились к незапертой железной двери, Паша толкнул ее и выглянул на улицу. Огляделся по сторонам и удовлетворенно кивнул.
– Все правильно. Выход на задний двор. А теперь, Софи, давай целоваться.
– Пашка, с ума сошел?
– Исключительно для конспирации. А ты что подумала?
Что подумала, то и подумала, не важно. Он прижал меня к себе, впился губами в мой рот, я закрыла глаза, обняла за шею и, почувствовав такой знакомый запах табака и краски, на какое-то мгновение утратила чувство реальности. Разве такое бывает? В многомиллионном городе оказаться в одно время в одном месте… Люська права, наша встреча – и в самом деле удивительное совпадение. Скрипнула неплотно прикрытая дверь, мне в лицо повеяло ветерком с улицы, и, когда я взглянула на Петрова, то увидела, что он медленно садится на пол. Парень с изумлением смотрел на меня, и в стекленеющих его глазах я отчетливо видела свое отражение.
– Паш? – тихо прошептала я.
Петров молчал, и это было особенно страшно.
– Пашка, что? Не молчи! – закричала я так, что у самой заложило уши. – Сердце? Да? У тебя прихватило сердце?
Он беспомощно улыбнулся и привалился к двери. Привалился неплотно, между ним и дверью оставалось приличное расстояние, и я, усаживая Пашу удобнее, провела рукой по его спине. Рука коснулась липкого и теплого и, поднявшись повыше, уперлась в холодную сталь. Сообразив, что это, должно быть, нож, я тут же отдернула руку и увидела на пальцах кровь. Пашу зарезали? Но когда? И кто? А вдруг это я, только не помню? Это было самое страшное, и я не могла об этом думать. И не думать не могла. В голове стучало и пульсировало – я? Я? Я?
Я пребывала в ступоре, когда нас нашли. Какие-то люди суетились вокруг Паши, меня подняли с пола и отвели в машину, усадив на заднее сидение и пристегнув наручниками к какому-то мужчине в форме полицейского. Я не сопротивлялась. Я просто смотрела на все со стороны, как будто это происходит не со мной, и больше всего боялась утратить над собой контроль и выпустить в круг света ДРУГИХ.

Москва, 1894 год
Главный редактор Гурко уселся в пролетку, взгромоздил рядом с собой фотографические принадлежности и, подсадив спутницу на подушки, велел везти на Садовую-Спасскую. Дорогой редактор хмурил брови и говорил:
– Любопытно было бы узнать, под каким предлогом ты собираешься заявиться к Мамонтову? Здравствуйте, я Саша Ромейко? Собираюсь написать о вас ядовитый фельетон? Ну, допустим, с Врубелем я тебя сведу. С ним-то мы с тобой, Александра, поболтаем, тут уж будьте покойны. А вот насчет Саввы Ивановича не уверен – захочет ли он с нами разговаривать?
– Да бросьте, дядя Петя! – беспечно отмахнулась девушка. И самоуверенно добавила: – Ни один человек еще не отказывался от беседы со мной.
Самоуверенность Александры возникла не на пустом месте. Саша Ромейко и в самом деле была по-своему исключительна. В сложном искусстве фельетонистики она чувствовала себя как рыба в воде. Хотя в профессию пришла не сразу, сначала думая посвятить себя большой литературе. Как и все молодые барышни ее склада, девица Ромейко мечтала написать что-нибудь великое, как Мария Башкирцева, портрет которой висел у Александры над столом.
Нет, она, конечно, не планировала посмертно опубликовать свои дневники, как это сделала талантливая, но рано ушедшая из жизни поэтесса, переписывавшаяся с самим Виктором Гюго. Да это и не обязательно – рано уходить из жизни. Саша Ромейко еще поживет! И сделает что-нибудь исключительное. Она еще не знает, что именно. Но что-нибудь такое, что всколыхнет этот сонный мир. И заставит мужчин смотреть на женщин как на равных.
В газету ее привел случай. Вернувшись на каникулы домой, Александра попала прямиком на похороны двоюродной тетки. И за поминальным столом с удивлением узнала, что кузен и кузина поделят наследство покойной отнюдь не в равных долях. Дочери принадлежит лишь одна четырнадцатая часть наследства, остальное заберет себе сынок. И, хотя ее это совершенно не касалось – Александра была единственной дочерью своих родителей и родных братьев не имела, – несправедливость больно задела начинающую литераторшу. Там же, на поминках, Саша разразилась гневной речью, но только два человека отнеслись к словам мадемуазель Ромейко всерьез. Первым был теткин муж, смуглый живчик Петр Петрович Гурко. Дядя Петя как раз только-только начал издавать газету «Шершень ля фам», позиционируя как развлекательно-познавательную, и примерял на свое детище все неожиданное и оригинальное.
Вторым человеком был Володя Соколинский, единственный сын родной сестры дяди Пети, которого Саша знала с самого детства и жутко сердилась, когда родные называли их женихом и невестой. В том, что она и в самом деле нравится Соколинскому, Александра убедилась, когда отправилась на учебу в Дрезден, чтобы стать литератором. Володя последовал за ней и стал студентом юридического факультета. И как будущий юрист Соколинский с интересом выслушал за поминальным столом ее обличительную речь о несправедливости наследственной системы и пообещал как правовед со своей стороны сделать все возможное, чтобы остановить творящееся беззаконие. А дядя Петя предложил написать об этом фельетон и поместить в его газете. Петр Петрович не просчитался – смелая статья, написанная не без сарказма прекрасным русским языком, сразу же принесла «Шершню» популярность.
Почувствовав, что вовсе не большая литература, а разоблачительные фельетоны – как раз то, чего жаждет ее беспокойная душа, Шурочка больше не вернулась в Дрезденский университет, с увлечением взявшись писать для «Шершня». К работе своей она относилась серьезно. Если уж затевала статью, то материал собирала так основательно, что могла бы написать научный труд. Хорошее знание предмета вызывало симпатии и уважение к автору как у читателей, так и у героев статей.
Володя тоже остался в России, переведясь в Московский университет и продолжая изучать юриспруденцию. Шурочкина бескомпромиссность забавляла студента Соколинского, и часто по вечерам, сидя в гостиной и слушая, как невеста с горячностью рассказывает об очередной обнаруженной ею несправедливости в отношении женщин, беззлобно подтрунивал над ней, целуя в нос и называя своей «неугомонной глупой суфражисткой». Однако девушка вовсе не была глупой. Скорее наоборот. Может быть, слишком упрямой и чересчур настойчивой, но журналисту и нельзя быть другим.
– Какой смысл гадать, захочет Мамонтов с нами разговаривать или нет? Пока не рискнем, все равно не узнаем. Дядя Петя, давайте просто приедем на Садовую-Спасскую, а там уже будет видно, – решительно тряхнула рыжими кудрями Саша Ромейко.
– Ой, допрыгаетесь, Александра Николаевна! – с комической скорбью поджал губы родственник. – Найдете приключения на свою огнегривую голову.
Пожурил, но к Мамонтову поехал. Двухэтажный особняк на Садовой-Спасской знала вся богемная Москва. И по дороге Петр Петрович брюзжал:
– Сама должна понимать, кто такой Мамонтов! Это столп! Глыба! Магнат! У него получается все, за что он ни возьмется.
– С такими-то деньжищами немудрено.
– Да ты цинична!
– Пардон, мон анкл, больше не буду. А если честно, то я давно присматриваюсь к господину Мамонтову на предмет статьи. Вы правы, он уникальный человек. Как там о нем пишут в газетах? Успешный промышленник, страстный покровитель искусств, Савва Великолепный и Московский Медичи. Он не только помогает всем, кого находит талантливым, но и буквально фонтанирует идеями, заражая окружающих энтузиазмом. Покровительствует оперному искусству – открыл «Частную оперу Кроткова» и привлекает к созданию декораций – нет, не просто маляров, а лучших художников нашего времени! Люди искусства чувствуют себя в особняке Саввы Ивановича как дома. В общем, лучшего объекта для фельетона трудно найти.
– Что же о нем можно сказать в фельетонном стиле? – удивленно взглянул на племянницу Гурко. – Для неуживчивого Врубеля он даже отстроил целый флигель, в котором художник творит своих «Демонов».
К этому-то флигелю и подъехали сотрудники газеты «Шершень ля фам». Выпрыгнув из экипажа, Александра устремилась к крыльцу и, взбежав по ступеням, энергично принялась крутить ручку звонка. Велев извозчику дожидаться, Гурко двинулся за племянницей. Он как раз успел взойти на крыльцо, когда дверь распахнулась, и на пороге показался худощавый мужчина с зачесанными назад пшеничными прядями. Он окинул тяжелым взглядом приплясывающую от нетерпения девушку, потрогал рыжеватые усы и нелюбезно осведомился:
– Вам кого, сударыня?
Выглянув из-за спины журналистки, главный редактор с воодушевлением проговорил:
– Михаил Александрович, дорогой вы мой, мы к вам.
Обладатель пшеничных усов недоверчиво дернул плечом и не двинулся с места. Врубель был известен как художник, творчество которого решительно никто не понимает. Когда к юбилею Лермонтова решено было издать подарочный двухтомник поэта с иллюстрациями «лучших художественных сил», только Врубель благодаря протекции Мамонтова был единственным художником, неизвестным публике. Впрочем, именно его работы вызвали шумиху в прессе – критики отмечали их «грубость, уродливость, карикатурность и нелепость». Именно тогда Михаилу Врубелю и представился случай в первый раз реализовать тему «Демона», который завладел им еще в Киеве и не отпускал до сих пор.
Александра рассматривала одиозного художника. Высок, худощав, с бледным надменным лицом и светлыми водянистыми глазами, которые смотрят на нее так, точно она – пустое место. Собирая материал для задуманной статьи о Савве Мамонтове, фельетонистка услышала историю о первом визите Врубеля в Абрамцево, куда его пристроили гувернером хозяйских сыновей. Будто бы, желая поразить гостя, радушный Савва Иванович провел художника в свой кабинет и распахнул полог, закрывавший от посторонних глаз главную гордость мамонтовского кабинета – скульптуру Христа в человеческий рост работы Антокольского – очень дорогую для хозяина вещь. Врубель взглянул и брезгливо произнес:
– Это не искусство!
И Репина припечатал, прямо в глаза заявив Илье Ефимовичу, что тот не умеет рисовать. Одним словом, не характер, а уксус. Пока Александра рассматривала строптивца, тот нелюбезно проговорил:
– А, это вы, господин главный редактор!
В голосе Врубеля послышались ироничные нотки, и он насмешливо осведомился:
– Как продвигается охота за сенсациями?
– Может быть, пустите к себе? – пригибаясь под тяжестью фотографического оборудования, взмолился издатель «Шершня».
– Может, и пущу, – хмуро проговорил хозяин флигеля. И, окинув взглядом Александру, заинтересованно уточнил: – Кто это с вами? Актриса?
Говорили, что Врубель окружает себя людьми странными. Снобами, кутилами, цирковыми артистами, итальянцами, бедняками и алкоголиками. И что его переезд из Киева в Москву связан с увлечением цирковым искусством – в особенности одной цирковой наездницей.
– В некотором роде… – туманно ответствовал Гурко, вталкивая Александру в прихожую и вваливаясь сам.
– Только ненадолго, работы много, – предупредил художник, запирая на замок входную дверь и следуя за гостями. – Проходите в гостиную, но не пугайтесь – мы занавес для Частной оперы расписываем, – усмехнулся он.
Александра свернула в распахнутые двери, которыми заканчивался коридор, и очутилась в просторной комнате, которую почти целиком занимала натянутая на грубо сколоченную раму плотная пестрая ткань. Фельетонистка остановилась и замерла в дверях, с трудом переводя дыхание от охватившего ее восторга. На огромном полотне разворачивалась сцена из античной жизни: под сенью статуи Венеры поэт, по-видимому, Данте, расположился с арфой в окружении слушателей в костюмах эпохи позднего Возрождения. Над завороженными слушателями синим покрывалом нависло низкое итальянское небо, а вдали белели верхушки очертаний Неаполитанского залива. Александра с трудом оторвалась от созерцания грандиозного полотна и обернулась на голоса. В гостиную входили трое – Врубеля она уже знала, двух других господ пока еще нет.
– Кого я вижу! Дон Педро! – заулыбался взлохмаченный румяный брюнет. Он выглядел так, словно его только что разбудили – волосы в беспорядке, борода и усы всклокочены, между брюками и жилетом надувается парусом рубашка.
– Приветствую вас, Константин Алексеевич! – оживился редактор, пожимая протянутую, в перстнях, руку. – Мое почтение, Валентин Александрович. – Оставив в покое руку лохматого, Гурко шагнул навстречу угрюмому шатену.
Тот скупо кивнул и тоже ответил на редакторское рукопожатие. От полноты чувств фельетонистка сделала книксен. Именно такими она и представляла себе художников Серова и Коровина – совершенно непохожих друг на друга друзей, которых, как утверждали злые языки, Савва Мамонтов, подчеркивая их неразлучность и чтобы не тратить понапрасну лишних слов, называл Серовин. Валентин Серов слыл немногословным, неторопливым и основательным педантом, и кто-то однажды даже пошутил, что в компании Серов настолько тихий и незаметный, что на него можно сесть. Коровин же был весельчак, баловень, человек-праздник. Порывист, несерьезен, слишком «богемист».
Абрамцевский дом Мамонтовых представлялся Александре, по рассказам побывавших там счастливцев, эдаким Эдемом, где в атмосфере нескончаемого праздника и всеобщей любви добрые эльфы днем и ночью поют, пляшут, рисуют картины, вышивают гладью и расписывают керамику. Коровин появился в этом творческом раю значительно позже Серова. Только тогда, когда уже учился в Академии художеств, и подружился со вхожим в Абрамцево художником Поленовым.
Валентин же Серов считал Абрамцево своим домом, ибо подолгу живал в усадьбе еще ребенком и любил Мамонтовых даже больше, чем настоящих родителей. Он откликался на непонятно как прилипшее к нему имя Антон, со всеми держался с достоинством и без позерства, ибо уже в позднем младенчестве исколесил пол-Европы, был ко всему привычен и ничему не удивлялся. В четыре года в Швейцарии будущий портретист катался на ньюфаундленде Рихарда Вагнера. В девять лет Тургенев спасал его от дурного влияния парижских проституток. А в десятилетнем возрасте Серов учился рисованию у Ильи Репина – старого друга его отца, известного композитора. И поэтому не было ничего удивительного, что в утонченной эстетской атмосфере мамонтовского дома Антон-Валентин был как рыба в воде.
Приятель его Коровин был сыном обнищавшего купца и вырос в деревне. Спорам об искусстве и мучительным творческим поискам художник предпочитал удовольствия простые и бесхитростные – охоту и рыбалку. И, вопреки аскету Серову, довольствовавшемуся малым, любил роскошь, красивые жесты и шикарные вещи, заказывал ювелирам кольца и перстни, для которых рисовал эскизы, и с удовольствием носил их сам или раздаривал знакомым.
– Эко у вас кучеряво! – воскликнул редактор Гурко, скидывая с плеча кофр и обводя рукой живописное полотно. – Хороша античность. Статуя удалась – загляденье! И сказитель хоть куда.
И издатель «Шершня ля фам» обернулся к Серову. Художник смотрел на пришедших сосредоточенно и мрачно, предоставив Коровину развлекать гостей. Врубель тоже не замечал присутствующих, сразу же пройдя в глубь комнаты и приступив к работе.
– И хотелось бы приписать себе чужие лавры, да совесть не позволяет, – хохотнул кудлатый Коровин, охотно включаясь в беседу. – Это детище целиком и полностью принадлежит Михаилу Александровичу. Мы с Антоном у него на подхвате, как простые подмастерья.
– Позвольте запечатлеть красоту на память.
Гость принялся расчехлять фотографическую камеру, но Врубель вдруг оторвался от работы и категорично произнес:
– Э, нет, не нужно. Не люблю я аппараты. Лучше карандаша ничего нет.
– И что же, Михаил Александрович, вы не разрешите мне сделать коллективный снимок? Увековечить всех нас, так сказать, на долгую добрую память?
– Не надо снимков. Лучше я сам нарисую, – скупо обронил художник, снова принимаясь за дело.
Смягчая возникшую неловкость, Коровин посмотрел на Сашу маслянистым взглядом дамского угодника и потянулся к ручке, мурлыча:
– Дон Педро, представь же нас своей очаровательной спутнице…
– Отчего же не представить? – застегивая не понадобившийся кофр, буркнул редактор. – Саша Ромейко, прошу любить и жаловать.
– Быть не может! Чтобы такая очаровательная девица писала такие пакости! Прямо даже не верится.
– И напрасно, – усмехнулся Петр Петрович. – Теперь вот хочет писать фельетон про театр Саввы Ивановича. Вы как, друзья мои, не против?
– Да на здоровье, – широко улыбнулся Коровин. – Пусть пишет о чем хочет, талантливое перо нужно поощрять. Присаживайтесь, барышня.
Он сделал движение в сторону кресел, но Александра продолжала стоять, в изумлении рассматривая работу Врубеля. Теперь уже ее потряс не занавес, а стоящий в стороне холст с начатой картиной – полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне закатного неба.
– Вот она, демоническая сила искусства. – Коровин многозначительно подмигнул газетчику.
Тот подскочил к племяннице и одобрительно зацокал языком:
– А ведь хорошо! Хотя и пугающе… Что скажешь, Шурочка?
Александра вздрогнула и сердито обернулась к Серову как к единственному человеку в этой комнате, с которым можно говорить серьезно.
– Это расточительство! – хмуро сообщила она.
– Что именно? – не понял художник.
– Да то, как Савва Иванович разбрасывается талантом Врубеля. Взгляните на это полотно! Вот где искусство! Искусство на века! А Михаил Александрович расписывает занавес! Занавес! Который истлеет лет через десять! И лепит печные изразцы для абрамцевской гончарной мастерской! И это художник, от взгляда на картины которого холодеют руки и стынет в жилах кровь!
Девушка описала рукой полукруг и остановила указательный палец на полотне с сидящим демоном.
– А чем нехороши печные изразцы? – Серов в недоумении пожал плечами.
– Да тем, что разобьются! А работы Врубеля должны сохраниться для потомков! Савва Иванович, конечно, меценат, но только какой-то уж очень специфический. Приглашает к себе гения, чтобы тот расписывал плафоны.
– Не только плафоны. Еще и балалайки.
– Вот! И балалайки! Вы сами слышите себя – врубелевские балалайки! А еще – я узнавала – есть изразцовая лежанка – Врубель создал ее в Абрамцеве для прихотей обитателей этого вашего местечкового Эдема. Да, роскошная лавка работы Врубеля теперь у вас есть, но ведь картины-то не написаны! Вместо всей этой чепухи не лучше бы было заказывать Михаилу Александровичу как можно больше живописных полотен?
– Вот вы бранитесь, а напрасно, – добродушно хохотнул Коровин. – Миша и сам не слишком-то трепетно относится к своим картинам.
– Не нам с вами об этом судить.
Откинувшись в кресле, Коровин весело взглянул на собеседницу и начал:
– Извольте, я вам поведаю трагическую и даже зловещую историю с «Молением о чаше». Васнецов и Прахов как-то утром заглянули к еще спящему Мише и были поражены. На натянутом на подрамник полотне зеленел Гефсиманский сад, залитый прозрачным, мягким лунным светом, и в глубине сада изнемогал молящийся Иисус. Друзья разбудили объятого сном Мишу, полные неописуемого восторга. А Миша, протирая глаза, недоуменно их слушал, слушал, как они умоляли не трогать, не прикасаться к чудной картине, просили дать им слово в этом. И Миша, беспечный, слово дал. Чего же проще? Васнецов и Прахов бросились к богачу Ивану Терещенко, убедили, умолили ехать с ними и тотчас купить картину. Терещенко приехал, восхитился, заплатил, да не забрал полотна с собой. Врубель же вечером попал в цирк, пришел в восторг от номера наездницы и ночью поверх «Моления о чаше» написал свою циркачку.
– Сколько можно вспоминать! – недовольно проговорил Врубель, не отрываясь от работы. – Я уже повинился в этом своем проступке.
– И после этого ты снова испортил картину, на этот раз «Богородицу»!
– Может, и не было никакой «Богородицы», – с сомнением в голосе протянул художник. – Ее видел только Васнецов.
– Ну да, и пока Васнецов бегал звать Прахова, ты, Мишенька, снова написал поверх святого образа свою Дульсинею – все ту же наездницу Анну Гаппе на неизменном рыжем коне. И, между прочим, именно Савва Иванович, давая Мише заказы, помог поправить крайне шаткое материальное положение.
– Подрядил расписывать балалайки и абрамцевские лавочки? – скривилась журналистка.
Однако Коровина трудно было сбить с толку.
– Не только. Заказал декорации для домашнего спектакля и хорошо за это заплатил. Ах, какие получились декорации к «Саулу»! Савва Иванович предоставил полную свободу творчества – занимайся всем, к чему лежит сердце и тянется рука художника. Так что, как ни крути, а выходит, что Мамонтов благотворитель.
– Знаете, что я вам скажу? Как-то так получается, что на огонек в дом Мамонтова слетаются самые превосходные, самые прекрасные пчелы нашего времени. И Савва Иванович великодушно позволяет этим пчелам оставлять их бесценный мед в своих ульях, сам же этим медом и питаясь. Где декорации к «Саулу»?
– Как где? – растерялся Коровин. – Где им и подобает быть.
– Вы не ответили.
– После спектакля их сняли, свернули и выбросили. Зачем еще они нужны?
– Вот! Значит, декорации погибли. И после этого ваш Мамонтов – меценат?
– Это кто здесь выставляет меня подлецом и эксплуататором? – раздался глуховатый, с покашливанием, голос.
Александра обернулась и увидела стоящего в дверях приземистого господина средних лет в парижском костюме и лаковых штиблетах. Соблюдая необыкновенное достоинство, господин неторопливо приблизился к ней и замер, склонив набок идеально круглую лысоватую голову и не спуская с ее лица мерцающих совиных глаз.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































