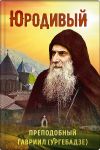Автор книги: Наталия Соколова
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Наши родители говорили: «У детей должно быть радостное восприятие жизни». И они всеми силами старались это выполнить. Пять лет подряд нас при первых признаках весны вывозили в Подмосковье, в лесистую Загорянку. С тремя детьми оставалась воспитательница, а хозяйство вела молодая Юля. Она была из раскулаченных, бежавших в Москву. Родители навещали нас только раз в неделю. Но свои отпуска они проводили с нами. Навсегда запечатлелись эти солнечные дни, когда мы ходили на реку Клязьму. Папа брал лодку, ловко управлял рулем, а мы с Колей пытались грести. Извилистые тенистые берега реки, белые лилии, желтые кувшинки, крупные раковины на песке… Все это мы несли домой, пускали плавать в тарелки, и радости нашей не было конца. А прямо за забором, сделанным из старых ломаных досок с дырками, стоял густой еловый лес. Чуть подальше – стройные сосны, под которыми раскинулся ковер из земляники. По утрам – прогулки, а по вечерам – веселые игры в крокет, двенадцать палочек, теннис и т. п. Из соседних домов к нам сбегались ребятишки. Папа требовал, чтобы играли всегда честно, чтобы не было ни ссор, ни драк. Так оно и было, по его молитвам. Летом мы жили дружно.
Перед окнами дачи тянулась зеленая просека. Если идти по ней, минутах в пяти оказывался слева легкий забор, за которым стоял еловый лес. И в этом лесу простая дачка была приспособлена под храм. Лишь небольшой крест, тонувший в ветвях, показывал, что тут – церковь.
Сюда мы бегали без тропинок, через лес, неизменно пролезая сквозь дырку в заборе.
Иконостас отгораживал алтарь. Обслуживала храм одна милая старушка, которая зажигала лампады. К нашему великому удовольствию, она доверяла Коле и мне ходить во время богослужения за тарелочным сбором. Мы сияли от счастья и неизменно низко кланялись, когда нам кто-то клал деньги. Во время чтения поминаний нам разрешали выходить на улицу. Тогда мы бежали под ели и собирали букетики земляники, остерегаясь съесть хоть одну ягодку. Ведь тогда нельзя будет причащаться! Наши подружки Люся и Вера Эггерт поочередно бегали под окошко избушки, чтобы прислушиваться к пению. Они делали испуганные, страшные глазенки и кричали нам: «Херувимская, а мы тут!» Тогда мы мчались в церковь, подходили к тете Варе, нашей воспитательнице, и отдавали ей на сохранение свои букетики, чтобы после Святого Причастия получить их обратно для съедения.
В памяти моей сохранился один памятный вечер. Обыкновенно полный храм в этот вечер был совсем пуст: старушка у входа, двое певчих и я. А за окнами шумели деревья, моросил дождь и было уже совсем темно. Мне было так хорошо, что не хотелось уходить. Домой не тянуло. Я любовалась слабым мерцанием лампад (электричества в Загорянке нигде еще не было), знакомый голос старенького отца Петра тихо произносил молитвы. Мне было лет пять-шесть, смысла слов я еще не понимала, но слушала молитвы с удовольствием. «Хоть бы век тут пробыть», – думала я. Неожиданно прибежал братец Коля.
– Ты, наверно, боишься одна идти через темный лес? – спросил он.
– Я не собиралась уходить, – ответила я.
– Однако пойдем. Тебя ждут ужинать и спать, – сказал он.
Мы вышли. Несколько минут тьма кругом была непроглядная, но я шла за Колей и не боялась. Но вот среди стволов заблестело окошко, за которым у нас горела керосиновая лампа. Мы облегченно вздохнули и побежали по мокрой траве к дому. Так бывает у детей: рассудок еще молчит, а сердце чувствует благодать Божию и начинает любить. Я в те годы очень любила тетю Варю (графиню Бутурлину), нашу гувернантку. Она была всегда ровная, тихая, грустная, никогда не смеялась, но и не плакала. Она любила ходить в Елоховский собор на службы и брала нас с собой. Мы покорно стояли в толпе, ждали «Отче наш», после чего всегда шли домой. Не причащались. Причащаться ходили мы только с родителями. Ездили в далекие храмы на трамвае. Почему? Вопросами мы не задавались, принимали просто, по-детски, все происходящее.
Одной из первых наших нянек была немка Маргарита Яковлевна. Справедливая, но очень строгая, она била нас по рукам, если мы дрались, и очень скоро приучила нас к сдержанности и дисциплине. С мая месяца по сентябрь включительно мы жили с Маргаритой Яковлевной на даче, в лесистой Загорянке. Родители приезжали к нам только в выходные дни, которые в те годы не совпадали с воскресеньями. К Маргарите часто приезжал ее родной дядя, пастор реформатской церкви, приезжали и другие «братья» и «сестры» (так сектанты зовут друг друга). Они пели чудесные гимны, слова звучали ясно и были доступны детскому пониманию. Мне шел пятый год, но сердце мое замирало от восторга при этих звуках духовного пения. «Ближе б, Господь, к Тебе…» – раздавалась мечта среди леса. «Стучась у двери твоей, Я стою, пусти Меня в келью твою…» – слышали мы голос как бы Самого Спасителя. Мы, дети, даже тихо подпевали печальные гимны об усопших: «Они собираются все домой и один за другим входят в край родной». Царство Небесное складывалось в нашем детском воображении как милая отчизна, влекущая к себе душу: «Ив белых одеждах, в святых лучах Спаситель их водит в Своих лугах…» Эти слова соответствовали нашей жизни, ибо мы проводили дни в долгих прогулках по лугам и лесам, усыпанным цветами и изобилующим ягодами и грибами.
Когда, наступала пора возвращаться в темную московскую квартиру, лишенную солнца, из окон которой видны были одни только каменные стены, я горько плакала. Я с братцами сидела на телеге, нагруженной вещами; лошадка тихо шла по узкой лесной дороге; ветви деревьев задевали наши головы, окропляя нас холодной росой. А вдоль дороги из мха на нас смотрели шляпки белых грибов, блестящих от дождя. Сколько радости доставляли нам в прошлые дни эти грибы, а тут мы ехали мимо них, обливаясь слезами. За телегой шли мама и гувернантка, мне подали огромный и крепкий белый гриб, и я всю дорогу целовала его.
Наступила зима. Мы не заметили, как исчезла Маргарита Яковлевна. Однажды вечером в столовой появилась грустная, сдержанная и тихая Варвара Сергеевна, бывшая графиня Бутурлина. Мы, дети, встретили ее приход открытым бунтом. Узнав от мамы, что у нас опять будет гувернантка, мы кинулись искать поддержки у папы. Дверь к нему была заперта, и мы осаждали ее долго, стуча в дверь каблуками, кулаками, сопровождая стук криком и плачем. Папа долго не отворял – видно, молился, – но потом вышел к нам и с трудом нас успокоил, уговорив подчиниться судьбе. Однако, когда Варвара Сергеевна начала нас водить на прогулки в сад, братья мои убегали от нее и держались поодаль. Я тоже сначала дичилась новой воспитательницы, но она скоро покорила мое сердце интересными рассказами. Она посылала меня за мальчиками, и я звала их, доказывая, что «тетя Варя» не злая, что она знает много чудных историй. Сначала за мной следовал Сережа, а потом приходил и Коля, ворча себе под нос и называя меня «изменницей». Вскоре мы привыкли к тете Варе и полюбили ее не меньше, чем родителей.
Мама в тюрьмеКак арестовали маму, мы не слышали. Мы проснулись утром, и, как обычно, около нас были тетя Варя и «бабушка» – монахиня Евникия, прожившая в нашей крохотной кладовой целых двадцать семь лет. Вечером отец пришел с работы и сказал нам, что мама уехала к дедушке, который заболел. Нас только удивило внимание, которое с того дня стали нам оказывать наши тетушки – Раиса Веньяминовна и Зинаида Евграфовна, приходившие с того дня к нам чуть не ежедневно. Меня они начали учить держать иголку и шить. А на Рождество они устроили нам елку, даже позвали к нам знакомых ребятишек. В праздничный вечер я сожалела только, что с нами нет мамы, потому что нас не переодели в парадные матросские костюмчики и мне при гостях было стыдно за мои дырявые локти на красной кофточке.
За декабрь и январь папа обошел все московские тюремные заведения, ища жену. Но он нигде не получил о ней никаких известий. Он не мог понять, за что она арестована, не мог отнести ей передачу, терялся в догадках, куда ее увезли. Надеясь на Божие милосердие, отец наш усилил молитвы, прося особенно помощи у преподобного Серафима Саровского, которого родители наши горячо почитали.
Однажды утром почтальон принес открытку на имя Коли. Брату подходил седьмой год, и он с интересом начал разбирать незнакомый почерк. Вдруг появился папа, выхватил у Коли открытку и скрылся в своей комнате. Мы стояли ошеломленные, но нас уговорили не плакать, потому что «папа весь задрожал, – по-видимому, очень взволновался открыткой», объяснили нам взрослые. Папа вышел минут через двадцать, уже одетый в дорогу и с чемоданом в руке. Он коротко сказал Варваре Сергеевне, что едет в Самару искать жену, ибо в открытке было сказано: «Дорогой Коля, твоя мама едет поездом в Самару. Шура». Мы, дети, по-прежнему ничего не поняли, только 16 марта, когда мама вернулась домой после трехмесячного ареста, мы узнали из ее рассказов о следующем.
Маму арестовали ночью. Первые же слова вошедшей милиции были: «Сдать оружие!» Но так как оружия дома не было, солдаты приступили к обыску. В кухне они заметили, что некоторые половицы лежат неплотно.
– Что там? Подвал? – спросили они у хозяев.
– Да вроде бы, кладем туда ненужные временно вещи.
Солдаты подняли доски, один спрыгнул в яму.
– Бомба! – закричал он. – Вот она, контра-то!
И быстро выскочил из ямы, бледный и трясущийся. Николай Евграфович пытался его успокоить:
– Это не бомба, а только оболочка от бомбы. Я храню ее как реликвию, как память о войне, о том, как я в армии обезвредил ее.
Но милиционеры не поверили.
– Если так, то лезь сам и достань ее, – сказали они.
Папа достал ее и очень сожалел, что милиционеры унесли «бомбу» с собой, как они сказали, «для следствия».
Собрав вещи в дорогу, супруги сняли со стены образ, и мать благословила им спящих детей. Потом супруги, прощаясь как бы навеки, поклонились друг другу в ноги, обнялись и со слезами целовались. Видя эту трогательную сцену, дворник и комендант, присутствовавшие как понятые, опустили головы и тоже заплакали.
Квартиру тщательно обыскивали, ворошили белье, постели, но никто не знал, что ищут. В темном углу коридора стояли чемодан и корзина с вещами Маргариты Яковлевны.
– Чьи это вещи? – спросил милиционер.
– Нашей прислуги, которая уже ушла.
Приоткрыли чемодан.
– Аккуратность просто немецкая, – восхитился сыщик, – жалко такой порядок портить.
– Да, она немка была, – подтвердила мама.
– Так это вещи не ваши? Нечего их и перебирать, – решил сыщик и захлопнул чемодан.
«Бог спас нас, – рассказывала впоследствии мама. – Если бы развязали стопочки белья, перевязанные ленточками, то нашли бы всю переписку с Германией тех немцев Поволжья, которые собирались бежать из СССР, как евреи бежали из Египта. Но на границе эти немцы были задержаны, а во главе их стоял пастор – дядя нашей Маргариты. И все письма шли к нему через Маргариту, а посылались на наш адрес, на имя Зои Веньяминовны Пестовой».
Маму поместили сначала в камере Бутырской тюрьмы. Холодная, грязная, тесная и вонючая камера не так угнетала ее, как полное неведение о судьбе своей семьи и незнание, за что она арестована. На допросах ее спрашивали о родных, об образовании, об отношении к заводу, который она очень любила, так как была энтузиастка своего дела, спрашивали ее о знании немецкого языка, который она совсем не понимала. Зоя Веньяминовна со слезами умоляла сообщить ей о муже и детях, но получала такие ответы:
– Муж сидит, дети – в детдоме.
– За что же?!
– Скажите сами.
Мама рыдала, терзалась сердцем и мысленно умоляла Пресвятую Деву заступиться за ее семью. Настрадалась моя бедная мамочка. Голодный паек и вши не так ее мучили, как безнравственное общество воров и скверные анекдоты женщин. Тогда Зоя Веньяминовна взяла инициативу в свои руки. «Я доказала им, как мелки и пошлы их интересы. Я показала этим падшим людям, как прекрасен мир, какая есть художественная литература, как интересна история. Я рассказывала без устали об убитом царевиче Димитрии, угличском чудотворце, о Борисе Годунове и Иоанне Грозном, о Петре I, и о „Братьях Карамазовых“ Достоевского, и о Евангелии, и обо всем, что знала, чем горело мое сердце, – говорила мне мама. – Меня слушали затаив дыхание. Сочувствуя этим темным людям, я легче переносила свое горе».
Однажды, когда маму переводили в другую камеру и она спускалась туда по ступенькам, к ней подбежала девочка лет пяти. При тусклом свете отдаленной лампочки маме показалось, что к ней подбежала ее дочка. Ребенок обхватил маму руками и стал обшаривать ее карманы. «Наташа!» – закричала мама, подняла девочку и глянула в ее смуглое, грязное личико. Когда мама опустила девочку вниз, с ней сделалась истерика. Она долго безутешно рыдала, вся вздрагивала, заключенные с трудом ее успокоили. В углу этого огромного сырого подвала сидели монахини. Они утешались тем, что пели молитвы и рождественские песни. Мама запомнила слова и мотивы, и когда она вернулась из тюрьмы, то выучила и меня подпевать ей. Особенно трогательны были слова Богоматери, объясняющей горе Ребенка Христа:
Ты Его утешишь и возвеселишь,
Если ум и сердце Богу посвятишь.
Ты Его утешишь, если с юных лет
Жить по воле Божьей дашь Ему обет.
В одной камере с мамой сидела молодая идейная партийная работница из райкома – некая Шурка, как она себя сама называла. «У меня голова ленинская», – хвалилась она формой своего черепа и хлопала себя по затылку. Но до ленинского ума ей было далеко. Шурку посадили за следующее, как она сама рассказывала:
– Я выросла в городе и не имела ни малейшего понятия о сельском хозяйстве. Всей душой преданная советской власти, я быстро продвинулась и заняла высокое место в райкоме как крупный партийный работник. Последней весной (а это был период коллективизации сельского хозяйства) в райком пришла жалоба, что крестьяне одного села отказались выезжать в поле и засевать землю. Меня послали выяснить это дело и наладить посев. Я приехала из города как представитель власти, созвала крестьян и спросила:
– В чем дело? Почему не засеваете поля?
– Нет посевного, – слышу.
– Покажите мне амбары.
Открыли ворота сараев. Гляжу – горы мешков.
– А это что? – спрашиваю.
– Пшено.
– Завтра чуть свет вывезти его отсюда в поле и посеять! – прозвучала моя команда.
Мужики усмехнулись, переглянулись между собой:
– Ладно. Сказано – сделано! – весело откликнулся кто-то. – За работу, ребята!
Я торжествовала: послушались, – видно, голос у меня внушительный!
Подписав бумаги о выдаче пшена крестьянам, я спокойно легла спать. Проснулась я поздно, позавтракала и пошла к амбарам узнать: работают ли? А в сарае уже пусто, вывезено все под метелочку. К вечеру назначаю опять собрание. Народ сходится веселый, подвыпивший, где-то гармонь играет, частушки поют. «Почему гуляют?» – недоумеваю я. Наконец пришли мужики, смеются.
– Ну как, пшено посеяли? – спрашиваю.
– Все в порядке! – отвечают. – Распорядитесь, завтра что сеять?
– А что у вас во втором амбаре?
– Мука! Давайте завтра ее сеять! – хохочет пьяный мужик.
– Не смейтесь, – говорю, – муку не сеют!
– Почему не сеют? Раз сегодня кашу посеяли, значит, завтра и муку сеять будем.
Меня как обухом по голове ударило:
– Как кашу сеяли? Да разве пшено – каша?
– А вы думали – посевное? Ободранное зерно – это каша, а вы распорядились ее в землю сеять.
У меня все в глазах помутнело. А тут гудок – «черный ворон» за мной подъезжает. Вот и попала я в тюрьму как вредительница. А что я понимаю?
Вот эта-то молодая Шурка оказалась предоброй душой. Она от всего сердца расположилась к Зое Веньяминовне и взялась отослать сыну Коле открыточку о судьбе его мамы.
Чудо преподобного СерафимаКогда поезд остановился в Самаре, было около десяти часов вечера. Николай Евграфович спрыгнул на занесенный снегом полупустой перрон. Поезд ушел, воцарилась тишина, немногочисленные люди быстро исчезали. Мороз крепчал, сверкали звезды. «Куда идти, где искать жену?» – думал он.
«Скажите, пожалуйста, где найти тюрьму?» – этот страшный вопрос, звучавший на темных пустынных улицах, наводил на людей ужас, и редкие прохожие спешили отмахнуться и скрыться от высокого крепкого мужчины с пушистой черной бородой, какая была тогда у отца. Он был легко одет, мороз давал себя знать. Николай Евграфович скоро понял, что надо искать ночлег, чтобы не замерзнуть и не попасть в руки плохих людей в чужом, незнакомом ночном городе. Окоченевшие ноги вязли в глубоких сугробах пушистого снега. Огни в домах угасали, город засыпал, кругом царила мертвая тишина, прохожих не стало.
Отец горячо молился. Привожу с его слов:
– Я прочел трижды тропарь преподобному Серафиму и решил, что пойду на огонек в третий по счету дом. Постучался. Дверь отворила приветливая старушка и любезно пригласила войти и обогреться. Я извинился, что побеспокоил хозяев в поздний час, вошел. Меня усадили к самовару, который приветливо пищал на столе, покрытом белой скатертью. В углу висели иконы, под ногами лежали теплые половики, было уютно и чисто. Хозяйка пила чай со своими двумя взрослыми дочерьми, которые напоили и меня горячим чаем и принялись расспрашивать о цели посещения. Я откровенно рассказал, что приехал искать свою жену, арестованную два месяца назад и переведенную в Самару. Сказал, что дома у меня осталось трое маленьких детей, что жену зовут Зоей.
– А как зовут ваших детей? – живо спросила одна из девушек.
– Коля, Наташа, Сережа.
– Так благодарите Бога за то, что Он привел вас в наш дом! – воскликнула девушка. – Я работаю медсестрой в тюремной больнице, и у меня в палате лежит ваша жена, которая постоянно вспоминает о своих детях. Да не беспокойтесь, она чувствует себя неплохо, только кашляет. Она изболелась сердцем о доме. Пишите ей скорее письмо. Завтра я принесу вам ответ от жены.
Я кинулся на колени перед иконами и громко зарыдал от радости, что нашел свою жену.
Медсестра указала отцу, по какой тропке ему надо будет утром пройти, чтобы жена могла его увидеть через окошко. И он несколько раз, будто ожидая кого-то, медленно прошелся под окнами больницы. Супруги увидели друг друга. «Сердце мое сжалось, – рассказывала мама, – ведь мороз-то был за тридцать градусов, а на ногах у мужа были только легкие штиблеты и даже без шерстяного носка!»
Но отцу было не до простуды (он от этого никогда не болел). Папа проявил инициативу, связался со следователем и прокурором и выяснил, в чем дело. Он пробыл в Самаре три дня, ежедневно переписывался с супругой и уехал в Москву успокоенный, ибо было доказано, что мама арестована по недоразумению, не имеет с немцами никакой связи и скоро будет отпущена. А любезная медсестра обещала держать маму в больнице как можно дольше, ибо кашель у нее не проходил, хотя после свидания с мужем она чувствовала себя хорошо и повеселела. Энергичная и изнывавшая от безделья мама взялась топить в больнице печки, перештопала все больничное белье, даже вышила мне платье. Она выдергивала нити из сурового полотенца и этими нитями расшила множество полос ришелье и мережки, разными рисунками сверху донизу, сделав мне нарядное белое платье. Мама часто рассказывала мне про тюрьму, причем всегда благодарила Бога за посланное ей испытание.
«Многое я прощаю советской власти, – говорила она, – но одного не могу простить: в тюрьме сидели матери с маленькими детьми, с грудничками. Немытые, грязные, вонючие и больные крошки кричали и умирали с голоду».
Валентиновка. Отец ИсайяВ начале 30-х годов наша семья сблизилась с семьей Эггертов. Они жили в трех километрах от церкви, однако не пропускали праздников, приходили всей семьей к обедне. Родители мои приглашали их к нам, чтобы отдохнуть после службы и покормить их маленьких девочек. Эггерты тоже звали нас к себе в гости. И вот мы все впятером отправлялись к ним. Путь шел через лес, кое-где извилистая тропа была чуть заметна. Но мы не уставали, предвкушая удовольствие от встречи с друзьями. Хозяин, Михаил Михайлович, выходил к нам навстречу, нарядные девочки вели нас по саду к качелям, к шалашам… А за столом нас обильно угощали клубникой. В одной из комнат в кресле сидел благообразный красивый старец-священник. Мы благоговейно подходили к нему под благословение и тут же удалялись, чтобы не мешать беседам взрослых.
Впоследствии я узнала, что это был отец Исайя, иеромонах, возглавлявший тайную «подпольную» церковь. Но нам, детям, этого никто не объяснял (нам было не понять). А родители наши ходили к Эггертам иногда и без нас, так как высоко ценили возможность подкрепляться духовно у столь великого старца. Однажды они там задержались допоздна. Кругом бушевала буря, ветер ломал деревья, дождь лил непрестанно. Но, хоть и стемнело, они решили идти домой к детям. Их удерживали: «Как же вы пойдете? Дороги не видно, в лесу скрываются разбойники». Однако отец Исайя благословил их идти. «Дайте-ка мне палку», – сказал он. Кряхтя, он с трудом поднялся, слегка распрямил свою согнутую от старости спину и быстро зашагал вперед. Все ахнули от изумления, но старец сказал: «Возьмитесь за руки, как при обручении, я поведу вас. Господи, благослови!» Мама не раз рассказывала нам про тот вечер:
– Кругом была непроглядная тьма, шумел ветер, тут и там огромные деревья с корнями вырывало из земли, треск стоял непрестанно. Мы не шли, но нас несло без дорог и тропинок, нас несло вслед за батюшкой, который крепко держал наши сжатые руки. Через кусты, через ельник мы не пробирались, мы почти бежали, шепча только: «Господи, помилуй!» И ни разу мы не споткнулись, не упали, пока не вышли на просеку совсем близко к дому. «Вот и огонек у вас на подоконнике, – сказал отец Исайя. – Вот так в жизни и идите. Не бойтесь бурь житейских, крепко держитесь друг за друга и призывайте Господа. Бог сохранит вас. Идите!» И по молитвам святого старца жизнь нашей семьи прошла, как под крылом Всевышнего.
После Загорянки в 1935 и 1936 годах лето мы проводили в городе Угличе, на Волге. Здесь, на родине мамы, еще жил ее отец, маленький ласковый старичок, очень похожий на доктора Айболита, как его рисуют в детских книжках. Мы у него в домике часто бывали и обильно поедали ягоды из его сада. Окна нашей дачи глядели на широкую улицу, мощенную камнем, по которой ежедневно мимо нас проходили одна за другой колонны заключенных. Все они были в одинаковых серых куртках и штанах, все бритые, без головных уборов. Впереди, сзади и по сторонам колонны шли солдаты с ружьями. «Кто это? Куда их ведут?» – спрашивали мы у родителей. «Заключенные», – отвечали они. «Они преступники?» – спрашивали мы. «Всякие есть…» – «А почему?» – «Вам рано это понимать…» Больше нам, детям, ничего не говорили, мы не любопытствовали, продолжали играть. Я с наслаждением нянчила хозяйских детей, очень их любила и не задавалась вопросом: где отец этих малюток?
В 1937 и 1938 годах мы опять сблизились с семьей Эггертов, ибо два лета снимали у них дачу. Легкие перегородки отделяли наши комнатки. Кушали мы всегда одновременно за одним столом, по утрам и вечерам вместе читали молитвенное правило, так что жили, можно сказать, одной семьей. Три девочки Эггертов, наши ровесницы, да нас, Пестовых, трое детей, да Лека (Ольга Ветелева), дочка соседки, – вот вся наша компания. Мы считались уже достаточно взрослыми, так что нам без взрослых разрешалось ходить в лес, пасти коз, собирать ягоды и грибы. Поочередно у нас гостили дети арестованных князей Оболенских: то Андрюша, ровесник Коли, то Николушка, ровесник Сережи, то Лиза. Нам было запрещено спрашивать об их родителях или интересоваться чем-либо из их жизни. Мы об этом не думали в одиннадцать-двенадцать лет, веселые игры и интересные книги заполняли наше время в летние каникулы. Читали мы только старинную дореволюционную литературу, подобранную нашими родителями. Папа проводил уже тогда с нами религиозные беседы, используя те часы, когда мы в жаркий полдень валялись, отдыхая, в прохладной тени сада. То были радостные часы, свет которых озарял впоследствии нашу жизнь. Отрезанные от греховного мира, окруженные лаской и заботой, находясь в обществе исключительно глубоко верующих людей, мы росли, не ведая ни о страданиях Церкви, ни о муках всего русского народа, ни о моральном падении общества, ни о зверствах в тюрьмах и концлагерях. А зимой нас так залавливали количеством уроков, что мы едва успевали одолевать школьные программы, ведь училась вся наша компания исключительно на пять, а это требовало многих часов прилежной усидчивости. Кроме школы я посещала изостудию, ходила одна около двух километров до детского Дома культуры. Заснеженными переулками мы ходили вечерами еще на частные уроки немецкого, французского и английского языков. А в зимние каникулы мы опять встречались с летними друзьями. То у нас, то у них устраивались веселые елки с угощениями и декламацией религиозных стихов. Заучивать их наизусть и рассказывать было для меня большим удовольствием. Мы ездили на целый день к Эггертам, гуляли по снежному лесу, катались с горы на санках, а по застывшему пруду – на коньках. Чистый морозный воздух, солнце, мертвая тишина кругом, иней и снег на ветвях елей – все это наполняло восторгом наши души. А в доме – тепло, уютно, душистая елка с зажженными свечами, горячий чай из самовара и улыбки дорогих друзей… Ни ссор, ни зависти, ни вина, ни страстей мы не видели, все было свято, прекрасно. Телевизоров еще не изобрели в те годы, а радио никто из «наших», верующих, не включал. Газеты читала мама, подчеркивала интересное красным карандашом, передавала папе со словами: «Вот, почитай. Ведь все врут и врут – нет правды». Иногда родители сокрушенно обсуждали общественную жизнь и политику. Папа, вздыхая, говорил: «Твори, Господи, Свою святую волю!» А мама говорила: «Ничего не останется в тайне, история обо всем расскажет, но не скоро, а лет через шестьдесят… Мы-то не доживем, а вы, детки, всю правду о том, что творилось в СССР, в свое время узнаете…» Так полное неведение о беззакониях, о тяжких грехах, о людях, современных нам и злобных, хранило мою душу от уныния и недоумения. А духовное чтение о святых, посещение Елоховского собора, знакомство с возвращавшимися из тюрем и ссылок монахинями и священниками – все это зажигало веру в Промысл Божий.
Я спала в одной комнате с мамой. Но очень часто мама уступала свою кровать неожиданным гостям, жившим у нас по неделе, по две, а то и дольше. Мама ухаживала за ними, как за святыми, пострадавшими за веру, даже часто шила что-то для них. Я спала с этими тайными монахинями в те дни в одной комнате, в углу на своем сундуке. Но никто никогда не рассказывал нам об ужасах тюрем и ссылок, видно, щадили наше детское воображение.
Когда нам было лет десять-двенадцать, папа иногда собирал нас по вечерам для духовного чтения. Обычно это было перед вечерней молитвой. Отец читал нам сам вслух Евангелие, объяснял притчи, указывал, как надо в жизни руководствоваться Священным Писанием. Папа читал нам жизнь святых и произведения Поселянина. Но он делал, как мне думается, ошибку в том, что в эти часы нам разрешалось жевать мягкие булочки, бутерброды, даже заниматься рукоделием. Мама учила меня шить, ребята что-то вырезали и клеили, наше внимание к словам отца рассеивалось. К сожалению, эти вечера продолжались только года два-три, потом нам стало некогда, появилось много уроков, часто кто-нибудь болел, а папа ездил в командировки или у него были вечерние часы в институте. Папа часто тяжело страдал приступами бронхиальной астмы. Мама всегда очень переживала его болезнь и пугала нас словами: «Умрет отец – я вас на одном черном хлебе буду держать!» Тогда мы, дети, начинали прилежно читать акафисты святым. Смысл текста был нам далеко не ясен, но мы твердо верили, что святые нас слышат и Бог исцелит нашего дорогого папочку. Мама научила нас молиться от души и своими словами. Когда папа болел или задерживался на работе, мама вставала вместе с нами и горячо выпрашивала у Бога благополучие нашему семейству. Для меня это был пример настоящей, искренней молитвы. Мы повторяли за матерью простые, понятные слова, обращенные к Богу: «Господи, дай папе нашему здоровье!» Поклон. «Господи, сохрани нашу семью от беды!» Поклон. Или: «Господи, прости нас, прими за все наше благодарение».
Мама жила под вечным страхом. Она боялась несчастного случая на улице, боялась ареста, боялась, что донесут о том, что мы верующие, боялась, что их уволят с работы. Однажды произошел следующий случай, характерный для того времени.
Отец мой около двух суток ехал в пассажирском поезде, возвращался в Москву из длительной командировки. В одном купе с ним ехали трое грузин. Они играли в карты, шутили, рассказывали анекдоты и выпивали. Папа не принимал участия в их веселье. Он тихо лежал на второй полке и молился. Грузины звали его в свою компанию, приглашали в ресторан, но он вежливо отказался, ссылаясь на нездоровье. Один из попутчиков не выдержал, вспылил и сказал:
– Вы, наверное, враг народа, потому что вы не вступаете в наш разговор, – видно, боитесь выдать себя. Погодите, мы до вас доберемся, вот приедем в Москву и сдадим вас на руки соответствующим органам.
Отец не смолчал, но сказал, что его оскорбляют их подозрения. Ведь он просто устал и болен, так зачем же его тревожить? Однако грузин не унялся.
– Пусть проверят, что вы за личность, – грозил он.
Сердце отца дрогнуло, ибо с ним была его Библия. Он боялся, что его станут обыскивать и, найдя Библию, донесут на работу о его мировоззрении. Но Бог услышал его. Один из попутчиков оказался порядочным человеком. Когда его приятели вышли, он шепнул:
– Не беспокойтесь. Я сумею напоить подлецов перед самым прибытием в Москву. Я уложу их спать, а вы, не теряя ни минуты, поспешите выйти из вагона и удалиться.
Отец поблагодарил грузина и последовал его совету. Поезд прибыл в Москву около десяти часов вечера. Была морозная зима, мы с мамой ожидали поезда на перроне, ибо получили от отца телеграмму с номером его вагона. Пропыхтел паровоз, поезд остановился. И первым, кто выскочил из вагона, был мой дорогой папочка. Я кинулась было к нему на шею, но он (впервые в жизни) тут же меня отстранил, кивнул маме и быстро, чуть не бегом, зашагал по перрону. Мы с мамой, ошарашенные его поспешностью, еле за ним поспевали. Мы влетели в первый попавшийся трамвай, огляделись и перевели дух. Полупустой вагон загремел и тронулся. Тогда папа шепнул: «Слава Богу! Кажется, мы одни, меня не преследуют».
В те годы родителям приходилось тщательно скрывать свои убеждения. Иконы стояли в книжном шкафу или за занавеской. Родители опасались ходить даже в дальние храмы. Закрылись несколько церквей, куда мы раньше ходили, были арестованы священники, посещавшие наш дом. Оставшиеся священники скрывались и тайно совершали требы по квартирам своих духовных детей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?