Текст книги "Крик Алектора"
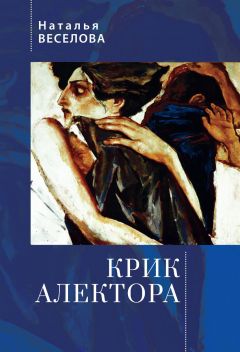
Автор книги: Наталья Веселова
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Ну, за удачное дело! – провозгласил кто-то из них, и, без всякой мелочности чокнувшись прямо полными бутылками, грабители стоя припали к горлышкам.
Они одновременно выдохнули на полпути, Толстый расчувствовался:
– Помню, компот мамка летом из свежих ягод и слив варила… Духовитый, густой такой, сладкий… Напомнил… А ядреный! Не Агдам какой-нибудь…
«А ведь и этих матери рожали… Воспитывали… По головке гладили… Компотом вот поили…» – смутно подумалось отцу Петру. Толстый снова присосался к бутылке, а Худой, не донеся ее до рта, о чем-то вспомнив, передумал:
– Не-е, моя только и умела, что водку жрать. А нам с сеструхой и хлеба вдоволь не было, – и он резко повернулся к связанному священнику:
– Ты вот мне, батек, скажи, если такой правильный: почему твой Бог одним все дает, а другим – шиш с маслом? Чего молчишь, рожу воротишь? Не знаешь? А я знаю. Просто нет там ничего, зря ты надрываешься, – отец Петр с ужасом увидел, что Худой с полбутылки портвейна уже пьян в дымину, видно, будучи алкоголиком уже на третьей стадии. – Потому что если б была там какая-то справедливость, то мою сеструху шестилетнюю мамкины сожители до смерти бы не зае. ли! И бабулька добрая, которая меня к себе жить после этого взяла, не померла бы оттого, что просто косой себе ногу порезала! И меня бы в детдоме табуреткой железной по хребтине не отоварили, так что на три года ноги отнялись, и в дом детей-инвалидов под себя ходить не кинули бы…
– Так вижу, отошли ноги-то? Значит, есть Бог? Потому что если б не было, то, по всему, вы тогда же и умереть должны были… – тихо сказал отец Петр.
– Ах, ты еще проповедуешь… – с непередаваемой ненавистью процедил Худой; он судорожно поднес ко рту бутылку, в несколько хороших глотков опрокинул остатки вина в глотку, отшвырнул в угол тару и обернулся на товарища: – Слышь, он тут проповедует, пидор жухлый!
– Хватит. Валить надо, пока деревня заснула. Скоро утро уже, – Толстый крепко перехватил подельника за локоть и потянул назад, но Худой легко, змеиным движением вывернулся.
– Ща пойдем. Только дельце одно доделаю. Быстро. Погеройствовать дам сучонку…
Едва ли не с мольбой отец Петр глянул на Толстого, но тот уже поворачивался спиной, направляясь к двери, всем своим видом показывая, что ему очень досадна эта заминка, но поделать ничего нельзя.
Худой меж тем быстро задернул шторы и включил настольную лампу, взгляд его заметался по комнате, ища что-нибудь пригодное для намеченной цели, – и немедленно уперся в старый электроутюг.
– Ага! Вот сейчас мы и узнаем, есть Бог или нет! – и он воткнул вилку в розетку.
Ужас захлестнул отца Петра слепой черной волной, пелена отчаянья застила глаза – и несчастный начисто позабыл, что можно еще воззвать к Богу и умолить Его. Вместо этого он со всей интеллигентской жалобностью, на какую был способен в четвертом поколении, обратился к мучителю:
– Послушайте, не теряйте человеческий облик… Вам потом самому будет стыдно… Вы не понимаете, что делаете… Вы просто выпили лишнего… А потом ужаснетесь…
– Кто – я? – вдруг почти трезво и спокойно удивился Худой. – Я уже ничему не ужаснусь. Ужасалка отвалилась.
Он медленно шел к жертве с утюгом в одной руке и маленькой книжкой Евангелия в другой. Утюг он поднес к щеке связанного так близко, что тот почувствовал нестерпимый приближающийся жар и запах паленой курицы: то уже загоралась его собственная борода… Он отклонялся, сколь мог, но в примотанном к стулу положении это удавалось плохо, к лицу приближалась знакомая книга – Евангелие, а с другой стороны несся усмешливый шип:
– Плюнь сюда и скажи: нет никакого Бога… Давай, а не то приложу…
Отец Петр не вынес: зажмурив глаза, он булькнул пересохшими губами и выдавил:
– Хорошо, хорошо… Нет…
Утюг отдалился от лица, послышался похабный смешок:
– Халтура, батя. Штрафная!
Он метнулся к стене и сорвал знакомого Нерукотворного Спаса. Все повторилось: угрожающий жар, попытки извернуться, только перед глазами теперь стоял ясноглазый Божественный лик.
– Плюй и говори: Ты не Бог. Я жду. А схалтуришь опять – половины морды лишишься.
– Не могу… – простонал пытуемый. – Не мучь… Тебе игра, а мне… Не могу…
Но в ту же минуту он ощутил, как каленое железо почти вплотную приблизилось к беззащитному лицу, как затрещали, сгорая, взмокшие волосы, еще доля секунды – и этот псих изувечит его!
– Не Бог, не Бог… – торопливо пробормотал несчастный. – Ну, хватит уже, что вы еще от меня хотите…
– Хочу ясного и твердого ответа! – сказали ему. – А ты пока только мычишь, как телок на бойне…
Позади приоткрылась дверь, пахнуло холодом из порядком промороженных сеней, послышался приглушенный голос Толстого:
– Ты сдурел?! Хочешь, чтоб мы спалились из-за твоего гонора?! Скоро петухи запоют, а мы все еще тут торчим! – однако настаивать он не стал, дверь снова притворилась.
– А мы быстренько… – пообещал Худой вслед ушедшему товарищу и с деланой наивностью воскликнул: – Ой, что это? У нас утюг-то остывает… Ох, беда какая… Ну, ничего, ты у меня сам сейчас петухом запоешь, падла! – и утюг был немедленно поставлен сползшему было книзу отцу Петру на удобно подставленный живот.
Он ощутил, как стремительно становится горячо, и задергался, но металл действительно подостыл за разговором и уже не мог причинить сильного вреда, особенно сквозь довольно толстый домашний свитер Валиной вязки.
– Прекратите это… Прекратите… Это варварство… – неубедительно молил несостоявшийся мученик.
А палач его тем временем нес уже заранее присмотренную Казанскую. Розетка сразу нашлась другая – прямо в стене рядом со стулом, и вилка немедленно была воткнута туда. Отпустивший было жар начал исподволь зреть снова…
– Богородицу – не могу… За это накажут… Обоих накажут… Вы просто не знаете… – извиваясь, бормотал отец Петр, но путы держали его крепко, а утюг хоть и подрагивал, но держался на животе; сквозь слезы он уже не различал черты Божией Матери, только видел сероватый блеск небогатого жестяного оклада…
– Давай-давай, – напомнил мучитель. – Не то сейчас утюг в кишки провалится.
Терпеть было уже нельзя, свитер горел, секунда – и раскаленное железо оказалось бы на беззащитной коже… Заливаясь слезами он уже не пробовал сопротивляться и хрипло взвыл:
– Убери!!! Скажу!!! – утюг был немедленно снят, и, содрогаясь от рыданий, отплевываясь от хлынувших кипящими струями слез, страдалец выкрикнул: – Нет Бога! Нет! И не было! Не рожала Его Дева! Довольны?! Теперь уж лучше убейте!!!
Худой невозмутимо выдернул шнур из розетки:
– Зачем? Ты теперь живи, батек. Служи вон. Вино другое купишь. Денег еще наберешь у идиотов. А свитер тебе баба какая-нибудь заштопает…
Вдалеке раздался первый хриплый крик прочищающего горло петуха. Грабителям нужно было торопиться.
Отец Петр обернулся от окна. Седая его голова стала еще белее под молочным небом, карие глаза среднерусской породы славян отразили свет непогашенной лампы, сделав его на миг похожим на великого тезку.
– Я так и сделал, как он сказал. А что мне оставалось? Сан слагать? Приход бросить? А самому куда? Для этого тоже мужество нужно… Только с того дня и до этого, когда причащаюсь в алтаре, – иначе нельзя, люди смотрят – Причастие для меня всегда на вкус, как плесень. Даже если другой священник Дары освящал. Будто от горбушки, позеленевшей откусил. Так-то, – он помолчал с минуту. – Ну, что скажете, адресаты? Вот вам и отступник для вашей теплой компании. Пойдем или так оставим, не поверим?
Убийца встрепенулся, глянул бодрячком:
– Идти, вроде, надо…
– Ну, мне-то, в любом случае, к приключениям не привыкать, – улыбнулась блудница.
3. Адресант
«Если до того момента я еще сомневалась, приписывала его отношение простому дружеству, интересу к моей оригинальности, то именно теперь за столиком у Quisisana[13]13
Кафе «Квисисана» в Санкт-Петербурге, на Невском, 46, популярное в начале 20-века; ныне – кафе «Север».
[Закрыть], я окончательно убедилась в любви Г. Не могли лгать его ясные голубые глаза, так тепло, так нежно смотревшие мне в лицо, – и я ободряюще улыбнулась в ответ на невысказанное признание».
Герман с недоумением глянул на обложку тетрадки: мелкие, увитые богатыми крендельками и росчерками буквы складывались в едва читаемое название: «Заметки для романа «Живительная любовь» писательницы Надин фон Леманн». «Ах, она еще и писательница!». Он почти захлопнул тетрадку, когда глаз вдруг резануло это изогнутое на манер недавно еще модной дамской шляпы заглавное «Г» – первая буква его собственного имени. Да и в сомнительной «Квисисане» они с этой Надин действительно сидели много месяцев назад, когда у него еще теплилась надежда… Он прикрыл глаза, и под веками словно что-то зазолотилось: это память вернула его в теплый после изнуряюще жаркого дня июльский вечер восьмого года, когда она впервые уговорила Германа «влезть» на некую известную «в ее кругах» богемную «башню Иванова», в которой можно встретить самых выдающихся людей – и даже запросто с ними пообщаться… Да, да, он прекрасно вспомнил теперь опаловый свет угасающего дня, из таинственных недр памяти всплыла даже отчетливо видимая сверху, из огромного окна второго этажа, у которого они с Надин сидели, бордовая лысина городового, появлявшаяся в те моменты, когда он, отдуваясь, снимал фуражку и быстро протирал голову огромным клетчатым платком; живая картинка – веселая барышня в светлом смеется на империале проехавшей синей конки над, должно быть, удачной шуткой вопросительным знаком изогнувшегося над ней дылды-студента; на сердце пустота и темнота… Как лекарь, он понимал, что душу точно не может тошнить, – но испытывал смутную общую дурноту, его, определенно, мутило именно душевно – при полном физическом здоровье. И прежде всего, при виде этой самоуверенной женщины, странно растягивавшей слова:
– Представля-аете, Герман, что он мне сказа-ал, нет, что он сказал, этот профессор! Это же так отврати-ительно… Вот досло-овно: «Оставьте, милейшая Надин, прерогативу создавать миры на-ам, мужчинам. Поверьте, это совершенно не женское заня-атие… Вам пристало розы писа-ать, букеты… Пейза-ажи, на худой конец. А то, на что вы зама-ахиваетесь – не женское, совсем не же-енское искусство! А ведь наши рисовальные классы – для да-ам… Вас неправильно пойму-ут…». Представляете? Нет, вы представля-аете, Герман? Создавать миры могут только мужчи-ины, а меня, с моим умирающим Бонапа-артом – неправильно поймут? По-вашему – то же, женщины не должны создава-ать миры-ы?
– Женщины дают новую жизнь – и каждая из них – целый мир, – попробовал отвертеться Герман, но сразу вспомнил, что, поскольку детей у Надин нет и, скорей всего, не будет, то ей и здесь не повезло.
– Ах, нет, Герман, это совсем не то, – опять завертела она свою шарманку, но слушать излияния по теме женского равноправия было выше его сил.
Он молча пил кофе, дежурно улыбался ей в шляпу и думал, насколько же может быть человек слеп. Взять хоть ту же Надин. Всею собою, во всех проявлениях она иллюстрировала женскую глупость и бездарность – и при том считала себя высоко одаренной художницей, писала маслом умирающего на своем последнем острове Наполеона; Герман видел несколько раз в ее мастерской начатую картину – неумелая мазня, удручающее зрелище… Не желал бы он умирать в окружении такого количества исключительных уродов с разновеликими конечностями и плоскими кровожадными лицами! Но богатая дура – наследство ей какое-то на голову свалилось в доказательство того, что дуракам везет, – могла себе позволить любую прихоть, например, превратить чердак собственного особняка на Петербургской стороне в «парижскую мансарду», благо потолок там был как раз скошенный. Туда же она велела притащить несколько мольбертов, разложила по столикам палитры и кисти, расставила всюду гипсовые головы, живописно развесила ткани – и получилась стилизованная «мастерская» – так чеховская героиня стилизовала столовую под крестьянскую избу – гордость Надин и обязательная достопримечательность дома, к которой был приговорен любой доверчивый гость.
Не вслушиваясь в плавную, совершенно бессодержательную речь, полную трюизмов, он иногда медленно кивал, чтоб не обидеть праздную болтунью, и все ждал момента повернуть на главное. Заодно он исподтишка рассматривал ее – и снова поражался. Невозможно было поверить, что девице не более двадцати пяти лет, – казалось, подкатывает под сорок. Но Надин, вероятно, вполне устраивала собственная внешность, а жизнь свою, со стороннего взгляда, заведомо обреченную, она вовсе не считала несложившейся. Без всякой застенчивости она вела себя, как записная красавица и кокетка, с отрочества не знавшая отбою от докучливых кавалеров, и одета была по последней, должно быть, парижской моде, в светлую юбку до щиколоток, с широкой завышенной талией, подчеркивавшей грудь в белоснежной блузке с высоким, почти мужским воротником… Но не ей бы все это носить! Как врач, он умел с первого взгляда примерно оценить вес пациента и мог с точностью до пары фунтов определить, что весу в Надин фон Леманн чуть меньше, чем восемь пудов[14]14
пуд = 16 кг
[Закрыть] – и даже частица «фон» перед ее немецкой фамилией каким-то образом добавляла ей тяжести. Никакие корсеты, в которых монументальная дама еле дышала, ухитряясь, тем не менее, отправлять в рот и благополучно проглатывать филипповские пирожки, ее не спасали, и весь наряд, предназначенный для легкой, узкобедрой, будто летящей дамы, смотрелся на ней забавно до карикатурности – да еще с этим массивным аметистовым ожерельем! А уж про смело выставленные напоказ щиколотки и говорить не стоило – из-под стола кокетливо выглядывала слоновья ножища, обутая в узконосую кремового цвета туфлю лакированной кожи и на пуговичках, что выглядело даже несколько жутковато… Широкополая, с целой клумбой наверху шляпа сидела на округлой массе подобранных кверху локонов – вот только под локонами пряталась – и просвечивала сквозь жидкие темные пряди толстая рыжеватая «крыса»[15]15
Жаргонное название подушечек из конского волоса, которые подкладывали в прическу для имитации густоты волос в начале 20-го века.
[Закрыть]… И притом, если уж она так следит за своей внешностью, то купила бы простой актерский грим, чтоб замазать коричневатые пятна на скулах, фиолетовые следы от выдавленных прыщей, темные тени под глазами, идущие от нездоровой печени, – она что, всего этого не видит? А золотые пломбы в слегка выступающих передних зубах! И, как специально, все время улыбается, считая, вероятно, свою улыбку обворожительной! Герман вспомнил мать, которая щавелевой кислотой, нанесенной на кончик зубочистки, выжигала у себя на шее малейшие, почти никому не заметные серые старческие родинки, а у Надин две крупные коричневые бородавки росли себе спокойно по обеим сторонам подбородка, из одной кудрявился жесткий черный волос – но ей, при всех ее туалетах и ароматических притираниях, и в голову не приходило пойти и удалить их в специальной клинике, под хлороформом – привыкла к ним и не замечала, что ли? Но разве такое возможно?.. Между тем Надин прикоснулась к его легкомысленно подставленной руке своими пухлыми, чуть заостренными пальцами, поросшими легким черным пушком по нижним фалангам – и он вздрогнул от легкого отвращения.
– Так что, идем на Башню? Честное слово, Ася Тургенева опять будет стоять на голове… Обещаю! А если сама не встанет – я лично попрошу! Для вас.
Герману совершенно не хотелось смотреть, как какая-то сумасшедшая истеричка будет совершать противоестественные трюки, но в этот момент к столу приблизился слегка разочарованный официант. Раз они не пили шампанского и не ели трюфелей, то и особо вежливого обращения не заслуживали. Кроме того, опаловое сиянье за окном, переливаясь, постепенно переходило в цвета сапфира: приближалось время ресторану превращаться из приличного места в ночное «гнездо разврата».
– Господа еще чего-нибудь желают? – с легкой наглецой спросил официант.
А Герман вдруг до холодного пота испугался, что этот мелкий лакеишка сочтет Надин его женой и презрительно пожалеет тощего барина, приняв за бедняка, женившегося на уродливой жабе из-за денег. Он торопливо чуть ли не крикнул через стол идиотскую церемонную фразу:
– Конечно, Надежда Николаевна! Почту за честь, если вы меня им представите! – уж это-то должно было полностью разубедить всех подозревающих вокруг!
Надин удовлетворенно сверкнула своими пломбами. Сбоку от нее на стене Гостиного Двора осветили электричеством квадратную рекламу: «"Перуин" для ращения волос» – и тонула, тонула в бурном море собственной растительности роскошная брюнетка в парижском корсете… «Хоть бы ты себе этот «Перуин» купила… – злобно подумал Герман. – Тогда, может, хоть «крыс» бы подвязывать не приходилось!». До той минуты он собирался не тащиться к незнакомым, судя по всему, слегка умалишенным людям, а посадить Надин в ее коляску, откланяться и спокойно пойти спать перед завтрашним ранним подъемом в больницу, раз уж не удалось сегодня заставить ее заговорить о Евстолии, – она просто не обращала внимания на наводящие вопросы, упоенно рассуждая о себе самой. Но после дурацкой фразы, отчаянно выкрикнутой ради не вовремя возникшего лакея, отговориться не представлялось возможности, и, бледный от злости, Герман отодвинул толстухе стул, автоматически предлагая руку…
Внизу немедленно подкатил экипаж, Надин весело крикнула своему кучеру: «Угол Тверской и Таврической![16]16
По этому адресу располагалась знаменитая «Башня Иванова», где в первой декаде XX в. собиралась богема.
[Закрыть]», и, подсаживая тучную барыню, Герман подумал, что хорошо бы сейчас захлопнуть за ней дверцу – и бежать, бежать по Невскому прочь, со скоростью мальчишки-газетчика… Но тогда не осталось бы в целом свете ни одного человека, от которого иногда, не каждый день, по чужой прихоти – но все-таки можно было узнать о Евстолии что-то новое. Он покорно примостился рядом. Ее похожая на чудовищный круглый столик с цветами и фруктами шляпа с размаху ударила ему по канотье и чуть не сшибла его с головы. Верх уже был поднят, и в полутьме висел сладкий и душный запах обожаемых госпожой фон Леманн недавно бурно ворвавшихся в моду «Coty»…
«Только прикосновение полей наших шляп сдержало предполагавшийся поцелуй. Я не знала, жалеть или радоваться. С одной стороны, любовь властно требовала своего, а с другой… Так приятно было знать, что все еще впереди, все только начинается, – и не торопить и без того стремительно развивавшиеся события. Я придвинулась ближе, стремясь к еще большей уединенности, но Г., видимо, смущенный только что чуть не свершившейся intimité[17]17
Интимностью (фр.).
[Закрыть], застенчиво отвернулся и принялся слишком старательно разглядывать то, что видел на улицах… А что там было рассматривать? Темнота сгущалась, и, когда мы свернули с торцевой мостовой освещенного электричеством Невского, наш путь освещали только редкие газовые фонари… Мне отчего-то сделалось грустно-грустно… Вспомнилась нелепая смерть Лидочки Аннибал[18]18
Лидия Зиновьева-Аннибал, первая жена поэта Вячеслава Иванова; умерла от скарлатины в 1907 г.
[Закрыть] – от детской болезни, после почти полугода мучений, да еще весь тираж ее книги[19]19
«33 урода»; СПб, 1907.
[Закрыть] именно во время смертной болезни был арестован цензурой, что, наверняка, эту смерть приблизило… Как она тогда кинула горящую керосиновую лампу в эту Санжаль, когда та пристала к ее мужу – хочет, видите ли, родить ребенка от гения… Я при этом присутствовала – Санжаль увернулась, а огонь вспыхнул на ковре! Мы бы, наверное, все так и сгорели там живьем вместе с Башней, если бы Иванов не сорвал со стены другой ковер и не швырнул его на пламя! И вот уже нет Лидии, зато ее дочка[20]20
Вера Шварсалон, дочь Л. Зиновьевой-Аннибал; после смерти матери вышла замуж за своего отчима В. Иванова в 1909 г.
[Закрыть] почти не скрывает, что у нее роман с отчимом… Как все перепуталось… И все равно интересно, красиво, необычно, никаких серых будней, когда знаешь, что снова настанет среда и всегда можно к полуночи приехать на гостеприимную Башню… Почему говорят «среды», когда собрания начинаются после двенадцати ночи? Правильней бы «четверги»… Я осторожно повернула голову в сторону Г. Понравится ли ему там? Не сочтет ли он милые проказы моих друзей эпатирующими эскападами? А вдруг это повредит высокому мнению, которое у него обо мне сложилось? Ведь он – доктор, ему совсем незнакомо общество художников и литераторов… Вдруг он решит, что и я, его избранница, способна, завязав юбки вокруг ног, встать на голову, как Ася? И, может быть, уже делала так, раньше, без него? А как Мейерхольд с Верховенским изображали слона! Спереди был Мейерхольд с хоботом, а Верховенский «изображал» зад… Вдруг для Г. это вообще неприлично – так вести себя взрослым людям, господам литераторам?.. Я заволновалась, пытаясь заглянуть Г. в лицо. Но увидела, что мой любимый улыбается краешком губ… Это было такое счастье! Я едва не сказала ему, что пора, наконец, отбросить все условности, что мы любим, что нельзя упускать драгоценное время, растрачивать часы и часы на обязательные в приличном обществе «ухаживания»… Какой вздор! Сейчас обнять его, сбросить тяжелую шляпу, растрепать свои густые шелковистые волосы, упасть к нему на плечо и сказать… Сказать: «Милый, милый…».
Герман двумя ладонями схлопнул тетрадь. Несмотря на весь высокий трагизм ситуации, он испытал приступ острого гнева, только сейчас полностью осознав, что весь текст романа, к счастью, так и оставшегося в набросках, касается его самого и описывает – в дикой, извращенной, безумной форме! – все их с Надин отношения – если редкие встречи и разговоры, которые он всегда с разной степенью успешности пытался повернуть на Евстолию, вообще можно было назвать «отношениями», а не эпизодическим, весьма поверхностным общением. Да, он не возражал этой женщине на ее пустые, хотя и претендующие на оригинальность высказывания, – но лишь потому, что она, обидевшись, отказалась бы периодически видеться с ним и невольно выдавать крохи сведений о своей институтской подруге, его недостижимой возлюбленной. А эта мегера, оказывается… Оказывается, она все это время лелеяла о нем гнусные мечты, представляя его с собой в таких ситуациях, что догадайся он об этом – и мог бы ударить мерзавку по лицу… Он-то знал, о чем мечтают страдающие неразделенной любовью! И вот эта – жирная, бородавчатая, приторно-вонючая, с нечистой кожей, волосатыми пальцами и огромными, наверняка, тоже волосатыми ногами бабища – представляла себе по ночам, что он… с ней… Вот тут Герман почувствовал приступ приземленной, а не возвышенной душевной тошноты, как тогда, в «Квисисане»… А его она спросила?! Ведь мечта каким-то образом затрагивает и того, о ком мечтают! Наука еще не знает – каким, но это факт! Он почувствовал себя оскорбленным просто тем, что эта зажравшаяся миллионерша, не знающая, каким еще порочным удовольствиям предаться, смела о нем мечтать – о нем, молодом красавце-докторе, образованном дворянине!
Но в этот момент Герман вспомнил, почему вообще эта тетрадь оказалась у него в руках и сразу присмирел, задумался… Так выходит, она его любила… Так же, как он любил Евстолию… Нет, Бог, конечно, есть… И дивны дела Его…
Как ни старался он окончить с медалью единственную мужскую гимназию в уездном городе Острове – подкосили на выпускном сочинении. «Литературные творения Екатерины Великой»… Гм… Да той минуты он вообще не знал, что она разродилась какими-то «творениями», – переэкзаменовки удалось избежать, выскочив на общей эрудированности и получив унизительное «посредственно», но с мечтой о медали пришлось распрощаться, как и с казенным коштом в Санкт-Петербургской медико-хирургической Академии, на который она давала бы право… В тот день он серьезно думал о том, что выкрадет у отца из кабинета охотничье ружье, зарядит крупной дробью, как на кабана, уйдет подальше в чащу и выстрелит себе в голову, встав на крутом берегу глубокого и опасного лесного озера, в котором не всплывают трупы: тамошние ужасные подводные течения, как известно, утаскивают утопленников через целую цепь более мелких озер в последнее, заболоченное, никого и ничего не выпускающее из цепких лап трясины… Горевать никто особо не будет: у родителей он был единственным поздним ребенком, мать не дожила до минувшей Пасхи, упорно соблюдая строгий Великий Пост, несмотря на прогрессирующую чахотку, а отец… Угрюмый и равнодушный человек, сломанный бедами запойный пьяница, промотавший свое и женино состояние и доживающий из милости управляющим в имении богатого и веселого друга бурной юности, может, и вовсе не огорчится, потеряв своего никчемного захребетника… Терзать от отчаянья седую бороду он, в любом случае не станет…
Набожность в гимназии была не в почете, поэтому страха перед вечным загробным наказанием юноша тоже не испытывал. Будущего он не видел: при мысли о том, что ждет его участь приказчика в мелкооптовой лавке или нищего телеграфиста на станции, холодело сердце: с очевидной способностью к учению, страстью к естественным наукам, горящим сердцем – прозябать в омерзительном деревянном городишке, с октября по апрель тонущем в какой-то особой, эсхатологической грязи, а с мая по сентябрь похожего на забытый домашний аквариум с мутной зеленью по стенкам и полудохлыми бледными рыбами, еле-еле шевелящими плавниками, – чем жить в таком городе нищим чиновником, медленно спиваясь, как отец, лучше уж покончить со всем разом.
Ружье он добыл тем же вечером, просто взяв его со стены над диваном, где храпел пьяный «папенька», унес к себе, со знанием дела разобрал, почистил и смазал, чтобы избежать досадной осечки, способной поколебать твердое решение, не спеша зарядил оба ствола и поставил спусковые крючки на предохранитель. Все было готово. Понимая, что спать в эту последнюю ночь не придется, юноша вышел в господский сад, где, будучи, в целом, чуждым любой романтике, хотел все-таки напоследок взглянуть на далекие холодные звезды в светлом летнем небе – и вдруг, повинуясь смутному полурелигиозному-полусуеверному порыву, загадал что не станет стреляться, если увидит, как упадет звезда. Но пора звездопадов еще не настала, и вероятность увидеть промчавшийся по небу метеорит была ничтожно мала – Герман это знал, поэтому загад его мог считаться вполне честным.
Выйдя на открытую полянку неподалеку от барской усадьбы, молодой человек задрал голову и принялся с удивившим его самого волнением пристально разглядывать слабо видимые на бледно-фиолетовом небе звезды, вполне отдавая себе отчет в собственной трусости: выходит, не очень-то и смел он перед лицом вольной смерти, раз так трепещет в ожидании знака надежды! Он разозлился на свое малодушие: сколько можно смотреть?! Что за ерундистика?! Конец девятнадцатого века на дворе, естественная наука – та, в которой ему никогда не преуспеть! – идет семимильными шагами к полному познанию мира, а он поддался каким-то бабкиным предрассудкам! Ведь очевидно же, что не будет никакого знака, да и некому его подавать оттуда! Именно в ту секунду, прямо в подставленное лицо Германа словно кинули горсть переливающихся алмазов. Юноша даже инстинктивно зажмурился и втянул голову, словно звезды действительно могли на него просыпаться, как небесное зерно! Словно Кто-то огромный и невидимый в непостижимой высоте доброй усмешкой отозвался на пустой мальчишечий бунт: «Ах, ты не веришь в Меня? Ну, получай!».
Герман словно очнулся. Он стоял один в сырой серой траве под спокойным сиреневым небом. Хотелось спать, зевота выворачивала челюсти, глаза часто моргали, будто засыпанные песком. Он еле добрел до их с отцом длинного одноэтажного флигеля, вяло отвел рукой дернувшегося навстречу из-под крыльца веселого и ласкового сторожевого пса, на ходу расстегивая рубаху, нетвердыми шагами прошел по коридору и рухнул к себе на узкую постель поверх сурового солдатского одеяла, уже в полусне скидывая ботинки на дощатый крашеный пол. Сначала с тихим стуком упал один, сквозь сон юноша с недоумением ждал второго глухого удара, дрыгнул ногой в нетерпении, стряхнул ботинок с кровати – и с удовлетворением погрузился в непроглядный сон.
Летом даже пасмурные дни исполнены серебряного света. Проснувшись, Герман увидел, что самые обычные предметы в его комнате – письменный стол, глобус на нем, хрупкая этажерка с книгами, чернильный прибор в виде деревянной собаки, положившей лапы на подставку для перьев, пресс-папье с треснувшей перламутровой ручкой, гимназический ранец на венском стуле, распахнутый шифоньер, мирно вытянутая вдоль тела рука – все это было словно покрыто тонким слоем серебристой пыли – и страшно было пошевелиться, разрушить таинственную прелесть новорожденного бессолнечного дня… Но вдалеке, за кухней, из отцовского кабинета, слышались яркие мужские голоса, причем, прозвучало раскатистое «р» его нечасто встречающегося имени. Быстро стряхнув серебряный морок, молодой человек вскочил и высунул голову за дверь, прислушиваясь. Немедленно раскрылась и дверь «девичьей» – небольшой каморки у входа, где жили две молодые вдовушки: уродливая горничная и красавица-кухарка, которой Герман был тайно благодарен за то, что вчера собирался свести счеты с жизнью хотя бы не девственником. С тех пор она пользовалась подобием его дружбы – во всяком случае, служила добровольным агентом во всех доступных ее любопытному носику делах, а он за это иногда дарил ей платки и сережки и разрешал называть себя наедине на «ты» и по имени. Вот и теперь она быстрыми мелкими шажками пересекла коридор и без приглашения шмыгнула в комнату бывшего возлюбленного, ловко прикрыв за собой дверь:
– Ох, Герочка, сокол мой, дела-то какие! – секунду подождав поцелуя, обманувшись и не обидевшись, жарко зашептала она. – Усылают тебя господа отсюда! На учение, в самый Петербург!
В груди горячо плеснула, но сражу же опала волна радости:
– Нет, Глаша. Это отец еще думает, что я с медалью выйду. Не знает, что я сочинение по Екатерине Второй провалил. Ну, почти… Вчера отметки объявили. Так что даже похвального листа не будет… Денег у нас – сама знаешь: на жалованье управляющего разве разбежишься… Так что не плачь, – он по-хозяйски вытер ей ладонью небольшую, еще хранившую утреннюю серебряность слезу, – дальше Острова не ушлют или вообще здесь оставят отцу на смену…
– Дослушай же! – вырвалась девушка. – Знает все старый барин! Сама слышала, как он твоему папеньке час назад говорил: эка, мол, великая писательница – Катька с ассигнации! И немудрено, что парень ее россказней не читал, я бы, мол, вообще «неуд» схватил, а твой, вишь, еще выкрутился, переэкзаменовку не схлопотал, головастый… Я под дверью стояла, как мышь, тихо, а они – вон, как басят, чисто трубы иерихонские! Все до последнего словечка, не сомневайся. Барин за ученье заплатит – так и сказал. Отпрыск твой, говорит, к естественным наукам склонность имеет – так вот и сделаем его доктором. Барыня как раз в нашей деревне больницу с этой, как ее, проклятую… амбулаторией… строить собирается – как царица, хочет быть. Тебя сюда, когда курс кончишь, главным доктором и поставят… Это уж как пить дать, раз барин сказал…
Герман прислонился к дверному косяку, ноги подкашивались – ночная горсть небесных бриллиантов только сейчас до него вполне долетела. «Господи, а ведь Ты есть, – прозвучало не в голове, а в сердце, как молитва у исихаста. – Потому что, если б не было, лежал бы я сейчас без башки на дне болота…».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































