Текст книги "Лестница Иакова"
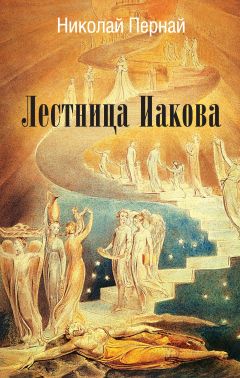
Автор книги: Николай Пернай
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Что случилось, подумал я в тревоге? Даже Васыль, глиста коровья, морду воротит.
Был необычно прохладный для лета день. У става опять оказалось много животных и людей. На берегу и в воде пребывало десятка три коров и столько же коз.
Никто на Пэмынтенах коз не держал. Как выяснилось, прожорливые животные были из магалы Берестечко; там они выгрызли все окрестные луга и в поисках корма прибыли на наш имаш.
У гребли горел костерок, у которого, жмурясь от кизякового дыма, сидела стайка подростков, знакомых – Адаська Поп, Жорка Баранец, Иван Мындреску, Лёня Драган, Сянька Шмаркатый – и несколько незнакомых. А хозяйничал не кто иной – Васька Кривой, которого я в последнее время видел редко. За последние шесть-семь лет внешне он почти не изменился, только резче обозначились морщины лунообразного лица да жидкие кацапские усы и бороденка проросли чуть гуще. Конечно, это он, козий пастух, привел свое стадо к нам.
Кривой рассказывал пацанам очередную байку, но, увидев меня, прервался, изображая повышенную любезность:
– А вот и наш старый друг Паша!.. Садись с нами, Паша… Ну-ка, пацаны, подвиньтесь, уступите место нашему грамотею…
Я сел к костру рядом с Сянькой. Он что-то невнятное буркнул и отодвинулся от меня. Кривой заметил это:
– Ты что, Сяня? – Ласковый голос Васьки выражал удивление.
– Не буду я… с Фенимором…
– А чего так?
Сянька втянул голову в плечи и молчал.
– Что, Сяня? Говорят Паша обидел тебя? – по-родному, с пониманием поинтересовался Васька.
Сянька втянул в нос изумрудную соплю и отвернулся, продолжая напряженно молчать.
– Вишь, обижаются на тебя пацаны, Паша… Обижаются, – укоризненно по-отцовски попенял мне Кривой.
– Говорят, Паша, что это ты стуканул молдаванам, что пацаны пойдут на бахчу.
– Это неправда! Шмаркатый с Васылем сами полезли, и их поймали. Меня не было с ними! – переходя на крик, пытался я оправдаться.
– Да ты не кричи… Не был так не был… Разберемся. – Голос Кривого звучал по-семейному миролюбиво. Он по-прежнему изображал заботливого родителя, но делал вид, что знает нечто такое, что другим не дано. – Разберемся!.. А стукачам наш Сяня ещё покажет… Правда, Сяня?.. – Похоже, что Кривой науськивал Шмаркатого на меня.
Артист! Интересно, когда-либо в своей хитро-мудрой жизни случалось Ваське Кривому бывать искренним?
Обеденный перекур с дремотой продолжался.
Васька Кривой завернул свою знаменитую козью ножку, и, крепко затянувшись махорочным дымом, вдруг предложил:
– Давайте попросим нашего Васятку сплясать нам вприсядку.
Васыль сидел в стороне понурый. Плясать он не мог: после пыток в камышах раны еще не зажили.
– Ну, Трындысыль, изобрази что-нибудь.
Видя, что деваться некуда, Васыль еще немного для порядка пожеманился, но, как прирожденный артист, конечно, не мог удержаться от соблазна покрасоваться перед публикой. И в очередной раз отчебучил-таки серию картинок с сербиянкой.
Народ стонал от избытка сексуальных образов.
Под конец артист пропел скороговоркой:
Мне говорили все в округе,
Что я слаба на передок,
Ругала мать, отец, подруги,
Судили все, кто только мог.
Старухи зло шипели в спину:
«Смотри, намылилась опять!
Ах, девка! Ягода-малина!
Всем хороша, да только блядь!!
Половозреющая публика рыдала от восторга и исходила слюной.
Когда овации улеглись, Кривой выступил с новой инициативой:
– Давайте, хлопцы, сыграем в игру «баба-орба». – Надо отдать должное, потенциал дьявольской изобретательности у Васьки никогда не иссякал.
Поскольку никто не знал, что это за игра, Кривой стал объяснять:
– Сначала выбирают водилу. Ему завязывают глаза, чтобы ничего не видел, ставят в центр круга, крутят, чтоб закружилась голова, и дают в руки палку. Все отбегают, но не далеко и дружно кричат: «Баба-орба, баба-орба», что значит слепая баба. Водила, он же «баба-орба», должен бросить палку. В кого попадет, тот становится «бабой-орба». Потом всё как в сказке: чем дальше, тем интереснее.
Всё было понятно. Стали играть.
Раз за разом в круг становились то Иван, то Адаська, то Лёнька Драган. Им завязывали глаза старым шарфом и несколько раз заставляли крутиться вокруг собственной оси. После этого все отбегали и начинали кричать «баба-орба», и каждый из водил пытался бросить палку в тех, кто кричал. Но, оказывается, сделать это было не так-то просто из-за головокружения. Например, Иван дважды брал в руки палку, но тут же, спотыкаясь, падал, как пьяный, и только в третий раз у него получилось: попал в Адаську.
Игра была простой и казалась довольно примитивной. Но вскоре выяснилось, что в ней была одна ма-а-а-ленькая хитрость… Точнее, подлость… Которая…
Никто не обратил внимание на то, что Васька Кривой отошел в сторонку, снял штаны и справил нужду по-большому. Ну, бывает, подумалось, приспичило человеку…
Кривой так же незаметно вернулся в круг с палкой в руках. В это время водилой был Сянька Шмаркатый. Всё шло как обычно, Сянька с завязанными глазами, шатаясь, дважды пытался бросить палку и дважды, шатаясь, падал.
А когда в третий раз ему завязали глаза и начали снова крутить, ко мне подковылял Васька, и, по-свойски подмигнув как старому приятелю, быстро сунул мне палку, наказав:
– Подай Сяньке!
Всё пастушье сообщество дружно заорало: «Баба-орба, баба-орба!», и я, как было велено, не глядя, сунул палку в Сянькину руку и… тут же понял, что делать этого не следовало: другой конец палку был измазан человеческим калом.
Я заметил это слишком поздно.
Почуяв неладное, Шмаркатый сорвал с глаз шарф и непонимающе уставился сначала на палку. Потом на меня. Запах говна улавливался теперь отчетливо. Я стоял рядом, поняв вдруг, что совершил что-то нехорошее. Сянька, шатаясь, – его качало – рванулся ко мне, но споткнулся и упал на одно колено. Потом он дико завизжал и, вытерев правую руку о штанину, вытащил из карманы складной нож, зубами открыл лезвие и с дурным криком «Зареееежуу! Сууукаа!» кинулся на меня.
Раздумывать было некогда. Что было сил я рванул к гребле и через несколько мгновений был уже на другом берегу пруда. Шмаркатый, рыча как дикий кабан, помчался за мной. Перепрыгивая через лежащих коров и коз, я поскакал к камышам. Сянька – за мной. Но, добежав до камышей и вспомнив, что там болото – пути нет, – я свернул влево, на холм.
Бежать было трудно, но Сянька не отставал. Взбираться вверх было всё труднее. Мы уже не бежали, а карабкались по лысой поверхности холма. Шмаркатый продолжал преследовать меня, сжимая в руке ножик и время от времени изрыгая новый каскад ругательств.
«Откуда у него такая неиссякаемость?» – думал я, с трудом переводя дух.
Гонка по пересеченной местности продолжалась довольно долго, и мы оба, я и преследователь, мало-помалу так измотали себя, что поединок становился бессмысленным. Сянька, наконец, отстал и присел на подвернувшемся бугорке.
Я тоже присел и только тогда понял, как сильно устал от беготни, от напряжения и бестолковости всего происходящего.
Сянька был далеко, он всё сидел и сидел, обняв голову руками. Даже если он и посылал угрозы в мой адрес, то теперь я их не слышал. Потом он поднялся и, не глядя в мою сторону, пошел к ставу, воды которого сверкали далеко внизу.
Посидев еще немного и отдохнув, я тоже двинулся обратно. Выйдя на простор холма, осмотрелся: коровы, козы и пастушки далеко ушли от места обеденного привала, стадо растянулось по пастбищу. Пока я спускался с холма, животные ушли еще дальше.
Спокойная ходьба привела голову в порядок. Будь что будет, думал я. Если Шмаркатый еще не успокоился, то – ничего не поделаешь – придется драться. Я, конечно, виноват, но бегать больше не буду…
Моя Флорика спокойно паслась вместе с другими коровами. Несколько пацанов играли в «чику». Сяньки нигде не было видно.
– Ты куда пропал? – увидев меня, спросил Ленька Драган. – Ты что, дрался с Сянькой?
Я молчал, не зная, что сказать. Ведь никто не видел, чем мы там, на холме, занимались. Никто не видел, что я просто бежал от Шмаркатого.
– А где Сянька? – спросил я.
Оказалось, он вернулся примерно час назад, когда коров и пастухов у озера уже не было: все разбрелись по долине. Сянька нашел свою корову и ушел.
Просто, ушел. Молча, ничего никому не сказав.
Васька Кривой со своим козьим стадом тоже откочевал к Берестечке.
* * *
Сяньку я долго не видел: он на нашем пастбище больше не появлялся. Но после инцидента с ним я обнаружил, что в окружающем мире что-то изменилось, стало не таким, как было.
Удивительно было то, размышлял я, что Шмаркатый, про которого все знали, что он, такой вроде бы недалёкий умом, всеми презираемый и униженный, он, такой вроде бы трусливый и подловатый … именно он, неожиданно озверел и бросился с ножом на обидчика. На меня – недрачливого Фенимора!
Наверное, впервые в своей жизни он увидел, что кто-то его может бояться.
Больше часа, упиваясь злобой, он гонялся за противником по долам и холмам и, к его удивлению, тот – то есть я – бежал, не пытаясь защититься… Бежал от него, Шмаркатого… Значит, боялся его. Шмаркатого…
Меня он заставил посмотреть со стороны на себя, еще недавно такого, вроде бы, умного и смелого…
Долго всё это не давало мне покоя. Мучило.
Никто из пацанов не осуждал меня, не называл трусом. Я пытался успокоить себя: ведь времени на раздумье не было, и бегство казалось естественным выходом. Единственно разумным.
Да, подсказывал кто-то изнутри, ты поступил разумно. И естественно. Но недостойно.
А как надо было? Не убегать? Драться?
Не знаю …
Ведь, как ни крути, я был виноват. Я, Фенимор, спровоцировал Сяньку.
Как быть – я не знал. И спросить было не у кого…
Осенью того же года я записался в секцию бокса при Доме офицеров.
Через полтора года, выступая публично на ринге, я уже считался одним из лучших бойцов города в первом полусреднем весе. И приобрел некоторую неприкосновенность.
Но в подлые игры вроде «бабы-орбы» больше не играл.
1959
Бельцы
После окончания средней школы я уехал на учебу в Москву, поступил на заочное отделение университета и дважды в году выезжал на экзаменационные сессии. Потом возвращался в родные края, работал. Учеба и работа поглощали все мое время.
С Сянькой мы не виделись несколько лет.
Но однажды, проходя мимо дома семьи Царану, я неожиданно лицом к лицу столкнулся с ним. Он держал в руках ком ветоши и что-то по-хозяйски протирал в кабине самосвала «газ-51», который стоял у знакомого мне глухого высокого забора.
– Здорово, Фенимор! – узнав меня, закричал бывший… сказать приятель – нет, приятелями мы никогда не были… сказать враг – тоже неверно: Шмаркатый не был моим врагом…
– Привет, Сяня! – выбрал я наиболее джентльменскую форму обращения.
Он был всё того же роста, что в отрочестве, но сильно раздался в плечах, цилиндрическая голова, стриженая под ноль, по-прежнему была втянута в плечи, он всё больше склонял её влево.
Я достал «беломорину», закурил и предложил ему.
– Нет, нет! – замахал он руками. – Мы не курим.
Я забыл, что их семья – сектанты: табака не курят, вина не пьют.
Держался Сянька уверенно, говорил баском:
– Говорят, ты на учителя учишься?
– Да, учусь.
– У учителей же маленькая зарплата.
– Ну, что будет – всё моё. Проживу!
– А я закончил семь классов и дальше дело не пошло.
– Жаль.
– Не-е-ет, я не жалею. Выучился на шофера, у меня второй класс. Хорошая зарплата, всегда есть калым. – Кажется, он начинал хвастаться:
– Образованных дураков много, а хороших работяг мало.
Где-то я уже слышал подобные суждения: о передовой роли работяг и гнилой роли говнистой интеллигенции.
– Значит, ты считаешь, что грамотеи не нужны?
Сянька на секунду задумался: видать, так вопрос перед ним не возникал.
– Нет, – сказал он. – Вроде бы, нужны. Но больно много он них мороки. – Ну, не Шмаркатый, а философ Ницше и доктор Геббельс в одной упаковке.
– Вот ты, – ткнул он пальцем в меня, – всё читаешь-читаешь, всю жизнь учишься, а чего добился? Какой с тебя толк? – Самоуверенность, если не сказать беспардонность, Сяньки сегодняшнего явно не вязались с его прежним обликом.
Да, действительно, подумалось, какой с меня толк?
– Ну, может, еще что-нибудь из меня выйдет…
– Может, – нехотя согласился человек, которого долгое время я считал дефективным. – А из меня уже вышло то, что нужно. – И он самодовольно засмеялся, обнаружив, наконец-то, свое превосходство надо мной, грамотеем-неумехой, и дернулся рукою в мою сторону, по-видимому, желая покровительственно похлопать меня по плечу, но на полпути что-то его остановило.
– Йедем дас зайнен! – заметил я.
– Что? – не понял Сянька.
– Так было написано на воротах немецкого концлагеря Бухенвальд: «Каждому – своё!»
– А-а-а. А ты откуда знаешь?
– В книжках читал.
– Врут твои книжки. Брешут. – Ну, что ж, такое мне тоже доводилось слышать раньше.
Собственно, говорить больше было не о чем: общего прошлого у нас почти не было, если не считать нескольких, не очень приятных, эпизодов. Но с моей стороны было бы бестактным напоминать о том, как его дразнили и забрасывали камнями пацаны и как наказали и обещали кастрировать охранники бахчи.
– Слушай, – вспомнил я, – а как поживает наш друг Васыль, знаток поэзии Баркова?
Сянька задумался и философски поведал о том, что вот кому в жизни не повезло, так это Трындысылю: он всегда подворовывал понемногу, его ловили и ненадолго сажали. Но недавно он попался по какому-то крупному делу, и получил большой срок. Сидит.
Жаль. Обстоятельства часто бывают крутыми, случается, ломают человека. Но всё же каждый выбирает свою дорогу сам. Так я считал.
Я собрался было идти, но вдруг мой собеседник напыжился – ему, наверное, казалось, что теперь он имеет право смотреть на меня свысока – и, широко расправив грудь и устремив на меня горделивый взор, промолвил, четко печатая слова:
– А помнишь, Фениморка, как я гонял тебя вокруг озера, а ты тикал от меня? – Торжество великого победителя звучало в его словах. – По-о-о-омнишь. Конечно, помнишь!
И на глазах стало происходить чудо преображения облика Шмаркатого. В одно мгновение крючковатый нос его стал похож на клюв кобчика – охотника за цыплятами и сусликами. Хищник, казалось, вот-вот будет готов сложить крылья, камнем кинуться с небесной высоты на свою добычу и, схватив когтями, долбануть её острым клювом.
В его круглых глазах начали загораться угрожающие огни, и он вплотную приблизился ко мне.
Помнил ли я?
Конечно, помнил! Помнил и всегда знал, что то была – не лучшая страница моей биографии.
Знал и то, что всё что было, давно поросло быльем.
А Шмаркатого, оказывается, его подвиг у озера вдохновлял многие годы. По-видимому, те догонялки были наивысшим достижением в его жизни и пусть не полной, но почти – победой над неповерженным, но все же драпающим противником …
Оказывается, память о былом продолжала его будоражить и питать агрессивной энергией его организм.
Вот, откуда этот горделивый взгляд!
Во-о-она!..
Жажда мщения не ушла, а, оказывается, продолжала тлеть в его цилиндрических мозгах.
Меня, однако, старые воспоминания больше не тревожили.
Я спокойно посмотрел прямо в Сянькины расширенные от напряжения зрачки, и он … резко отпрянул. Желтые огни в его глазах начали гаснуть. Чёрный клюв поник …
– Ты бы ещё с пистолетом погнался тогда за мной.
Лицо Сяньки снова стало обычным и деловым:
– А что – если понадобиться, можно и с пистолетом. Хочешь, и тебе достану. Могу…
– Нет уж. Я как-нибудь так.
– Ну, давай учись, набирайся ума, – снисходительно напутствовал меня Шмаркатый.
Интересный получился персонаж из Сяньки: многого достиг, всё что нужно, у него есть, всем он доволен. Надо бы радоваться, что слабый стал сильным, тот, кто был никем, становился «всем»…
Но радости что-то не было.
Солнце продолжало палить – надо было уходить куда-нибудь в холодок. Мы стали прощаться, но тут, неуклюже ковыляя на кривеньких ножках, приблизилась к нам девочка лет двух и стала внимательно рассматривать меня желтыми, как у Сяньки глазами.
– Что за прелестное дитя? – спросил я.
– Дочка, – ответствовал отец, беря ребенка на руки.
– Папина дочка, – сделал я комплимент. Она и в самом деле была точной его копией.
И черную головку держала как её батюшка, с левым наклоном. И даже желто-зеленая капелька висела из крохотной дырочки крючковатого носа точь-в-точь как когда-то у Сяньки.
Наследственность доминировала.
«Лунная соната»
1956
Бельцы, площадь Победы
Мы, трое десятиклассников, Боря Брацлавер, Леша Баков и я сидели на лавке в тени старого клена и слушали репортаж о футбольном матче. Хриплый прокуренный голос Вадима Синявского рвался из «ведра», висящего на столбе. Боря, худой и подвижный, как муравей, был весь внимание: он сам – заядлый футболист и болельщик. Баков, флегматичный, полноватый юноша, не футболист и я, тоже не спортсмен, слушали знаменитого комментатора вполуха.
Леша Баков нахваливал какой-то роман Ремарка, который только что вышел в печати. Я роман не читал и потому молчал. Баков парень эрудированный, интеллигентный: всё ж сын прокурора. Мы с ним не дружили, но иногда бывали вместе. Приятельствовали. Как одноклассники. В последние годы нас почему-то тянуло друг к другу, особенно после давнишнего инцидента в седьмом классе, когда он опрокинул (нечаянно, конечно) мне на штаны пузырек с чернилами. Штаны были у меня единственные. Мой пузырек из-под пенициллина стоял в гнезде для чернильницы. Баков, сидевший на парте впереди, неловко повернулся, локтем опрокинул пузырек, и фиолетовая струйка потекла мне прямо на мотню. Не помня себя от неожиданности и отчаянной злости, я схватил пузырек и остатки чернил выплеснул прокурорскому сынку на физиономию (он в это время мычал какие-то извинения) и на его белую батистовую сорочку. Учитель, дело было на уроке молдавского языка, выгнал нас обоих из класса, и мы потащились к бачку с водой в коридоре. «Ну что, – спросил Баков, – будем драться?» Злость у меня еще не прошла, но появилась еще и досада на то, что все вышло так глупо. «Ты хочешь драться? – спросил я. – Думаешь, это поможет?» Баков не ответил. Было понятно, что отчасти сам я виноват: давно надо было чернила из пузырька перелить в непроливашку, но я не торопился: пузырек был удобен тем, что в портфеле занимал меньше места, чем чернильница; теперь же стало очевидным и то, что на парте он хорошо опрокидывается. Мы долго, молча сопя, отмывали: я – штаны, мой противник рубашку. Но так и не отмыли. Чернила разводились на воде из специальной таблетки и, видать, были высокого качества, потому что крепко въелись в одежду. Штаны не отмылись. Однако моя тетка Сеня купила анилиновый краситель синего цвета, развела его в тазике с водой, бросила туда мои штаны и часа два кипятила. Штаны перекрасились и стали фиалкового цвета, таких ни у кого не было. За неимением других пришлось донашивать их. А Баков свою батистовую сорочку отдал домашнему догу Джульбарсу на подстилку…
Мы сидели на главной площади. Здесь, на ее стометровке, по вечерам болталась туда-сюда большая часть городской молодежи: и волоокие, истерично хохочущие ученицы местной фельшерско-акушерской школы, и стреляющие глазками притворно скромные студенточки пединститута, и мы, старшеклассники, изображающие разбитных ловеласов, и агресивно молчаливая кучка пэмынтэнской шпаны, и грубо размалеванные профуры с под Кишиневского моста, и тиосские бандюганы в широких клешах с финками в карманах, и ворье с Цыгании в надвинутых на глаза кепках-восьмиклинках. Наша шестнадцатая школа была недалеко, за углом. Но мы чувствовали себя свободными от школы: уроки на сегодня закончились, а тягость выпускного класса пока не ощущалась. Можно было расслабиться.
– Я кроме «Трех товарищей» из Ремарка больше ничего не читал, – сказал я. – Не попадалось.
– Ремарк становится модным. Его много печатают.
– Интересный писатель, но для меня пока важенц Лев Толстой.
– Толстой – это да, – раздумчиво заметил Баков. – Вселенский мудрец.
– Уж больно толстые у него романы, – вступил в разговор Боря. – Хорошо, что мы прошли его в девятом классе.
– Пройти-то прошли, – заметил я, – да у меня, видать, позднее зажигание: понимать его я стал совсем недавно.
И я заговорил о повести «Хаджи Мурат», которую прочитал несколько дней назад:
– Она потрясла меня. Там показано такое мужество, такая сила духа и несломленность людей, обреченных на смерть, какие в жизни я пока не встречал.
Баков посмотрел на меня с уважением:
– Я не знал, что ты так любишь Толстого.
– Да, люблю. Иногда даже думаю, что я – его ученик. Толстовец.
В то время я искренне считал, что так оно и есть.
Футбольный матч окончился, и по радио начали транслировать музыку. Послышались звуки фортепиано. Сначала грозно пророкотали басы, потом, словно приплясывая, пошла быстрая скороговорка высоких нот и, наконец, как легкие, косые струи летнего дождика, прорвалась бодрая, освежающая мелодия. Она напоминала что-то знакомое, пережитое. Я пытался вспомнить – что? И не смог…
Баков и Брацлавер тоже слушали.
– Ну, что это за музыка? Бэм-бэм-бэм! – прокомментировал Боря. – Никакой радости.
– Погоди… это Шопен, – тихо сказал Леша Баков, продолжая напряженно слушать. Он разбирался, так как в отличие от нас с Борей, окончил музыкальную школу.
Боря:
– Не понимаю, о чем бэбэмкает этот Шопен.
Леша:
– Понять его сразу трудно. Лучше просто слушать…
Меня, признаться, классическая музыка тоже особо не впечатляла. Но я помалкивал.
Женский голос по радио объявил: «Людвиг ван Бетховен. «Лунная соната». И из «ведра» полились то тихие, робкие, то неожиданно громкие и дерзкие звуки рояля. В них слышалось что-то близкое, даже родное. Свое. Музыка звучала то вкрадчиво, негромко, то сильно и настойчиво. Звуки почему-то властно притягивали, завораживали.
Мы, трое, сидели молча. Слушали.
Площадь была пока безлюдной. Лишь из переговорного пункта межгорода напротив изредка доносилось: «Кишинев, пройдите в пятую кабину», «Одесса – в двадцать первую кабину».
Мы молчали.
– Знаешь, Паша, – проговорил Леша, когда звуки рояля затихли. – Я слышал, что Толстой очень любил Бетховена? Особенно, его сонаты.
– Да, в Ясной Поляне они часто исполнялись… Но для меня Бетховен пока непонятен.
Мягкое бессарабское солнце висело над зданием телеграфа, клонясь к закату. Резные листья клена шевелились, слегка веяло прохладой.
Помолчав, Леша произнес слова, смысл которых открылся мне не сразу и не скоро:
– Придет время, и ты поймешь и его сонаты и многое другое. И полюбишь.
1957
Москва
Через год, став студентом московского вуза, я случайно, за компанию с девушкой, которая мне нравилась, оказался в большом зале консерватории. Концерт состоял из произведений Бетховена. Исполнялись «Героическая симфония» и сонаты, в том числе «Лунная» и «Аппассионата». Впервые в жизни я слушал классику в исполнении живых музыкантов. Я, провинциал, попал в столичную обстановку на концерт, который неожиданно обернулся праздником. Впервые я чувствовал, что всё это – концертный зал с портретами великих композиторов, с нарядной, неаристократичной, но очень чуткой публикой, строгие оркестранты, мужчины в черных костюмах, женщины-скрипачки в длинных платьях, волшебная музыка, девушка, изредка поднимающая на меня свои доверчивые серые глаза, однокурсница Таня, которая была не только самой красивой девушкой истфака, но и настоящей меломанкой – всё это мне безумно нравилось.
Мой школьный товарищ Леша Баков оказался прав. Я, кажется, полюбил.
Наверное, музыка была созвучна тому состоянию взволнованности и влюбленности, в котором я пребывал. Потом это состояние понемногу проходило, я опять приезжал на другой концерт, и праздник души снова воспроизводился. Так повторялось много раз.
Шли годы, десятилетия, наступил вечер моей жизни. Я давно живу далеко от Москвы. Но по-прежнему, приезжая, теперь уж изредка, в столицу, спешу в Консерваторию, чтобы снова напитаться музыкой и снова пережить праздник души…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































