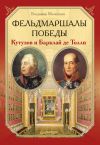Текст книги "Кутузов"
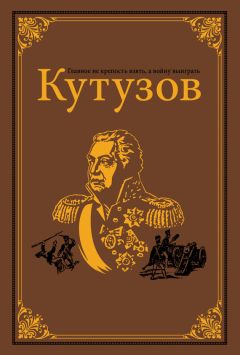
Автор книги: Олег Михайлов
Жанр: Военное дело; спецслужбы, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
В последние годы своей жизни императрица проводила зимнее время в среднем этаже Зимнего дворца, над правым малым подъездом, против бывшего дома Брюса, где находился экзерциргауз[44]44
Экзерциргауз – здание для строевого обучения солдат (нем.).
[Закрыть], а на лето переезжала сперва в Таврический дворец, а потом – всегда инкогнито – в Царское Село.
В Зимнем дворце Екатерина занимала скромные помещения. Узкая лесенка вела в комнату, обращенную окнами к малому дворику. Здесь за ширмами, на случай скорого приказания, стоял письменный стол, за которым работали чиновники и секретари. Из этой комнаты вел ход в уборную (где царица наряжалась), обращенную окнами на Дворцовую площадь. Из уборной можно было пройти в «бриллиантовую» комнату, где хранились драгоценности, и в спальню, в которой государыня обыкновенно слушала дела. Оттуда входила во внутреннюю уборную и налево в кабинет и зеркальную комнату, а из последней ход вел в нижние покои, где жил Зубов.
В эти годы Екатерина вставала уже не в шесть, а в восемь утра и до девяти занималась делами в своем кабинете, выпивая за работой чашку крепчайшего кофе без сливок. В девять она возвращалась в спальню. На ней был обычно белый гродетуровый[45]45
Гро – название шелковых, самых плотных тканей, гродетур – одна из таких тканей (фр.).
[Закрыть] шлафрок или капот, а на голове – белый же флеровый чепец, слегка наклоненный на левую сторону.
Несмотря на свои шестьдесят пять лет, Екатерина была еще свежа лицом, сохранила все зубы и прекрасную линию рук. Говорила она твердо, без шамканья, только несколько мужественно. Читала в очках, причем с увеличительным стеклом. Не любила курсивных, письменных букв, и ей всегда писали донесения крупным прямым шрифтом, обыкновенно в пол-листа. Однажды, когда ее застал за чтением новый секретарь Грибовский, императрица с улыбкой сказала ему:
– Верно, вам еще не нужен этот снаряд. Сколько вам лет?
– Двадцать восемь, ваше величество, – ответил тот.
– А я уже тридцать два года на троне, – покачала Екатерина головой. – И от долговременной службы государству притупила зрение и принуждена теперь очки употреблять…
В другой раз, отдавая Грибовскому собственноручную записку об отыскании некоторых справок для сочиняемого ею устава Сенату, государыня добавила:
– Ты не смейся над моей русской орфографией. Я тебе объясню, почему я не успела ее хорошенько узнать. По приезде моем сюда я с большим прилежанием начала учиться русскому языку. Но тетка Елизавета Петровна, узнав про то, сказала моей гофмейстерине: «Полно ее учить, она и без того умна». Вот отчего могла я продолжать занятия только по книгам, без учителя. И это послужило причиной, что я плохо знаю правописание…
Зато если бумаги Екатерины действительно приходилось поправлять, то говорила она достаточно чисто, а главное – любила употреблять простые и коренные русские слова, которых знала во множестве…
Вечера государыня проводила в кругу близких и доверенных лиц.
Бывали приемы большие, средние и малые. На первых назначался обыкновенно бал с ужином и число приглашенных достигало 150–200 персон. Здесь появлялась вся знать и иностранные посланники. После бала давались спектакли, в которых участвовали знаменитости того времени – композиторы Сарти и Ситароза, певцы Маргикези и Мажорлетти, мимы Пик, Росси, Сантини, русские драматурги и актеры Дмитриевский, Шумский, Сандунов, Трепольская. Разыгрывались и французские комедии и оперы – Седена, Филидора, Гретри. Иногда экспромтом приказывалось быть маскараду: Кутузову как-то пришлось явиться в костюме римского жреца, и он все терял сандалии. Средние приемы отличались от больших только числом лиц.
Совсем иной характер носили малые приемы, на один из которых Михаил Илларионович был приглашен вскоре после своего возвращения из Константинополя.
Вначале было разыграно представление. Но здесь трагедию Расина «Ифигения в Авлиде» разыграли сами придворные особы: граф Вильегорский представлял Агамемнона, его супруга – Клитемнестру, граф Шувалов – Ахилла, генерал от инфантерии Тутолмин – Улисса, красавица Мятлева – Ифигению. В оркестре виднелись всего четыре музыканта: скрипка, виолончель, флейта и арфа.
«Да, верно, хуже трагедию сыграть было бы невозможно…» – сказал себе Кутузов, слушая завывания и преувеличенные крики со сцены.
После спектакля каждый мог делать что хотел. Прогуливаясь с неудавшимся Улиссом – правителем Волынского и Подольского наместничества Тимофеем Ивановичем Тутолминым, Михаил Илларионович шутливо хвалил его способности трагика и не без любопытства читал на стенах объявления, развешанные специально для малого приема.
Запрещалось вставать перед государыней, даже если бы она и подходила к сидящему или вступала с ним в разговор, продолжая стоять возле него. Запрещалось иметь сердитый вид, обмениваться оскорбительными словами, говорить дурно о ком бы то ни было, даже вспоминать о ссорах. Злоба и ненависть должны были быть оставлены за дверью вместе со шпагой и шляпой. Запрещалось лгать и говорить вздор. Штраф в десять копеек, который опускался в кружку для бедных, взимал с провинившихся казначей – граф Александр Андреевич Безбородко[46]46
Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) – светлейший князь, дипломат. С 1775 г. – секретарь Екатерины II, с 1783 г. – фактический руководитель российской внешней политики, с 1797 г. – канцлер.
[Закрыть], присутствующий в Иностранной коллегии, а с недавних пор и обер-гофмейстер двора.
«Ее величество всю жизнь преследует масонов, – подумалось Кутузову, – а сама создает на малых эрмитажах воистину новую ложу братства вольных каменщиков!»
В одном из покоев он увидел Екатерину в окружении своих внуков – хорошенького восемнадцатилетнего Александра и курносого, в батюшку, шестнадцатилетнего Константина, – а также молодого красавца Платона Зубова, графа Безбородко и маленького, очень некрасивого австрийского посланника Кобенцля. Государыня улыбнулась Михаилу Илларионовичу и знаком руки пригласила подойти. Она все еще беспокоилась о подготовке Оттоманской Порты к войне и происках Парижа.
– Да хотя бы турки и хотели нам мстить, – успокаивал Екатерину Кутузов, – все ныне от того должно их удерживать. Страну колеблют мятежи, флот не готов. Даже для перевозки крепостной артиллерии в Измаил они намерены употреблять французские торговые суда под своим зеленым флагом. Нет, ваше величество! Ранее будущего лета турки сами носу не покажут в Черном море. Я подробно докладывал об этом в донесениях из Царьграда…
Желая отвлечь Екатерину от забот высокой политики, Безбородко сказал Кутузову с обычным своим малороссийским лукавством:
– Признайтесь, Михайло Ларионович, вы, случаем, не впали там в мусульманство? Ведь многоженство – такой соблазн для мужчины…
Кутузов был превосходно осведомлен о выдающемся распутстве графа Александра Андреевича. Не будучи женат, Безбородко содержал целый гарем, который возил за собой в Москву. Он состоял в самых близких отношениях с актрисой Ольгой Каратыгиной и итальянской певицей Давиа. Генерал-поручик усмехнулся про себя, вспомнив, как государыня, прознав, что Безбородко подарил Давиа сорок тысяч, сочла нужным тотчас выслать ее вон из столицы…
У Кутузова уже висел на кончике языка ядовитый ответ, но его пришлось проглотить: легкомысленно и даже глупо из-за пустяков наживать такого могущественного врага. Михаил Илларионович еще раз оглядел графа, который на вид был прост, неловок и несколько тяжел. Его щегольской французский кафтан странным образом контрастировал с опущенными шелковыми чулками и башмаками, у которых были оборваны пряжки. Но за неряшеством и внешней простоватостью Безбородко таился острый ум, который выдавали живые вкрадчивые глаза на улыбающемся толстоносом подвижном лице.
Медленно, взвешивая каждое слово, Кутузов ответил:
– Верно, граф, соблазн велик… Однако не забывайте и того, что все народы различны. И нельзя турка мерить на русский аршин. Мы упрекаем турок за многоженство? И завидуем им? А турок возмущается тем, что почтенная моя супруга бесстыдно не закрывает лица перед чужими мужчинами. Сколько народов – столько странностей! Но, – закончил он с тонкой улыбкой, – рыба ощущает, что живет в воде, только тогда, когда вы вытаскиваете ее из реки. Верно, каждый из нас воспринимает свои обычаи как единственно достойные лишь в том случае, если нарушает их…
– Господа! – сказал Зубов, едва Михаил Илларионович завершил свою тираду. – По-моему, граф Александр Андреевич сам должен быть оштрафован за дурные подозрения!
– Кружку! Кружку! – смеясь, потребовала Екатерина.
Притворно ворча, Безбородко достал расшитый золотом кошелек и, за неимением мелочи, бросил в принесенную кружку червонец.
После этого играли в фанты, причем Тутолмину выпало залпом выпить большой бокал воды, а графу Вильегорскому – продекламировать, не зевая, отрывок из «Тилемахиды» Тредиаковского. За роббером[47]47
Роббер – несколько карточных игр, составляющих одну игру, по расчету, в висте (англ.).
[Закрыть], для которого государыня удалилась в кабинет с Зубовым, Кобенцлем и приглашенным Кутузовым, она попросила чашку кофе. Любимый мундшенк[48]48
Мундшенк – заведующий напитками (нем.).
[Закрыть] Екатерины Осип Петрович, войдя с подносом, поставил его на столик, сперва помолился на образ, потом низко поклонился царице и подошел к ее ручке.
Обычай этот, заведенный при покойной Елизавете Петровне, давно уже вышел из употребления как азиатский. Кобенцль, видя, что Екатерина с примерным терпением ожидает конца ритуала, отложил карты и заметил по-французски, что удивляется ее снисходительности.
– Безрассудно огорчать тех, кто верно и усердно служит, – ответила царица. – Всякий обычай от долговременной привычки становится необходимым. Вот как мой кофий. Кстати, не хотите ли чашечку, граф?
Кобенцль изобразил на своем некрасивом, но подвижном лице притворный ужас, а Екатерина засмеялась и обратилась к Кутузову, который в качестве новопосвященного не мог знать некоторых маленьких дворцовых тайн:
– Граф боится, что после моего кофия не удержит карт…
Русская императрица всю жизнь обожала кофе (чай она пила только при болезнях), и самый крепкий, предпочитая сорт мокко. В вызолоченном кофейнике варили ровно фунт, из которого получались лишь две чашки. Чрезмерная крепость умерялась иногда большим количеством сливок. Мундшенк, камердинер Захар Зотов и Марья Саввична Перекусихина потом на той же заварке себе доваривали.
– Во время торжеств по заключению мира в Кючук-Кайнарджи в Москве стояли страшные холода, – сказала Екатерина, вновь берясь за карты. – Секретари мои – Теплов и Кузьмин – очень зябли в кабинете. Я приказала подать им мой кофий. Они по чашке выпили и с непривычки почувствовали сильный жар, биение сердца, дрожание в руках и ногах. Да, господа, ко всему должна быть привычка. А какая у нас на очереди карточная фигура?..
Кутузов только смеялся в душе над детскими хитростями Зубова, над плутовством Кобенцля и мудрствованиями в роббере государыни. Нельзя, однако, показывать, что ты слишком много знаешь. Даже в картах. И все же, как ни старался Михаил Илларионович прятать свое давнее, но не позабытое искусство, он выиграл сразу в нескольких фигурах подряд, заказав под конец одну масть – пики.
Зубов, было уверовавший в собственный выигрыш (старая императрица, бывало, поддавалась ему), мог лишь пролепетать расхожую остроту:
– На пиках вся Москва вистует!..
После карт, когда общество пополнилось графом Безбородко и Протасовой, разговор зашел о необыкновенном происшествии.
Капитана одного из гвардейских полков Курточкина за совращение офицерской дочки приговорили к лишению всех прав и ссылке в Сибирь. Капитан этот выслужился из простых солдат и храбро воевал с турками. Он подал прошение на высочайшее имя. Но не заслуги свои выставлял он в качестве смягчающего обстоятельства. В прошении Курточкин признался в том, что он вовсе не мужчина, а девица, бежавшая из донской станицы двадцати лет от роду и выдавшая себя за юношу.
– Я сама произвела освидетельствование и отменила приговор, когда убедилась в правоте написанного, – говорила, наслаждаясь эффектом, государыня. – Приговор был отменен, а девица Татьяна Мироновна Маркина уволена в отставку с положенной ей пенсией…
– Я знавал этого капитана, – сказал Михаил Илларионович. – Под Мачином он… простите, ваше величество, она дралась лучше многих мужчин.
– Поразительная страна – Россия! – воскликнул Кобенцль. – Не перестаешь удивляться и восхищаться ею!..
– Матушка! – лукаво напомнил Безбородко на правах казначея и блюстителя правил малых куртагов. – А ведь ты забыла выполнить свой фант…
– А что же я должна сделать? – покорно спросила Екатерина.
– Сесть на пол, матушка…
– Ах, господа, – произнесла она, выполняя условия фанта, – лета мои таковы, что уже и память отшибло…
Она взглянула на Зубова и молодо засмеялась, как бы опровергая собственные слова, показывая белые ровные зубы.
И вдруг с внезапной, физической остротой Кутузов ощутил близость конца Екатерины II, конца всего, что было связано с ней, с ее именем и долгим царствованием.
Глава вторая. Екатерининский закатВсе лгали всем.
Мужья лгали женам, жены – мужьям. Немцы-управляющие лгали господам, крепостные-старосты – управляющим. Напудренный, нарумяненный старичок с балетной фигурой, думающий исключительно по-французски, изощрялся в остроумии над Богом, православием и, перед тем как навеки упокоиться в фамильном склепе, лгал почтенному сельскому батюшке, вызванному середь ночи для последнего причастия. Юный красавец Платон Зубов в самые горячие минуты лгал, притворяясь пылко влюбленным в престарелую императрицу Екатерину Алексеевну.
Правда воспринималась как ханжество.
Ложь шла в обнимку с развратом. Барыни жили с гувернерами, лакеями, кучерами, арапами; баре заводили в поместьях серали. Все понятия перевернулись, верность в семье почиталась непристойностью. Те, кто желал хранить чистоту, придумывали себе любовниц, чтобы не стать посмешищем в свете. Пороки двора напоминали о Риме времен его пышного упадка. Теперь и любовники обманывали друг друга, лишь только их отношения обретали постоянство. Конечно, уже не было великолепного Потемкина, облагодетельствовавшего своим вниманием почти всех фрейлин двора ее величества и даже собственных трех племянниц. Вспоминали, как однажды гнался он по Зимнему дворцу за очередной жертвой до спальных покоев государыни, где девушка тщетно надеялась найти спасение. Увидев ее в слезах на собственном ложе, императрица осведомилась о причине сего необычного происшествия. Но, выслушав фрейлину, спокойно заметила:
– Глупышка! Ты должна гордиться, что первым у тебя был столь знаменитый и отмеченный всеми доблестями герой…
Блудливая вольтеровская улыбка, улыбка всеотрицания, перетекла на курносые лица русских вельмож. Бога уже не существовало, стало быть, все было позволено.
Царствование Екатерины Алексеевны постепенно утрачивало свой первоначальный блеск и величие. Ум государыни, насмешливый, не женский, позволил ей издеваться над кабалой масонов, легко раскусить проходимцев в кумирах Европы – Сен-Жермене и Калиостро и даже водить за нос самого Дидро. Но, всегда свободная от суеверий, она стала теперь, в сумерках старости, придавать значение приметам и предзнаменованиям.
Как-то, возвращаясь с бала, она заметила звезду, которая сперва сопутствовала ей, а потом скатилась. Войдя во дворец, Екатерина сказала любимой камер-юнгфере Марье Саввичне Перекусихиной:
– Вот возвестница скорой смерти моей…
– Матушка, – возразила Перекусихина, – ты всегда была чужда предрассудков.
– Чувствую слабость сил и приметно опускаюсь, – ответила царица.
Но какое дело было Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову до того, чем жили в Зимнем дворце и во дворцах столичных вельмож! Сам он наслаждался – впервые за долгие годы – домашним уютом, семейным счастьем и покоем.
Едва Михаил Илларионович вошел в свой дом, все пять дочек облепили его. Начались бурные объятия и поцелуи, восклицания, охи да ахи.
– Папуля! Папочка! Милый! Наконец ты приехал! Не уезжай больше, папулечка! – наперебой раздавались нежные голоски.
Они звучали для Кутузова воистину райской музыкой. «Что любовь плотская в сравнении с отцовской любовью! Насколько родительское чувство возвышеннее и чище! Нежная беззащитность деток рождает только самые светлые помыслы! – невольно сказал он себе. – Ведь это еще безгрешные ангелы!» Но тут же, поглядев на лучащуюся счастьем Екатерину Ильиничну, сорокалетнюю свою Катюню, устыдился, что невольно принизил тем их долгий и добрый союз. Да и как можно думать о детишках, не думая о Катерине Ильиничне! Она всему главное начало! Не будь ее, не было бы и этих славных пяти девчурок, возившихся с ним, целовавших его в нос и щеки, теребивших его плащ, шарф, полы и обшлага дорожного мундира, перстень на безымянном пальце…
– Детушки мои ненаглядные, женушка моя, как я о вас скучал! – только и мог пробормотать Михаил Илларионович, борясь с нахлынувшими слезами.
Когда волнения несколько поулеглись, были внесены сундуки с подарками. Мать султана – валиде, великий визирь и капудан-паша прислали роскошные шали, отрезы турецкой, ост-индской и ормузской парчи, драгоценные перстни и табакерки, украшенный самоцветами кофейный сервиз. Хотя Кутузов и считал, что в Константинополе особой щедрости не проявили, он похвастался Катерине Ильиничне лошадьми в драгоценных уборах, которыми одарил его Селим III.
– Но что могли значить все эти подарки в сравнении с твоим, Катюша! – сказал Михаил Илларионович жене. – Как ты обрадовала меня портретами! Я заплакал! Где ты взяла этакого живописца?..
– Он наш, русский. Молодой человек. И только что вернулся из Италии, – с улыбкой пояснила Екатерина Ильинична.
– Что за работа прекрасная, и какое сходство! – воскликнул Кутузов. – У меня в тот день была ассамблея, и я всем показывал. Правда, в дороге портреты несколько пострадали, особенно твой, Катюня. Да и сходства в нем меньше. Зато Парашенька! Парашенька! – обратился он к своей старшенькой. – Ты и впрямь гречанка! Черноброва, с густыми черными кудрями! Когда царьградские греки увидели твой портрет, то наперебой заговорили: «Пола морфи! Пола кало! Вылитая гречанка! Наша!» И как похорошела!..
Семнадцатилетняя живоглазая Парашенька вспыхнула от этих слов и тайком погляделась в венецианское, оправленное серебром зеркальце, которое привез ей батюшка.
Да, так повзрослела, что хоть сейчас под венец. Новая забота родителям – приискивать жениха. И не какого-нибудь вертопраха, которых теперь поразвелось пруд пруди, а достойного и серьезного молодого человека. Но не так уж долго осталось ждать и остальным: Аннушке пошел тринадцатый годок, Лизоньке – двенадцатый, Катюхе – восьмой, а Дашеньке – седьмой. Всех надобно поставить на ноги, всех определить!..
Что и говорить, семья большая. Все пять одинаково дороги, словно пальцы на руке; любой отрежь – больно. Но Михаил Илларионович испытывал особенное чувство к Лизоньке, которую звал Папушенькой. Умна, остра, сметлива и с таковым характером, что уже сейчас можно сказать: «Маленький Кутузов!»
– Мишенька, друг мой! – предложила Кутузову жена. – Пойдем, послушаешь, как Парашенька разучила на фортепьяно Люлли и Веккерлена…
Екатерина Ильинична была счастлива вдвойне. Радовалась тому, что впервые за многие годы будет рядом со своим любезным мужем. А кроме того – что пришел конец ее прозябанию в заштатном Елисаветграде, где столько пережито и перенесено и где спит на бедном погосте их маленький Николаша…
Ей, обожавшей театр, книги, музыку, хорошо знавшей цену умной беседе, было невыносимо среди убожества елисаветградских обывателей, сплетен, толков, пересудов. Но всего больше мучений доставляли заботы о воспитании дочерей. Боялась – ну как вырастут дикарками? Теперь все пойдет по-иному!
Она уже побывала с визитом в роскошном доме на Моховой, где доживала свой век все еще властная Анастасия Семеновна, урожденная княжна Козловская, вдова Александра Ильича Бибикова, – ее невестка. Но уже бразды правления забрала в свои руки дочь, и тоже вдова – Аграфена Александровна Рибопьер, Рибопьерша. Там, в бывшей резиденции герцога Вюртембергского, в одном из самых модных салонов, бывал «весь Петербург»: Безбородко, Остерман, Нарышкин, Протасова, де Рибас, французский посланник граф Сегюр и австрийский – граф Кобенцль.
Ах, ее старая подружка и племянница Аграфена Александровна, Груня! Она тут же вызвалась пригласить для кутузовских дочек лучших гувернеров, учителей музыки и танца, наставников по географии и истории. Тех, кто обучал сейчас двенадцатилетнего красавчика Сашу Рибопьера.
Михаил Илларионович с супругой навестил своего дорогого наставника и старшего друга Ивана Лонгиновича.
Его встретил двадцатипятилетний морской офицер – худощавый, рот плотно сжат, и желваки ходят под кожей, с боевым орденом на капитанском мундире за войну со шведами. Кутузов невольно воскликнул про себя: «Бог ты мой! Как же отцы повторяются в детях!» Впрочем, Лонгин Иванович Голенищев-Кутузов не просто повторял отца, но и продолжал его дело: с 1788 года он состоял при Иване Лонгиновиче помощником директора Морского корпуса.
Его отец был уже живой историей Российского флота. Тридцать два года возглавлял он единственное в стране военно-морское учебное заведение, так что все служившие ныне офицеры и почти все адмиралы были его птенцами. Он знал их поименно, гордился ими, следил за ними, с необыкновенной заботливостью пестовал молодых кадетов. При нем была учреждена библиотека и обсерватория в корпусе, он написал первую историю отечественного флота и перевел капитальное сочинение Госта «Искусство военных флотов».
Пока Катерина Ильинична обсуждала семейные дела со старшей сестрицей – Авдотьей Ильиничной, мужчины удалились в библиотеку, где, кажется, ничего не переменилось с тех далеких пор, когда Кутузов ребенком штудировал тут военные науки.
– А знаешь ли, Мишенька, что я член Российской академии? – не без гордости спросил старый адмирал. – Чай, не забыл наши молодые литературные забавы?..
– Еще бы забыть! – воскликнул Кутузов. – И «Задига», и постановку нашу «Заиры» помню, словно бы все это было вчера… Да я, дядюшка, читывал в вашем переводе и «Нравоучительные письма для образования сердца». И вижу, что вы уже стали настоящим пиитом!
Лонгин Иванович почтительно возразил ему:
– Нет, все же батюшка мой прежде всего моряк, а уж потом пиит!
– А ты, мой друг, – сказал ему Михаил Илларионович, – не помышляешь о литературе?
Лонгин Иванович не сразу ответил.
– Привлекают меня морские путешествия. Кук Мире, Лаперуз, Ютрк, Гор… Вот о сих-то мореходах хотелось бы попробовать написать…
– И наших русских не забудь, – вмешался отец. – Вспомни хоть Беринга и Крашенинникова, наш тихоокеанский берег…
Разговор постепенно переместился в сферу большой политики. И Михаил Илларионович, и его старший друг видели опасность, грозящую России со стороны Пруссии, за которой грозно маячила республиканская Франция. В этих условиях много значило спокойствие на шведской границе, где стояли войска, подчиненные Кутузову.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?