Читать книгу "Ad Libitum"
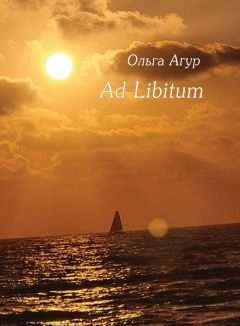
Автор книги: Ольга Агур
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ольга Агур
Ad libitum
© Агур Ольга, 2022
От автора
Дорогие читающие поэзию!
В этой книге – стихи, написанные в Израиле.
Тридцать лет назад я приехала сюда, и совсем другая жизнь развернулась передо мной. Не похожая на прежнюю – и все же неуловимо совпадающая, ведь это та же я – мысли и чувства, стремления и вера, – все то, что составляет человека. Надеюсь, стихам удастся рассказать больше о неизменном и развивающемся, дороге и окружении, о ландшафтах, отношениях, приметах времени и места, пропущенных сквозь собственное видение, облеченных в слова родного языка.
Жизнь в стране, в иной реальности – это прежде всего освоение языка этой реальности. Так стал близок и иврит, возникли стихи и переводы – на русский и с русского, так вышли в свет и – смею надеяться – появятся книги не только переводные, но и рожденные на иврите. Книга – всегда ребенок, всегда творение любви, как написала израильская поэтесса Йона Волах.
За эти годы много всего произошло – вот оно, перед вами.
Ad libitum означает “по собственному усмотрению”. Именно так.
Моя величайшая благодарность и память – ушедшим в иные миры людям:
Освальду Даниэлю Руфайзену, священнику, как он себя называл – “служителю человека”,
Вере Горт, поэту и переводчику,
Якову Когану, поэту и барду,
Александру Вогману, книжных дел мастеру.
Бесконечно признательна:
Эвелине Ракитской, прекрасному поэту и издателю поэзии, благодаря которой эта книга увидела свет.
Илье Спиваку, многолетнему другу, музыканту и моему неизменному первому читателю, внимательному и взыскательному к своему “другу стихотворцу”.
Лане Тейхерт, читательнице первых моих стихов, и по сей день не оставившей это занятие – как будто и не прошло стольких лет!
Борису Ланину, мастеру высокого искусства литературоведения, так много и хорошо написавшему о прозе и не оставившему без внимания и интереса мои стихи.
Давиду Альтману, замечательному барду, поющему мои стихи и переводы на двух языках.
Хомуталь Бар Йосеф, израильской поэтессе, любящей и знающей русскую поэзию.
Вике Братт, как всегда.
Трем моим любящим дочкам Ане, Маше и Алене.
Без вас другими были бы стихи…
Счастливое меньшинство
У Ольги Агур нередко повторяется в стихах сакральный срок – сорок лет. А если нашей дружбе уже больше сорока лет? Как написать о стихах авторки, которую я помню 16-летней девочкой, поступившей одновременно со мной в институт? Не хочу я писать «объективно», да и не умею, наверное. Оля тогда еще помнила белорусский (надо писать “беларуский” после августа 2020, я пока не привык) язык, рассказывала, что может объясниться с бабушкой из самой заброшенной деревни. Была школьницей-школьницей, словно случайно оказавшейся в университете, занималась фехтованием, училась на все пятёрки, пока мерзкая тётка-шовинистка, за время московской аспирантуры так и не избавившаяся от резкого акцента, не поставила ей тройку – чтобы красный диплом не давать: а то своим не хватит, из родного сельского района… Впрочем, пятёрки и потом сыпались – инерцию книжного образования нелегко остановить. Пожалуй, из всех студенческих влюблённостей самая преданная досталась Бахтину: его мениппею она пыталась отыскать даже в “Мастере и Маргарите”.
Открывая этот сборник, я боялся увидеть ностальгические стансы: город у моря, трали-вали, наша нация бакинцы, чинары-арбузы, седой Каспий и прочая чушь. Не было такой нации. Мы хорошо знали свою национальность, а кто забывал на мгновение – тому быстро напоминали. Чинары я впервые только в Калифорнии увидел… Тот город выплюнул нас и не заметил, меня раньше, её – чуть позже, когда славные войска непобедимой советской армии прошлись огнем по улицам, опустевшим после трехдневных погромов. Словно не было. Точка на карте. Остались только могильные камни. Даже друзья – кто в Иерусалиме, кто во Флориде, кто в Мюнхене, кто притаился в Москве… Оля – в Хайфе. Стихи её – о новом мироощущении. Вот я прожил всю жизнь в меньшинстве. Я знал, что за меня – я сам. И за моим ребёнком – тоже я. Мы – вечное меньшинство. Оля живёт в своей стране. Она уже тридцать лет не меньшинство. Если и есть у неё это чувство – то это самоощущение культурного меньшинства, окружённого работягами, лавочниками, и проч., ах, да, ещё айтишниками, как же это я позабыл. Её самоощущение, которым напоена книга, – ощущение поэтического источника посреди жаркой пустыни.
Впервые я услышал её стихи на творческом вечере в доме культуры завода имени Лейтенанта Шмидта в Баку. Никогда не был там прежде, хотя проезжал мимо него всё детство: утром – в 27-ую школу, после уроков – обратно. В Баку народ стихами не баловался. Как-то раз я попал на заседания поэтической студии Владимира Кафарова и ушёл оттуда с нехорошей улыбкой, которую только и могло вызвать зрелище самовлюблённых малограмотных болванов с самым самовлюблённым во главе. Олины же стихи в этом ДК – нет уже в Баку ни этого завода, ни ДК, ни первой советской электрички Баку-Сабунчи, дребезжавшей рядом – звучали радостно, сквозь них светило солнце и куролесил летний бакинский ветерок. В этих стихах и тогда, в бакинском прошлом, которого словно не было, была искренность, культура, зрелая поэтическая техника, которая рождается вместе с человеком и которую не вытравить и не вырастить никаким “Цехом поэтов”.
В те годы Евгений Евтушенко взялся прославлять маленькую девочку, которая просыпалась ночью и в слезах бормотала стихи. В этих стихах было неутолённая страсть сорокалетней женщины. Девочке было восемь лет, а маме… Ну, в общем, понятно. Стихи Ольги Агур, представленные в этом сборнике, написаны молодой яркой женщиной, о ком бы она ни писала. В них есть взгляд изголодавшейся по жизни души. Так и надо: пока мы не наелись жизни – мы бессмертны.
Борис Ланин,
профессор, доктор филологических наук
(Познань, Польша)
Песах, 2014
Илюше, с любовью
Идет Господь по Иерусалиму,
пьет воду, насвистывает, гладит пса,
и в зеркальцах покрывал незримо
лик Его отражается.
Холь-а-моэд, Махане Йегуда,
лужи, крошки мацы, апельсинная мякоть,
воздух дрожит в преддверии чуда,
сердце сжимает, и не заплакать.
Это хамсин, пятьдесят дней в году,
небо из серого сквозняка,
пыль и песок, местный недуг,
лучше не будет пока.
Христос идет по Иерусалиму,
в джинсах из гмаха, в рубахе драненькой,
мимо солдат и туристов, мимо
халатов, штраймлов, газет и пьяненьких,
глядит на чашку в потеках кофе,
на руку с номером на предплечье,
на рваное небо, на детский профиль,
на все ранимое, человечье.
Толпа пыхтит, остановок много.
Скользят ступеньки на Долороза.
Араб с тележкой зовет подмогу.
Приезжий курит, глотая слезы.
Солдатка пробует дозвониться,
кричит в мобильник – плохая связь!
движенье, свет, пустота и лица,
и птица садится в грязь.
Христос на Пасху идет по городу,
Он третьеклассник с куском мацы,
Он врач, неохотно входящий в “Скорую”,
Он бабка с кошелкой, он чей-то сын.
Он девочка в синей блузке на пуговках,
Он с узи болтающимся солдат,
Он дос в талите, он фреха напудренная,
Он слово, голос и взгляд.
И больше нет ничего, и россыпью
дары, события – чем ни владей.
И что же мне остается, Господи,
в Тобой отмеченный жаркий день?
Я тихо иду за Ним. Я иду за Ним —
за каждым встреченным на пути,
за каждым “здрасте”, за каждым узнанным,
за каждым, кто хочет рядом идти,
в этом городе и столетии,
с этой внешностью и судьбой,
страною – этой, чувствами – этими,
со всей неспящей самой собой,
со всем, что пройдено и любимо,
как эти вытертые холмы…
Христос идет по Иерусалиму,
а значит, Песах. И живы мы.
Примечания для неизраильтян:
Холь-а-моэд – недельный период между началом и завершением Песаха.
Махане Йегуда – иерусалимский рынок.
Хамсин – пятьдесят(арабск), ветер пустыни, дующий (предположительно)пятьдесят дней в году.
Гмах – благотворительный склад.
Штраймл – меховая шапка, ритуальный головной убор определенной религиозной иудейской группы.
Долороза – улица Виа Долороза в Старом городе
Иерусалима, крестный путь Христа.
Узи – автомат.
Дос (идиш) – разговорное название религиозных евреев.
Талит – молитвенное покрывало.
Фреха – выпендрежная израильская девица предположительно восточного происхождения. Но может быть и европейского.
Песах – не требует объяснений.
Пятое ноября девяносто пятого года
ветер гоняет горсти пыльного снега
комья пыльного хлопка пыльный репейник
меж городами в них зимы не бывает
пыльное солнце микрогали со скидкой
авива гефена слушают глуподростки
ни весны ни винограда тянет жарой морозом
завтра уроков нет
радиорадиорадио на дорогах
меж городами там говорят смеются
бедный израиль второго сорта черного хода
пыльные лица трисы окурки корки
спят считают гладят форму смеются плачут
не забыть укол дискета аккумулятор
не забыть с собой воду не забудь пожалуйста воду
кормят считают снимают форму смеются плачут
и выключают радиорадиорадио телевизор
ну что телевизор газеты снова газеты
сколько можно есть видак есть кассеты
книги в конце концов открой пожалуйста книгу
любую открой любую всюду одно и то же
не лги не желай не убий
господибоже когда закончится этот день
бедные люди бедное время бедная дата
боли избегнуть любой ценою избегнуть боли
не взрослеть не взрослеть
дни часы в дороге бедное время
радиорадиорадио на дорогах.
Израильские праздники
1. Песах (1990)
На праздник Песах я уже была,
я теплый камень трогала, зажмурясь,
я каплю из бокала отпила —
на дне дрожало ожерелье улиц,
закрученное в нескольких часах
гортанной речи, не привычной горлу.
Сверкают новой жизни голоса,
звенящий жар, в ослепшем солнце город,
и неуютно сердцу моему,
как будто на часок зашла к соседям,
и вот, усталый гость в чужом дому,
пытаюсь поучаствовать в беседе,
как будто можно что-нибудь понять
среди чужих портретов и пеленок!
Но если это – Родина моя,
то я – ее детдомовский ребенок.
Не по ее, не по моей вине,
ни ей, ни мне от этого не легче.
Крошится хлеб, и вкуса нет в вине,
и время только давит, а не лечит.
– Ты где? – Я здесь. – Откликнись! – Не могу:
я не ищу ни умысла, ни сходства,
я снова у грядущего в долгу
за равнодушье моего сиротства.
…Но праздник Песах подтвердит исход,
перелистнет сожженную страницу,
волной меня на берег отнесет,
коль время не захочет расступиться.
А будущее – где? Есть только крик,
мгновенной боли сигаретный привкус.
Я буду в ночь глотать по десять книг.
Я научусь. Я постепенно свыкнусь.
И обретет дитя твои черты,
и назову субботу воскресеньем
в звенящем море красной пустоты,
где впереди не видно Моисея.
2. Рош-а-Шана (Новый Год)
В жаре – отыскивать точку поверх голов,
уставясь в нее, спросить про свою отгадку.
Но ракурс, дай ему власть, сместиться готов,
дрожат слова, и день плывет по порядку:
нахальные лапы гуляющих воробьев,
и небо, прежде – скорлупка, сегодня – всмятку.
Теперь так будет: дешевая эта синь,
текущая мне в ладони, глаза и уши,
и щелочь по пятницам, и мокрая муть простынь,
и полная беззащитность в сломанном душе,
и ныне, и присно, во веки веков, аминь,
пока не окажешься этой судьбы снаружи.
И тут припомнится все, что не сберегла:
и шепот волос, и вкус сигарет, и дождик.
и улицы, избегающие угла,
и черные ягоды под ногами прохожих,
и на асфальте – смола, и по крышам – смола,
и в горле – смола. И в детских складочках кожных.
Не верь, что мир неровен, а глаз – дурной:
сладка земля, на яблоке – капли меда.
И дети, возникшие из воздуха за спиной,
сменили кровь за три с половиной года.
И остается то, что зовется мной:
три строчки, твой взгляд, неправедная свобода.
3. Ханука (Почти Новый Год)
В мокром воздухе продвигаясь по декабрю,
повтори себе, задыхаясь: еще люблю.
В каждой капле дождя, видишь, горит свеча:
это наша зима, я не стану о ней кричать,
потому что – не докричаться: в горле вода.
заболеешь – уже не ищешь, кому подать.
Продохни, сглотни, сквозь снег надыши тепла
на моем окне, в черноте моего стекла.
Облака, облака, стосвечники, блики лиц,
в новогодних блестящих бусинах кипарис,
запах корочки, но без горечи, дым без слез,
над землей плывет по дождичку дед-мороз.
Подари мне “хануке гелд” и еще – волчок,
закрути четыре буквы в пустой зрачок,
и по комнате прорисуется мокрый след
в центре елочной крестовины, которой нет.
Это Ханука. Повторяй же: декабрь, свеча,
парко в поле, холодно в доме, птенцы пищат.
Дай нам Бог пережить все это в Его земле
и остаться светом, растаять светом,
отраженьем света, дождинкой света —
в черноте, на чужом стекле.
4. Йом-Кипур (Судный день), Москва
В день, когда я вернулась, убили еще четверых.
До свидания, новых таможен, тележек, тунгусов,
впрочем, диких и ныне. Стал островом твой материк.
На рябиновых листьях – следы комариных укусов,
проступает по ягодке осень, мороз достает
до застежек на лифчике… дальше идти разучилась.
До свидания,
новых заслуг перед жизнью, холодных щедрот,
принимаемых мной сгоряча за последнюю милость.
Впрочем, неудивительно. Редечный дождик сквозит,
под салями кассеты вопят о любви и разлуке,
и отечества запах, дешевый поместный транзит,
протрезвеет, несвежей газетой испачкает руки.
Нас с пути не свернешь! До чего хороши облака!
Проплывают, гляди,
над говяжьим, с подливочкой, храмом.
Золоченую крепкую луковку тронет Господня рука
и простит, и помилует, с ложки накормит —
за папу, за маму,
и пока что живой, ты отыщешь пельменную, в ней – уголок,
над безгрешной тарелкой вздохнешь о чеканке устава
и, склонившись над тенью,
столовским ножом ее срежешь у ног
и в соборных лесах отмахнешься от римского права.
Пусть себе говорят! Пусть плеснется на сонный асфальт
и коньяк за лимон, и омоновский кукольный пристав,
и четвертой волны торопливый скрипичный дискант,
и компьютерный вирусный кашель в домах оптимистов.
Я запомню все это, я милую долю с ладони сглотну,
я и капли не дам темноте сентября на затравку.
До свидания, новых зарубок, себе оставляю одну —
в честь кленовых венозных прожилок
на красном листе,
укрывавшем московскую травку.
5. Шавуот (Пятидесятница)
Все то же самое, что в двадцать пять, что в сорок:
неделя рассыпается на ворох
бессмысленного яркого тряпья.
И в зеркале покачиваясь, я
не узнаю себя, да зеркало ли это,
или на темной стенке блики света
застыли… а светило пронеслось,
и нет его, и мы по жизни врозь.
Так ласточка беззвучно гнезда лепит,
и высыхает глина, пережив
себя, насельников, чуть слышной жизни лепет,
тепла мгновенный перелив.
И я, сестра моя, и я леплюсь к стене,
и я боюсь и холода, и жара,
и шва меж ними, и борьбы теней
под крыльями, и бархатного жала
соседей по судьбе и суете,
их резких песен, их молекул меда,
их траектории в зрачках детей,
привычных мелким нарушеньям кода.
Прости меня, ты во сто раз смелее.
Склонив крыло над лепесточком глиняным,
душа запомнит медный привкус клея
и не утратит собственного имени.
Спасение созвучно благодати.
Прости, когда мне воздуха не хватит.
6. Праздник Кущей
Мне таинства с чужими не творить,
на потолке не сочинять узора,
в кромешном небе не искать зари,
не морщиться от запаха лизола,
на ощупь сигарету не делить,
на вкус не различать свое дыханье,
из простыни не сотворять талит,
из каждого вставанья – расставанье.
Не знаю, кто накладывал печать
на розовое, влажное, живое —
мне было легче в темноте сличать
две жалобы, исчерканные воем,
в чужой воде не пробовать крючок,
вернуть свободу плаванья улову
и, засыпая, опознать плечо —
твое плечо. Но о тебе ни слова.
Что линии – излишество-изгиб,
что лихорадке – лакомство прелюдий?
Уходит ветер, сосчитав шаги,
иди пешком – и к старости прибудешь,
уходит ветер, в мареве горят
обрывки дней, и вязнет воздух долгий.
Чего ж ты хочешь, музыка моя,
от чьей победы отделяешь дольки?
…Над нами город руки простирал,
стелил ступеньки, притворялся сонным,
и вечера сухая пастила
разламывалась надвое балконом.
Отчаливало облако, боясь,
что на него глазеть не перестану.
луна зевала. Ветка в дверь рвалась.
Носок с прищепкой вместе падал в ванну.
И дом, обжитый сорок лет назад —
семь слоников, графин, камейный Пушкин —
песчинкой детства застревал в глазах
и, засыпая, гладил две макушки.
Уходит ветер, куст плывет вослед
по августу, над паркой злой землею,
и сквозь листву дрожит неяркий свет,
и я дрожу, и меньшего не стою,
но к таинству чужому не влекусь:
мы эту землю обживали сами.
Уходит ветер, затихает куст,
исход у лета и хамсин в нисане.
Затянет днем изнанку волшебства,
покинет птицу голос человечий.
о чем еще? Апрель. И я жива.
И ты живешь. А прочее – при встрече.
Через двадцать пять
Когда-то я дала себе уйти,
себя покинуть – ласточкою, чайкой,
сгущеньем воздуха, морскою пеной,
русалочкиной смертною душою,
русалочкиной жаждой бытия.
Я верила: душа ко мне придет
когда-нибудь, когда меня полюбят,
когда смогу, когда услышу голос,
когда-нибудь, когда пройдет сто лет,
пока – живи! Есть в море – благость моря,
там музыка неслышная звучит,
в едином ритме всех соединяя,
кораллы, скалы, всякое живое
и глубину, она же тишина,
пока живи и пей! Соленой влагой
смывай с ладоней кожу, жги ресницы,
сквозь оболочку горла проникай,
сама стань привкус горечи и соли
во всем, чего коснешься на плаву…
Когда-нибудь душа услышит зов
и возвратится, и тебя узнает
под сенью обретенного крыла…
Я выбралась. Я зацепляю кромку.
Крыло мое, скорей всего, плавник.
Я жду, когда вернешься из пустыни.
Мне сушит кожу жар ее дыханья.
Не спрашивай, где плавать довелось,
неправда, что идти не разучилась,
не может быть, что неподвижен воздух —
я жду тебя, и я к тебе иду,
не зная как, пути не разбирая,
себя не чувствуя, тебя боясь,
но все-таки иду… спаси, Господь.
и помоги мне встретиться с собою
и больше никуда не уходить.
Бессонница
кажется падаю в ямочку твоего плеча
по окраине слуха сжирает себя свеча
занавесь заворачивается звеня
где-то в другой вселенной полно меня
воздух отмершей кожей скатывается с лица
август июль и прочие три часа
может к пяти на выдохе снишься ты
веки приливы радуги темноты
теплое облако сладкое молоко
тает пузырик
спинеспиглубоко
«взгляд уткнется в обрыв перелески шоссе селенья…»
взгляд уткнется в обрыв перелески шоссе селенья
туча стелется под ноги просится на руки губит зренье
ни прорваться ни с век сорвать никуда не лезу
вспоминать тебя прикипать губами к железу
на морозе твоей страны под каменным небом
избегая судьбы держать его ты там не был
и не будешь и я не буду я здесь где туча
где увязнешь в небе и мне ли решать что лучше
слепота высоты огоньки в провале свет дней пологий
запах здешней зимы леса гари железа дождя дороги
«Видишь, опять гроза – розовый мертвый отсвет…»
Видишь, опять гроза – розовый мертвый отсвет.
Воздух глотнешь – сказать: плачешь? ты спи… да кто спит,
Слепнет, дрожит листва, сердится стынь-водица,
Птица кричит: жива!.. хочешь, не буду сниться?
Рыбки уснут в пруду, пруд заневолит глиной,
Листья в нее уйдут теплою сердцевиной,
Сверху сбежит паук, не замочивши ножек,
Почта зальет порог, месяц подточит ножик.
Плачешь? В грозу мелькну весточкой на пороге,
Имя твое верну ветке, траве, дороге,
Памятью ноября, каплей чужого воска…
Все, что дрожит, земля, все, что зовет, земля,
Все, что мое – гроза, взбухшей звезды полоска.
Акростих
Все нам дается не зря: ледяная вода,
Изморозь пальцев, соленая влага стыда,
Кровь проступает сквозь кожу, и сыростью пахнет беда.
Если зажмуриться, вспомнишь дорогу домой:
Белую поступь утраты чужою зимой,
Речи забытый мотив, и уже не проснуться самой.
Авель, отныне у брата ладони пусты.
Топкая тяга земли. Чей там голос звучит из ее темноты?
Темной, еще безымянной свободы. Имя ей выберешь ты.
«душа моя под утро…»
юзеру halom, с любовью
душа моя под утро
так дует из щелей
сон прячется в подушку
истаивает в ней
его размытый контур
не проявляется
ни в кромке горизонта
ни в сумраке лица
дрожит тепло под крышей
светлеет на пути
и дом живой и дышит
и тяжело уйти
хрустятблестят сугробы
асфальт залит стеклом
душа моя должно быть
мы дальше не пойдем
не справишься с собою
обрушится сама
крепка своим разбоем
московская зима
иду по битым стеклам
шажок еще шажок
и варежки промокли
и свет глаза обжег
и слово в легких мерзнет
царапает гортань
и этот возраст поздний
и снег и немота…
Клайпеда, сентябрь
и представить себе невозможно и думать странно
дома в хайфе жара хамсин неохотно тает
дома в литве дышится непрестанно
тучи холодный воздух мгновенные стаи
разворачивающиеся сразу по всем ветрам
и красный синяк заката и корочку по утрам
твердую тминного хлеба треснувшую на лужице
и листья влетают в лицо и облако кружится
и розовый новый месяц и тут же ломается зонт
как дома в хайфе и закругляется горизонт
Колыбельная
Город закончился, стихло метро,
в мокрой траве остывает перо,
птица теряет свободу,
месяц грозит небосводу.
Плач пересмешника, шепот колес,
посвист бескормицы, тряска полос
светом ударит по стеклам —
беженским обликом блеклым.
Холодно спать в не своем октябре,
боязно прятать лоскут в серебре,
к сердцу его прижимая…
Стынет ладошка немая.
Мне бы вернуться, вернуться домой,
в город застывший, напрасный, но мой,
соли прибрежной напиться,
злиться заморскою птицей.
Мне бы с тобой повстречаться еще —
веткой промокшею, ветром у щек,
неба глотком в амальгаме,
пылью, песком под ногами.
Мне бы… но рельсы текут по кустам,
детям, бессонницам, милым устам,
сласть обернется потехой.
Ты не успеешь доехать.
Скоро ли? Выглянешь – лес, голоса,
серого света четыре часа,
спи, берегись, просыпайся,
с облака вниз не спускайся.
Слышишь? Домой – на бегу, на века,
йодом, мазутом полны облака,
спи на сквозном и заветном,
ранку укачивай ветром.
В облаке греется птичье крыло,
Богу отрадно, любви тяжело,
месяцу быть в небосводе,
мне – сообразно свободе.
Ближе к станице, южнее маня,
доля-сестрица торопит меня,
сердится, плачет, смеется,
в руки никак не дается.
Спи, не боли у детей и зверья
теплая темень родного жилья,
мира, услады, покоя —
есть на земле и такое.
Въедешь на облаке. Спи, я слежу:
как убаюкала, так разбужу,
знаю, кому тяжелее,
знаю, кого пожалею…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































