Текст книги "Русские князья. От Ярослава Мудрого до Юрия Долгорукого"
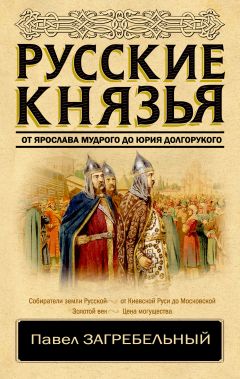
Автор книги: Павел Загребельный
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
А тут – этот холодный завистливый крик черных людей, поставленных ради высокомерия, этот смутный дождик, да еще и чужая, неприступная в своей гордыне женщина, которая вроде бы стала княгиней, его женой, но кто его знает, стала ли, ибо не замечает Ярослав, чтобы понравилось ей ее новое положение.
Гулянье продолжалось еще и при свете факелов, ибо не годилось отправлять людей при свете солнца, варено и жарено всего столько, что пир должен был длиться, быть может, и неделю, самым большим обжорам и пьяницам возле этого стола (а то и под столом) надлежало и ночь заночевать, но кто-то все же помнил о главнейшем – о князе и княгине, и, когда темнота уже плотно опустилась на землю и крики толп доносились словно бы из-за черной стены ночи, поданы были к столу новгородские просторные сани, застланные мягким персидским ковром, запряженные четверкой белых коней, в богатой сбруе, убранных зеленью и цветами, и сам Коснятин выхватил у возницы скрипучие вожжи, изукрашенные серебряными наклепками, развернул сани так лихо, что даже комья грязи разлетелись во все стороны, и пригласил молодых садиться.
И как только князь подвел княгиню к саням и она прилегла на ковер, потому что сесть там было невозможно, а Ярослав прижался к ней, Коснятин отпустил вожжи, и кони рванули с места во весь опор, грузному посаднику пришлось подпрыгивать на своем сиденье, – и тут обе, невидимые уже почти, стены люда разрушились, рассыпались, с двух сторон ринулись к саням, смешались вокруг них с криком, визгом, восклицаниями, диким хохотом; над князем и княгиней нависали и мигом исчезали длинные бороды, разевались на них с неразборчивыми криками черные рты, горели любопытные глаза, люди толкались, наваливаясь прямо на сани, кто-то пытался отломить от саней хотя бы щепку, еще кто-то догадался отполосовать огромные куски драгоценного ковра, кто-то попробовал жечь ковер полыхающей лучиной; Коснятин с трудом пробивался сквозь столпотворение, кони, фыркая и мотая головами, тянули сани медленно, потому что перед ними толпилось множество возбужденных людей, посадник начал уже сожалеть, что не выставил на пути князя дружину двумя рядами, зато Ярославу хоть теперь понравилось то, как поворачивалась свадьба, он рад был, что люд сломил запретную незримую межу, отделявшую его от князя; Ярослав чувствовал: вот где его сила – в этих ошалевших, ослепленных глупым любопытством людях; приятно было ощущать, как пугается холодная королевна этих забияк, прижимаясь к нему, ища у него защиты.
И уже на княжеском дворе по-молодому соскочил с саней, бодро взмахнул, почти дружески, беспорядочному сопровождению и людской толпе, которая заполнила весь двор, взял княгиню на руки, и хотя она была огромной и неудобной в ноше, но пронес ее немного, пробиваясь сквозь толпу, а княжьи люди криком освобождали дорогу, все шире и шире, пока все-таки не наведен был какой-то порядок и не создался свободный проход к крыльцу княжеских палат; тогда Ярослав поставил жену на землю, будто огромную деревянную куклу, Ингигерда молча подала ему руку, и он повел ее на первое возлегание, ибо только телесно дополненный брак может считаться свершившимся.
А белые кони с санями исчезли куда-то, точно так же незаметно, как и посадник Коснятин, да Ярославу не было теперь ни до чего дела, он оставался наедине с молодой женой, впервые в жизни с глазу на глаз, и мир замкнулся между ними обоими, не существовало больше ничего, все исчезло, все забылось, полыхали в притемненной ложнице свечи, а им казалось, что только они полыхают и сгорают на огне, который жжет человека, пока он живет, дает ему наибольшую силу и одновременно отделяет его непроходимой стеной от всего окружающего.
Так и Ярослав на некоторое время отдалился от дел всего мира и не мог хотя бы краешком сердца почувствовать, что, быть может, именно в эту ночь, в дальней дали, возле Киева, на Берестах, отправлялся в свой последний путь его отец – великий князь Владимир.
Бересты стояли уже тогда, когда Киев еще не был большим городом, они привлекали тишиной и покоем, и князь Владимир так полюбил их, что велел построить себе двор в Берестах даже лучше того, который был в самом Киеве. Отдыхал там после охоты в Зверинце, держал самых любимых наложниц также в Берестах; когда же занемог, собравшись идти в поход на непокорного сына Ярослава, тоже слег в своих палатах и не поднялся – умер от колик в боку или же от Божьего гнева. В те времена люди редко жили более шестидесяти лет, все равно великому князю недолго пришлось бы жить, но во многом ускорили смерть князя события явные и тайные. Ибо если сын Ярослав открыто шел против отца, то другой сын, Святополк, до сих пор еще пребывая в заточении в Вышгородской крепостце, снова задумал дело, еще более страшное, чем князь Новгородский. Через верных людей Святополк известил печенегов о том, что князь Владимир выступает с войском против Новгорода, и позвал их ударить на Киев, как только покинет его князь со своей дружиной. А чтобы не проходить через крепостцы, поставленные Владимиром вдоль Руси, печенеги должны были переправиться где-то возле Переволочны через Днепр, пройти по Залозному шляху и приблизиться к Киеву с левого берега, откуда их никто никогда и ждать не будет. Так оно и случилось, да только хворости Владимира разрушили все намерения Святополка, снова послал он своих верных людей к печенежскому хану, предупреждая его, чтобы остановил орду, ибо и князь, и дружина, и огромное множество войск все еще в Киеве и ничего, кроме погибели, не добьются здесь печенеги.
Но к тому времени князю Владимиру было уже донесено о том, что зашевелились печенеги, поступали вести, что степняки движутся по левому берегу, тогда больной князь позвал к себе сына Бориса, прибывшего из далекого Ростова, чтобы встать возле отца в тяжкую годину, велел ему брать войско и выступать на Альту, чтобы преградить путь печенегам.
Борис выступил на Альту, выбрал просторное широкое поле, где мог бы дать битву печенегам, но они, своевременно предупрежденные Святополком, ушли в свои степи и растворились там.
Пока Борис стоял с войском на Альте, великий князь Владимир ушел в небытие.
Он лежал в большой горнице, выходившей четырьмя окнами на Днепр. Окна не закрывались ни днем, ни ночью, князь хотел вдохнуть в грудь как можно больше свежего днепровского ветра, но задыхался все больше и больше, горница была высоко над землей, над двумя подклетями, в которых толпилась придворная челядь, варились для князя излюбленные его яства и напитки, всегда наготове сидели гусельники и скоморохи, шуты и красивые девчата, которые одной своей молодостью могли бы возвратить Владимиру здоровье, ибо часто бывало перед тем, что во время болезни великий князь, стоило ему лишь отдохнуть взглядом на сладком личике, выздоравливал и снова вершил державные дела, большие и незаметные. Но на этот раз не пускал князь к себе никого, не хотел никого видеть, ничего не ел, лишь пил настоянные меды и воду из священного колодца, холодную и чистую, не велел беспокоить его, никто не смел появляться в горнице, пока сам князь не позовет, не подаст знак, а знак тот был – звук серебряного колокольчика на длинной ручке из слоновой кости. Колокольчик стоял на столике в изголовье князя. Звонок был слабым, почти неслышным, но по ту сторону дверей круглосуточно дежурили молодые отроки, они улавливали малейший звук из княжьей опочивальни, немало удивляя своей чуткостью дружинников, которые стояли на страже у тех же самых дверей, но не слышали ничего, так, будто кто-то заткнул им уши воском.
Но настал день, когда и отроки не смогли услышать никакого звука из княжьей горницы, как ни прислоняли уши к толстым дубовым дверям, как ни замирали, как ни сдерживали дыхание, – ничего. Даже слышно было, как днепровский ветер влетает в открытые окна и со стоном проникает сквозь невидимые щели, но от князя не было ни знака, ни звука. Ждали целый день и целую ночь. Могло ведь случиться так, что великий князь одолел недуг и впервые уснул спокойно и сладко и набирается сил во сне? Когда же и наутро снова не доходило из опочивальни никакого звука, тогда напуганная гридь известила воеводу дружины, а тот позвал двух бояр из Берестов, и вот они втроем боязливо подступили к высоким дубовым дверям, которые давно уже можно было беззвучно открыть, потому как петли смазывались гусиным жиром, чтобы не раздражать князя ни шумом, ни скрипом, но никто не отваживался приоткрыть двери хотя бы на палец, ничей глаз не заглянул в великую горницу, и только теперь эти трое впервые сделали это, осторожно вошли в палату, и в лицо им ударил тяжелый сладковатый дух покойника.
Князь лежал мертвый. Эти трое побоялись и прикоснуться к покойнику, хотя следовало бы поправить его на постели, потому что лежал он с перекошенной шеей, как-то неуклюже свесив голову с подушки; борода оттягивала его челюсть вниз, на усах запеклась кровь. Позвали поскорее священника, а тем временем начался совет: что делать?
Князь умер без причастия, без исповеди, что самое плохое – не известив о своей последней воле, не назначив преемника своей власти. Правда, он звал к себе сына Бориса и дал ему войско, чтобы выступить против печенегов, но этого еще недостаточно, чтобы провозгласить Бориса великим князем Киевским, потому что есть братья и постарше – есть самый старший, Святополк, есть Мстислав, есть Ярослав, который своим дерзким отказом подчиняться отцу уже довольно откровенно заявил о своих притязаниях на Киевский стол.
В Бересты позвали киевских бояр и воевод, а тем временем верные люди из гриди не дремали, дали знать: одни – Предславе, а другие – Святополку в Вышгород о кончине великого князя, и эти уведомления мгновенно опередили все то, что родилось в тугих головах киевских бояр, ибо Предслава тотчас же снарядила гонца с грамотой к Ярославу, призывая его как можно скорее двигаться на Киев, а вышгородские бояре, выпустив Святополка на волю, со всеми почестями, надлежащими только великому князю, повезли его через боры в Киев, оттуда – в Бересты, и, хотя добрались туда уже поздней ночью, княжий сын велел не откладывая похоронить Владимира; бояре и воеводы собственноручно проломили помост в горнице, чтобы скрыть от смерти привычный ход, которым пользовался покойник, завернули тело князя Владимира в ковер, спустили на вожжах на землю и положили в сани, запряженные восемью парами белых волов, как велел старый полянский обычай.
Так на белых волах въехал в последний раз князь Владимир в Киев и в ту же самую ночь был похоронен в церкви Святой Богородицы в приделе Святого Климента, в мраморной корсте, под молитвы, слезы, рыдания и печаль всего Киева.
А еще в ту же самую ночь, когда повел Ярослав свою жену на первое возлегание и выехали с его двора белые кони, а где-то в Киеве белые полянские волы отвозили тело его отца к месту последнего покоя, отправился тайком из Новгорода большой отряд всадников. Не очень уверенно держались всадники на конях, слышна была варяжская речь; если бы кто-нибудь мог прислушаться, сразу бы услышал хвастливые рассказы одного из варягов о его прелюбодеяниях с новгородскими молодками, из чего легко было узнать Тордамладшего, а уж тогда выплыл бы из темноты и молчаливый Ульв, и мрачный Торд-старший, который, кажется, командовал этой странной поездкой; варяги, хотя и чувствовали себя увереннее пешими, ехали довольно быстро, кто-то подобрал им всем коней одинаковой гнедой масти, так что сливались они с ночью, и видно было, что едут на дело нечестное.
Варяги не брали с собой в дорогу ничего обременительного – ни украшений, ни снаряжения, одно лишь оружие да харчей на два перехода. Но хотя отправились они из Новгорода налегке и гнались ночь и день без передышки, за кем надлежало им гнаться, все же не удавалось им настичь беглецов; уж и кони притомились, уж и Торд-младший умолк и стал похож своей молчаливостью на Ульва, ясно было, что едут они по днепровским лугам, вскоре будет и сам Днепр или какой-нибудь из его притоков; варяги безжалостно гнали коней: если они опоздают и насад на Смядыни отчалит и окажется в Днепре, тогда им придется возвратиться назад, не исполнив порученного, а это означает нарушить свое слово и – что хуже всего – не получить обещанного, а обещано было вельми щедро.
Когда же наконец за негустыми перелесками увидели варяги короткую цепочку всадников, впереди которой ехал на белом коне молодой князь Глеб, кони варяжские еле передвигались, спотыкались в густых и высоких нежарах, а у князя и его сопровождения кони были свежие, словно бы только что из конюшни или с пастбища, шли размеренно, красиво, и видно было, как легко и уверенно отдаляются от преследователей, еще и не зная об их существовании. Что же тогда будет, когда они узнают? Торд-старший сразу же смекнул, что нужно действовать умением, а не силой, и молча указал Ульву на его лук, остановил отряд, чтобы дать лучнику спокойнее прицелиться, сказал хрипло:
– Бей сразу в князя на белом коне.
И то ли Ульв, измученный утомительной погоней, не попал в цель, то ли и вовсе не понял, куда стрелять, и, услышав последние слова Торда о коне, в коня и целился, – стрела, посланная рукой варяга, ударила коню в переднюю ногу, под самую грудь, конь споткнулся, упал на всем скаку, а Глеб не успел выдернуть ноги из стремян, его придавило конской тушей, но он сам сумел вывернуться, высвободил придавленную ногу и только тогда почувствовал дикую боль в этой ноге, а когда попытался встать на нее, она не подчинялась.
Его люди остановили своих коней, кони испуганно вытанцовывали, храпели, прядая ушами; наперед выехал со своим конем любознательный повар князя по имени Торчин, ибо и в самом деле происходил то ли от турок, то ли от агарян, знал лишь несколько слов по-русски, зато готовил дивные блюда для княжеского стола, а еще отличался огромным женолюбством и неутолимой любознательностью. Наверное, любознательность толкнула его и сейчас вперед, но это не привело к добру, потому что князь, увидев первого всадника, крикнул:
– Подай мне коня!
Торчин подъехал к князю, но с коня еще не сходил, ибо и не понял толком, чего от него хочет князь. Тогда Глеб дернул его за ноги, посиневшими от боли и злости губами даже не прокричал, а прошептал:
– Слезай с коня! Мигом!
Торчин снова не понял.
– А я? – спросил он, увидев наконец стрелу в ноге княжьего коня и с ужасом ожидая, быть может, точно такой же стрелы и себе в спину.
– Слазь! – прокричал князь и потянулся к мечу. Тогда Торчин слетел с коня, но не на ту сторону, где стоял обезумевший князь, а на противоположную, упал, мигом вскочил и, пригнувшись, побежал за деревья.
Глеб с огромным трудом уселся в седло, махнул рукой, погнал во весь опор. Боль была такой невыносимой, что пришлось перевести коня сначала на рысь, а потом и вовсе на медленный шаг, но за это время они уже отъехали от того проклятого места, где, видно, засели бродники, грабившие купцов. Глеба окружила его дружина, поддерживали побледневшего князя и тихо поехали дальше, потому что тропа вывела их как раз к берегу Смядыни.
Дорогой ценой пришлось заплатить князю Глебу за вынужденное промедление. Когда он вот так, неторопливо, приближался к насаду, который ждал их с сонными гребцами возле берега, сбоку, перерезая им путь, полетели между деревьями темные всадники, и только тогда понял князь, что это не бродницкая стрела летела в него, что не грабителям понадобился его конь или богатство, а послано за его головой. Снова пересилив боль, Глеб пустил коня наметом, подскочил со своими людьми к насаду, крикнул, чтобы помогли ему слезть на землю, князя, поддерживая под руки, повели как можно скорее на суденышко. Глеб шептал: «Скорее, скорее, скорее». Один из дружинников мечом перерубил веревку, которой насад был привязан к прибрежному черному, с обнаженными лапчатыми корнями вязу, сонные гребцы, проснувшись, готовились отталкиваться от берега длинными тяжелыми веслами, но тут приспела погоня, варяги слетали с коней на скаку и прыгали в беззащитный насад с обнаженными мечами, и мечи их сверкали, словно вода, и смывали кровью все, что попадалось на пути, а между варягами завертелся княжий повар, страшный в своей ненависти к князю, которого перед этим столько лет кормил и который так коварно бросил его в чужом лесу на произвол судьбы. Повар подскочил к Глебу и, прежде чем тот успел выхватить ослабевшей рукой свой меч, загнал ему в грудь широкий нож. «Не дейте[50]50
Не дейте – не трогайте (древнерусск.).
[Закрыть] меня, братия моя милая и дорогая, не дейте!» – заплакал-закричал по-детски юный князь, но тут ударили еще и варяги, Глеб упал мертвый; тогда Торчин прыгнул ему на грудь и двумя взмахами отполосовал князю голову.
Торд-старший взял голову и старательно уложил ее в кожаный мешок, висевший у него за плечами.
События, в особенности же страшные, имеют особенность повторяться, даже совпадая при этом во времени. Опять-таки, быть может, именно тогда, когда таинственные варяжские всадники по мхам, брусничникам и нежарам гнались за князем Глебом, из Киева на Альту тоже отправились всадники, с той лишь разницей, что первые снаряжены были без ведома князя Ярослава, а вторых послал сам Святополк, и велено было этим последним привезти в Киев молодого князя Бориса добровольно или силою, живого или мертвого, ибо кличет его к себе старший брат, который сел на отний[51]51
Отний – отцовский (древнерусск.).
[Закрыть] стол и требует покорности от всех братьев младших. Это были отчаянные вышгородские бояре Путьша, Талец, Еловит и отрок Святополка, прозванный Ляшком, потому что привез его князь от своего тестя Болеслава, хотя был этот отрок неизвестной крови, скорее походил на дикого степняка, обладал неугомонным нравом и отличался глупой отчаянностью. И если варяги, отправляясь в погоню за Глебом, не боялись, в сущности, никакой опасности, то посланцы Святополка ехали, возможно, и сами на верную смерть, ибо Борис стоял на Альте не один, а с огромным войском, которое еще не присягнуло Святополку, да и неизвестно, станет ли на его сторону или же, быть может, перейдет на сторону Бориса, поскольку всем было известно, какой чести удостоил князь Владимир Святополка и каким доверием у отца пользовался Борис.
Тем временем Борис напрасно ждал на Альте появления печенегов. Дозоры, посланные далеко в степь, не обнаружили никаких следов врага, до князя дошли слухи, что печенеги отошли от Киева и слоняются где-то неподалеку от дорог и переправ; князь хорошо знал, что войско необходимо его отцу прежде всего для того, чтобы выступить против непокорного Новгорода; лето уже достигло середины, стало быть, наступила наилучшая пора для похода, но возвращаться в Киев без веления князя Владимира Борис не смел, напоминать великому князю о походе на Ярослава тоже не мог и потому, растерянный и нетерпеливый, продолжал стоять в поле перед Альтой, целыми днями не выходил из своего шатра, ревностно молился, вел благочестивые беседы с отроком своим – угрином Григорием, которому за тихий нрав и верную службу подарил тяжелую шейную чепу из чистого золота; так что, когда посланные Святополком люди подъехали к шатру Бориса с княжеским флажком, навстречу им вышел Григорий, и они сначала приняли его за самого князя из-за этой гривны и малость даже опешили, несмотря на все свое нахальство, но сразу же опомнились, как только Григорий поклонился им низко, увидев их дорогие одежды, и сказал, что спросит князя, сможет ли тот принять посланцев. Сбежались отроки, прислуживавшие князю, стали подходить и воины; Путьша дал знак своим людям, чтобы были наготове, а сам, еще и незваный, пошел в шатер, оттолкнул Григория, преградившего ему путь, направился дальше, прямо в княжескую опочивальню. Борис, свесив босые ноги с ложа, сидел в одной сорочке, потому что имел обыкновение после обеда немного подремать, а он только что пообедал, самим ведь Богом определен полдневный сон: испокон веков в полдень отдыхает и зверь, и птица, и человек; теперь Борис недовольно поглядывал на боярина, который не дождался даже, пока князь натянет порты, но одновременно старался он и подавить свой гнев, ибо посланец, наверное, был от великого князя и принес вести о возвращении в Киев.
Путьша не поздоровался, не дал князю одеться или хотя бы малость опомниться. Подошел к самому ложу и, сверху вниз поглядывая на худенького, еще совсем юного, только-только бородка начала прорастать, князя, сказал толстым басищем:
– Отец твой умер, царство ему небесное, а в Киеве сидит князь Святополк и велел тебе без промедления ехать с нами к нему.
Князь растерянно смотрел на толстое лицо Путьши, – видно, его страшно поразила весть о смерти отца, а уж что касается Святополка, то он, наверное, и не услышал, а если и услышал, то ничего не понял, еще меньше понял он о требовании старшего брата ехать к нему с поклоном. Борис хотел что-то промолвить, но губы его шевелились без малейшего звука, испытывал лишь неодолимый страх, панический, безудержный страх перед этим грубым, незнакомым боярином, перед его жестокой вестью, перед его наглостью, с радостью убежал бы сейчас куда-нибудь, не был бы ни князем, ни воеводой, уже жалел, что не послушался брата Ярослава и не поехал на его призыв, теперь был бы далеко отсюда, от отцовской смерти, от всех ужасов, которые принес ему, сонному и растерянному, этот чужой человек с нахальным голосом; более же всего обескураживало князя то, что сидит перед зловещим боярином почти голый, без портов, без оружия, имея только крест на шее, но что крест, когда на человека внезапно обрушивается столько горя.
– Григорий, – отважился наконец князь на какое-то решение, – Григорий, где ты?
В голосе Бориса было столько отчаяния и боли, что Григорий, которого придерживал на дворе Еловит, не пуская его в шатер, рванулся внутрь, чуть не сбил с ног Еловита, лихорадочно выхватил из ножен широкий свой меч, одним прыжком очутился возле расшитого полотна, закрывавшего вход в княжескую опочивальню, но за его спиной гибко вывернулся Еловит и длинным своим копьем ударил почти вслепую вслед угрину, попал ему между лопаток, Григорий упал. Тогда Еловит выдернул копье из тела отрока, влетел туда, где вел переговоры с князем Путьша, увидел там тонкого безбородого юношу в одной сорочке и, быть может, не разбираясь толком, князь это или еще ктонибудь из его отроков, взмахнул копьем и ударил юношу в грудь. Тот молча, спокойно, без единого стона, заливаясь кровью, упал на ложе.
– Наделал же ты, – приглушая голос, сказал Путьша. – Режь шатер, заворачивай князя – и айда!
Еловит не растерялся, его не испугало восклицание Путьши. Не из тех был, чтобы пугаться. От деда-прадеда передавалось Еловиту разбойничье ремесло, выслеживали они проходящие мимо Вышгорода нагруженные товарами купеческие челны, нападали на них темными ночами, молча отправляли купцов и гребцов на тот свет, забирали все с челнов, топили и челны, так что где-то на дне собирались целые кладбища людей и челнов, а Еловиты богатели, богатство их росло, словно верба из воды, все концы своих преступлений тоже умело прятали в воду; теперь же Еловит прятался в своих поступках за князя Киевского Святополка – так чего же было бояться? Он выхватил нож, полоснул по шатру, вырезал огромный кусок полотна; когда сворачивал ткань, споткнулся об отрока Григория, заметил на его шее золотую гривну, наклонился, попытался снять чепу, но она заперта была довольно прочно. Однако жаль было оставлять такую драгоценность. Тем самым ножом, которым полосовал шатер, Еловит умело отрезал голову убитого, снял гривну, бросил ее себе за пазуху, а уже после этого начал заворачивать Бориса, еще и не зная толком даже, умер тот или только потерял сознание.
Так начал свой кровавый и окаянный путь к княжескому столу Святополк. Впоследствии брат его Святослав, узнав о страшной смерти Бориса, попытается бежать от Святополка к своему тестю в угры, но наемные убийцы догонят Святослава в Карпатах и убьют безжалостно и жестоко.
Но одна злая воля натолкнулась на другую, тоже злую, хотя и невольно, ибо Ярослав, тоже стремясь к неразделенной власти, не мог пользоваться средствами, применяемыми Святополком, он еще не знал, какой жестокой и лишенной каких бы то ни было угрызений совести будет борьба, в которую он включался в своем стремлении сесть на киевский стол, он с возмущением отбросил бы подсказку прибегнуть к устранению смертью братьев своих, пускай и рожденных от разных матерей, но все же от одного отца. Но Ярославу покамест пришла на помощь сила посторонняя, и называлась эта сила – Коснятин, посадник новгородский.
Коснятин был старше Ярослава и по возрасту, и по опыту, он хорошо знал, что к власти легче всего идти тогда, когда ничто и никто не стоит меж тобой и властью. Между киевским столом и Ярославом стояло слишком уж много людей: все его братья. Одни были далеко, другие, как Судислав, сидели тихо, а этот юный заехал в Новгород лишь для того, чтобы заявить старшему брату, что выступит против него вместе с Владимиром, погрозился и уехал, считая, будто так оно и заведено. Коснятин же убежден был, что такую дерзость нужно покарать, и покарать немедля и без сожалений. Вот и подговорил он Торда-старшего с небольшой дружиной отправиться на это темное дело в ту самую ночь, когда князь Ярослав впервые уединился со своей молодой женой.
Молодая княгиня должна была разуть своего мужа и найти в одном сапоге золото, а в другом хлыст – пускай ждет достатка, но не забывает о постоянном подчинении мужу. Ингигерда, которую князь стал называть по-своему, Ириной, неопределенно как-то улыбаясь, стянула с него один тимовый сапог, обшитый жемчугами, потом стянула и другой и отбросила его далеко, а еще дальше – арапник. Стояла на коленях, выпятив грудь, распростерши согнутые в локтях руки, загадочная улыбка блуждала у нее на устах, такая похожая на улыбку Забавы-Шуйцы в первый день их сближения, что князь, забыв про торжественность минуты, не стал ждать, пока княгиня встанет и пойдет на ложе, не подал ей руки, как это, наверное, надлежало, а двинулся к ней как-то неуклюже, боком; наверное, сказалось опьянение от целодневной гулянки, – он навалился на Ирину с коротким, нетерпеливым всхлипом, и уже не были они князем и княгиней, не было в ней ничего от холодной загадочной королевы; подхваченные яростной жаждой телесной, вмиг стали они обыкновенными людьми, смертными и грешными, и утонули в темной сладости, забыв про все дела на свете. Когда же, немного погодя, Ярослав снова, как тогда, из саней, взял жену с пола, неуклюже и неумело, отнес ее на ложе и при мерцающем свете свечей на миг заглянул в ее пронзительно-прозрачные глаза, горячей ненавистью ударило ему в сердце, он стиснул ей руки так, что она застонала, и этого уже было достаточно для него, он почувствовал себя хотя бы немного отомщенным, отошел в темноту, подальше от ложа, встал спиной к жене, сказал глухо:
– Почему не цела?
– Потому что далека дорога, – ответила она сразу, словно бы ждала подобного вопроса.
Ярослав почувствовал себя пораженным еще больше. Оказывается, она ехала к нему и не ждала даже встречи со своим будущим мужем, не уважила его никак.
– Как это так? – допытывался он, хотя и знал, что об этом не стоит больше говорить.
– До тебя далеко… не далеко – долго. – Она, видно, путалась в словах, и он наконец понял, что речь идет о давних временах, когда она еще, возможно, и не слыхала о нем и когда, следовательно, он не имел и не мог иметь над нею никакой власти. Да и сам тогда разве сохранял себя в неприкосновенности?
– Бьют ли у вас короли своих жен? – попытался перевести разговор немного в шутку, но Ирина истолковала его вопрос прямо.
– Кто сильнее, тот того и бьет, – сказал она, не шевелясь, с полнейшим ощущением своего превосходства над князем, который первую брачную ночь разменивал на столь мелочные разговоры. – Жены у нас тоже сильные. Выбирают у нас тоже не всегда мужчины. Бывает так, а бывает и иначе.
– Тебя выбрал я, – твердо сказал Ярослав, благодаря Бога, что окутывал его сейчас темнотой.
– Захотела я поехать к тебе, вот и имеешь меня здесь. А послать меня никто не смог бы.
Он знал теперь точно: будут они жить в постоянной вражде, никто не уступит ни в чем, только и преимущества его было – в княжении (где оно еще?) да в мужской своей силе, хотя ни над телом ее, ни над духом повелевать ему не удастся. Это открытие глубоко поразило Ярослава, не очень хотелось иметь под боком жену, которая сохраняла бы свою личность и жила бы независимо от его воли, недоступная и настороженная. Но что он мог поделать?
– Иду на Киев, и ты со мной тоже, – сказал он, стараясь хоть чем-нибудь ей досадить.
– Вельми охота мне посмотреть на Киев, – не сдавалась Ирина, – много слышала про этот город, скальды слагают о нем песни.
– Не смотреть идем – княжить, – напомнил Ярослав, хотя вдруг сам засомневался, утратил веру в достижимость цели после сегодняшнего вечера, когда все у него ускользало из-под ног.
– Потому и приехала к тебе, – холодно улыбнулась Ингигерда, – верю в тебя, знаю, что будешь князем в Киеве.
– Веришь? – Ярослав не удержался, вышел из темноты, вспугнутые тени заметались позади него, свечи торопливо обнимали его лицо теплыми ладонями лучей. – Знаешь?
– Да. – Она улыбнулась с невыносимой горделивостью, он ненавидел ее за эту улыбку; если бы на ее месте была какая-нибудь другая женщина, возможно, задушил бы ее, растерзал, уничтожил, но перед ним была его собственная жена, княгиня Ирина, которая, еще и не став, собственно, как следует даже княгиней Новгородской, уже с уверенностью говорит про стол киевский. Опьянение снова нахлынуло на Ярослава, пошатываясь, он подошел к ложу, порывисто наклонился над Ириной, с жаркой жестокостью впился губами в ее уста, забил ей дыхание, она глухо застонала, тяжело повернулась всем своим крупным телом, чтобы вырваться от него, но Ярослав обнял ее руками, ибо отступать ему было уже некуда, мгновенно открылось перед ним, что ничто не будет даваться ему в руки, может, всю жизнь придется бороться вот так со всем на свете, начиная от родного отца и родной жены и кончая самыми яростными врагами, ибо что такое жизнь людская, как не бесконечная борьба с темными силами, с греховными страстями, с собственной слабостью, с дуростью, с чрезмерной доверчивостью?
С утра, после святой службы в церкви и раздачи милостыни нищим и убогим, Ярослав велел рядом с длинным столом вдоль Волхова поставить еще столько столов, сколько нужно, чтобы поместились все желающие, и свадебный пир продолжался уже по-новому; теперь князь пировал со всем Новгородом и был люб сердцу новгородцев, и жена его смотрела на князя уже не такими пронзительно-холодными глазами, было в них ожидание, и настороженность тоже была; Ярослав ждал еще хотя бы малейшего признака пугливости в этих глазах, боязни, но еще, наверное, не настало время для этого, не могла Ирина покориться так быстро и легко, зато люд новгородский отдал сердце своему князю, и в беспорядочном гомоне то тут, то там удавалось услышать ему отдельные восклицания:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































