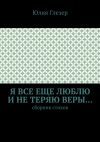Текст книги "Об альманахах 1827 года"

Автор книги: Петр Вяземский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
II
И все то блого, все добро!
Державин.
Сколько альманахов на 1827-й год и ряд их еще не сомкнут: запоздалые явятся после. Сколько открывшихся поприщ для суетности поэтов и прозаистов, поживок для читателей, требующих разнообразной, но не обременительной пищи, для критиков, нуждающихся в работе полегче и приспособленной в их трудолюбию. Нельзя не порадоваться этой письменной промышленности, несколько оживившей застой нашей литературной торговли. Да могут-ли, спросят, при малом числе наших зажиточных промышленников в литературе, поддержаться достойным образом предприятия слишком частые и частные? Нет, без сомнения: некоторые альманашные домы, пораженные банкрутством, оказываются несостоятельными перед читателями своими. Падения эти прискорбны, но все предпочитаю их совершенной безжизненности на Парнасской бирже; к тому же, в числе сомнительных бумаг, пущенных в оборот, встречаются иногда бумаги верные, залоги надежные, которые выручить можно после. Одни журнальные монополисты гневаются; но, как мы уже сказали, до журналистов читателям дела нет. А как мы говоря, писатели созданы для читателей, а не для журналистов, хотя если спросишь у сих последних чистосердечного признания, то они готовы сказать, что и читатели и писатели созданы для них, как золотых дел мастер, в басне Красицкого, говорит, что носы созданы для табакерок. Но таковым мастерам золотых и журнальных дел можно сказать с Мольером: Vous êtes orfèvre M. Josse. Нет сомнения, что появление книг, занимательнейших по приятности и пользе, было бы утешительнее, но, простирая наши требования и надежды далее и выше, не станем с излишнею спесью и неуместным презрением отвергать и скроыное вспомоществование. Бедный сердится не на полтинник, который у него в кармане, а на то, что у него нет десяти рублей. Возьмем пример с него в нашей литературной бедности, и пока не разбогатеем, не станем прятать пустых рук в карман, когда добрые люди предлагают нам посильные подаяния.
Приступим к беглому обозрению шести альманахов, лежащих перед глазами, и начнем с совета покупателям и читателям книг: не верить нам на слово и, не смотря на приговоры наши, поверять их собственным испытанием; убедительно им советуем купить и прочесть все шесть альманахов, о коих идет здесь речь, и все предыдущие и в свое время все последующие. Русские книги, по сравнению, довольно дороги отдельно; но за то дешевы в общем годовом итоге. За несколько сот рублей в год поквитаетесь вы по совести с Русскою литературою.
Северная Лира может, кажется, быть призвана за представительницу Московских муз. Имена писателей, в ней участвующих, принадлежат по большей части Московскому Парнассу: не знаю, можно ли сказать: Московской школе, хотя точно найдутся признаки отличительные в новом здешнем поколении литературном. Вообще вся ваша литература мало имеет в себе положительного, ясного, есть что-то неосязательное, облачное в её атмосфере. В климате Московском есть что-то и туманное. Пары зыбкого идеологизма носятся в океане беспредельности. Впрочем, из этих туманов может еще проглянуть ясное утро и от них останутся одни яркия блестки на свежей зелени цветов. Один из издателей Северной Лиры, г-н Раич, уже знаком с выгодной стороны читателям; опыты другого носят признаки дарования. Судя по некоторым отрывкам, кажется, он занимается литературою восточных народов: такое изучение может принести много пользы нашей, если оно доведено будет с успехом до конца. Полуисполнения, как в других сферах, так и в литературе, ни к чему, или, по крайней мере, к немногому служат. Мало пользы, да и радости мало, видеть под маловажными статьями в прозе или в стихах отметку, что это подражание Персидскому, Арабскому, Монгольскому и проч. и проч. Такая пестрота даже и не ослепительна. Из сочинений г-на Раича, здесь помещенных, важнейшие – в прозе: Сравнение Петрарки и Ломоносова (по крайней мере думаем, что оно писано самим издателем, хотя под статьею означена одна заглавная буква: Р).; в стихах: Отрывок из Освобожденного Иерусалима; смерть Свенона. Вообще в характеристических сравнениях двух авторов бывает более полуистин, чем истины; более изысканности, насильственности, чем естественных прикосновений. Кто-то читал Риваролю сравнение Расина и Корнеля. Выслушав чтение, Ривароль сказал: «По моему мнению, можно сравнение наших трагиков сократить таким образок: общее в них, что тот и другой писали трагедии; разность, что одного звали Фома Корнель, другого Иван Расин». В сравнении Петрарки и Ломоносова, некоторые главные черты их, а особливо же первого, означены верно и живо, но, признаюсь, усматриваю редко точки, где эти черты сливались бы вместе. За исключением влияния того и другого на современную каждому поэзию, учености того и другого поэта и замечания, что Петрарка остался представителем Италианской литературы XIV века, Ломоносов считается представителем литературы Русской века Елисаветы, не понимаю: в чем и как хотел сочинитель сводить их? Не слишком-ли также увлекается он любовью в Итальянской словесности и Петрарке, когда радуется, как хорошей находке, что Ломоносов, «умел счастливо перенесть в свои творения много, очень много Итальянского и даже некоторые, так называемые concetti». Едва ли и подлинные concetti не безобразная прикраска Итальянских стихов, а заимствованные concetti на Русский лад и того хуже. Впрочем, вероятно в Ломоносове этот мишурный блеск не подражание, а просто погрешность, свойственная худому вкусу, не озаренному светом здравой критики, и насильственной игре воображения. В сей статье встречается забавная обмолвка. Автор говорит, что из Понтремоли в Неаполь пришел старец, и к тому же слепой, чтобы видеть Петрарку. Впрочем, за исключением основной мысли сего сравнения, которая по существу своему, как мы сказали выше, всегда сомнительна, и здесь, в применении к Петрарке и Ломоносову, кажется еще менее удовлетворительного, статья сия имеет неоспоримое достоинство литературное: в ней заметны сведения в Итальянской словесности, хороший слог, благородные чувства и направление ума благонамеренное. Опыты г. Раича в переводе Освобожденного Иерусалима уже известны читателям, также как и критические замечания, к коим они подали повод. Находят, что куплет, из 12-ти стихов г-на Раича, не отвечает итальянской октаве; что он не приличен поэме, потому что присвоен Жуковским балладе. Но какую же форму принять? Итальянская октава, по бедности нашей в рифмах, неприступна для большего творения. Александрийский стих слишком важен и утомителен со временем. Баллада принадлежит повествовательно-лирическому роду; поэма, разделенная на стансы, может также отнестись к роду лирико-эпическому. Сообразя все это вместе, мы готовы почти оправдать г-на Раича. Отлагая в сторону форму, должно признаться, что стихи переводчика часто живы и сочны, почти всегда звучны и вообще хороши. В отрывке: Смерть Свенона, язык вернее, строже и зрелее, чем в прежних опытах: в нем гораздо менее и почти вовсе не находится прежде встречавшихся заимообразных оборотов Жуковского, которые могут быть хороши у него, потому, что они его коренные, но становятся погрешными, когда они пересажены на чужую почву. По любви г-на Раича к Итальянской литературе и по сведениям его, должно желать, чтобы он короче познакомил нас с нею, предлагая нам в прозаических переводах и критическом рассмотрении лучших писателей Итальянских, стихотворцев и прозаистов. Переводы в стихах приятны и льстят более суетности переводчиков, но могущество стихотворства так сильно, что, забывая о подлиннике, мы судим перевод, как оригинальное творение; переводы в прозе полезнее, более действуют на язык, на который переводят, более пускают идей, образов в обращение и всегда совершеннее знакомят и сближают литературы и языки. На переводчике в стихах лежат две неволи, а и с одною справиться тяжело.
В числе хороших стихотворений, помещенных в Северной Лире и носящих подписи уже известные, отличаются начальные опыты поэта, в первый раз являющагося на сцене. Стихотворения Андрея Муравьева: Ермак, Воззвание к Днепру, Русалки, Отрывок из описательной поэмы: Таврида, исполнен надежд, из коих некоторые уже сбылись. Выпишем несколько стихов из Русалок:
Волнуется Днепр, боевая река,
Во мраке глухой полуночи;
Уж облако месяц прорезал слегка
И неба зарделися очи.
Широкия идут волна за волной
И с шумом о берег биются,
Но в хладном русле, под ревущей водой,
И хохот и смех раздаются…
Как под вечер звезды ясные
Заиграют в небесах,
Друг за другом, девы красные
Выплывают на волнах…
Русы косы рассыпаяся,
С обнаженных плеч бегут,
По валам перегибаяся,
Золотым руном плывут;
Грудь высокая волнуется
Сладострастно между вод,
Вал ревнивый полюбуется
И задумчиво пройдет;
Руки дев, как мрамор белые,
Подымаются, падут;
То в восторге юной радости
Будят песнями брега,
Иль с беспечным смехом младости
Ловят месяца рога
Над водою….
Картина прелестная и во всех частях с искусством выдержанная: последняя черта удивительно игрива. Можно только заметить лишнее слово в стихе:
И хохот и смех раздаются –
смех после хохота – вставка, и неправильное ударение в слове: русло. Ермак написан другою кистью: краски здесь мрачные и более силы в чертах; но в нем также есть живая поэзия в вымысле и выражении. Посреди имен известных и анонимов, в подписях Северной Лиры встречается загадочное имя: Делибюрадер. Вот одно из его стихотворений, с Арабского:
Нама
Уаль нашру мискун.
Усть её дыханье –
Мускус благовонный;
А ланиты – розы;
Зубы – млечны перла;
Стан – лозы стройнее;
Бедра округленны –
Холмики песочны;
Локоны густые –
Мрак осенней ночи;
А лицо сияет –
Словно полный месяц.
Скажите по совести: не правы ли мы, когда сказали, что мало радости и пользы от похищений такого рода, хотя и добыты они издалека? Пускай это и тому подобное с Арабского на Арабском языке и остается. Довольно нам и одного Греческого Анакреона, которому нам велят кадить, потому что он древний и Грек, хотя в новейшие времена нередко за приятельскими пирушками встречаются свои Анакреоны; но для Европейской гордости нашей слишком уже будет оскорбительно, когда захотят колоть нам глаза Арабским анакреонтичеством. Отрывок из сочинения об искусствах носит ту же загадочную подпись. В сей статье, которая по большей части одна компиляция, но довольно искусно и живо составленная, полушуточно, полуучено, полумифологически, полуисторически, излагают мнения о могуществе музыки и степенях состояния её у разных народов. Письмо о Русских романах, или, правильнее, о возможности писать Русские романы, произведение г-на Погодина, умное и занимательное. Признаемся однакож, что, соглашаясь с ним во мнении, что у нас в истории встречаются предметы для поэтических романов, сомневаемся в богатстве наших материалов для романов в роде Вальтера Скотта. В нашей истории, по крайней мере до Петра Великого, встречаются, разумеется, лица, события и страсти, но нет нравов, общежития, гражданственного и домашнего быта: источников необходимых для наблюдателя-романиста. Жаль, что автор, в письме своем о Русских романах, задевает, как многие из наших комиков, погрешности условные, мнимые, а не существенные. Описывая, например, общество, в коем он находился, продолжает он: «Сперва похвалены были, как водится, все присутствовавшие взаимно друг другом». – Характеристическая-ли это черта наших нравов? Мало ли в наших блистательных собраниях встретится истинно смешного? За чем прибегать к общим, так сказать, давно заданным уликам? «Сколько есть у нас Тарасов Скотининых», говорит автор: и тут не метит он в цель. Тарас Скотинин и в комедии Фоневизина каррикатура, а не портрет. Пред пороком и глупостью не должно выставлять увеличительное зеркало: им это по руке. Они скажут: «мы себя здесь не узнаем» – и ваши исправительные меры останутся без успеха. Лучше дотрогивайтесь слегка, но задирайте всегда за живое, то есть, за истинное. Читатели найдут еще в Северной Лире произведения Гг. Шевырева, Титова, Веневитинова, Тютчева, кн. Одоевского и некоторых других; все они более или менее отличаются или игривостью мыслей, или теплотою чувства, или живостью выражения. Одним словом, Северная Лира, посвященная издателями любительницам и любителям отечественной словесности, может во многих отношениях заслужить их признательность.
Если главный признак альманаха Северная Лира есть какое-то поэтическое стремление в темную даль или надоблачный и отчасти облачный эмпирей, то главный признак Календаря Муз есть, напротив, прозаическое уклонение в дольнему миру. Тут, как в силу какого-то закона литературного тяготения, все, более или менее, земное, житейское; во, впрочем, с движением к некоторому усовершенствованию, потому что Календарь Муз на 1827-й год лучше того, который мы видели в 1826-м. Отделение прозы, содержащее 8 повестей, или, по крайней мере, восемь статей в повествовательном роде, довольно разнообразно. Не знаем кого благодарить за них: писатели оных остались или в совершенной безызвестности, или некоторыми заглавными буквами захотели только подстрекнуть любопытство наше, а не удовлетворить ему. Впрочем, до имен дела нет. Отделение стихотворное – не поэтическая часть Календаря Муз. За исключением малого числа стихотворений, заключающих в себе некоторое достоинство, прочее могло бы остаться в рукописи для домашнего обихода. Переписка с кумами, крестниками, о зубной боли, о журнале Благонамеренном и проч., и проч., эпиграммы в роде следующей:
Как у тебя, брат, красен нос!
– А вот-с:
Пью белое вино-с….
и тому подобное, теряет много от печати. Такие стихи, как некоторые домашния шутки, должно хранить про себя. Читатели Календаря Муз заметят здесь с удовольствием некоторые из эпиграмм А. Илличевского и остроумные стихи А. Измайлова, которые носят отпечаток Французской замысловатости. Выписываем их:
Любительнице кошек
(с гравированным изображением кота)
Вот самый смирный кот!
Прошу принять его; от вас он не уйдет
И вам нисколько не наскучит;
Он не царапает и даже не мяучит;
Кормить не надобно: не ест да и не пьет,
На стул или под стул его вы положите,
И будет он лежать, не тронет ничего;
Лишь дальше от мышей держите,
А то они съедят его.
Детский Цветник и Незабудочка не должны быть рассматриваены в литературном отношении. Посвященные детям, такие книги уже достигают своей цели, если удовлетворяют потребностям родителей и наставников, нуждающихся у нас в чтении для детского возраста. Скажут, что эти альманахи могли иметь более внутреннего достоинства, с лучшим согласием сочетать полезное с приятным, – не спорим; но, желая усовершенствования в книгах, посвященных детскому чтению, в сей немаловажной, хотя и не блестящей отрасли словесности народной, мы не менее того должны благодарить издателей Детского Цветника и Незабудочки хотя они, в особенности же последний, упражняются с успехом в науке: о легчайшем способе составлять книги. Если ни о том, ни о другом не скажешь по истине:
«Мать дочери велит труды его читать»,
то по крайней мере скажешь: позволит, чего по совести не выговоришь о многих детских книгах, у нас издаваемых; они большею частью, по содержанию своему, и по языку и по слогу, кажется, составлены не с тем, чтобы приучать к чтению, а от него отучать. Подумаешь, что они издаются не только безграмотными по нечаянности, но и по системе, Омарами нового рода.
Отрадное упование, что в мире все стремится в возможному усовершенствованию, оправдывается Невским Альманахом на 1827 год. Он, против прошлогоднего, испытал счастливое превращение как в наружном, так и во внутреннем достоинстве. Остается ему еще много шагов впереди по сей стезе улучшиваний, тем более, что и Невский Альманах, как все альманахи и все человеческое, не могут достигнуть заветного совершенства; но все же есть движение вперед, которое нельзя оставить без внимания литературному оптимисту. Замок Эйзен, Эстляндская повесть, занимает в сей книге почетное место в прозаическом отделении. Она рассказана с большою живостью и увлекательностью и точно более рассказана, чем написана: некоторым из ученых письменников, вероятно, покажется, что в ней слишком много известной своевольности и слишком мало письменного благочиния.
Несколько слов из Гайдамаков, Малороссийской были (составляющих, вероятно, отрывок из целого, потому что конца тут не видно), хотя и не имеют быстроты и оригинальности в слоге предыдущей повести, но не менее того заманчивы и приятны. Картина Малороссийской ярмарки блестит живыми и местными красками: лица хорошо означены, в событиях есть движение и занимательность. Не станем по частям разбирать сии два опыта повествовательные, посоветуем читателям познакомиться с ними. В добрый час промолвить, а в дурной промолчать – с легкой руки Вальтера Скотта и у нас зашевелилось что-то в области романической. Доныне покушения были маловажные, односторонния, подражания более некоторым замашкам Вальтера Скотта, чем духу его; но, придерживаясь литературному оптимизму, станем ждать лучшего, да лучшего, и наконец хорошего. Чтобы достигнуть до степени Вальтера Скотта, идя даже идти далеко за ним, но по одной дороге, нужно не одно дарование, воображение, потребны в тому и многое, к чему у нас еще нет доступа и некоторое всеведение, всеобъемлемость, коих у нас нет еще в обращении.
За достоинство части стихотворной Невского Альманаха ручаются имена Языкова, Козлова, Туманского и некоторых других, участвовавших в ней своими произведениями. Языкова Послание к друзьям кипит живостью и отвагою необыкновенными, особливо же в первой и последней трети. О стихах Языкова можно сказать то, что он в начале Послания говорит о днях своей молодости:
Те дни летели, как стрела,
Могучим кинутая луком;
Они звучали ярким звуком
Разгульных песен и стекла;
Как искры, брызжущие с стали
На поединке роковом,
Как очи, светлые вином,
Они пленительно блистали.
В последних восьми стихах лучшая характеристика стихов Языкова.
Зубная боль и здесь была вдохновением поэтическим, как и в Календаре Муз. Из стихов г-на Панаева узнаем, что он страдал от жестокой зубной болезни, и вылечен был по милости красавицы, нам неизвестной. Грешно ему, что он утаил её имя. Объявив о нем, оказал бы он важную услугу многим страдальцам, подвергнутым сей несносной боли: они знали бы к кому прибегать в крайности. И тогда можно было бы сказать о стихах по Французскому выражению: le remède est à côté du mal. Кстати о зубах и об эпиграмме г-на Панаева, здесь же помещенной, вспомнили мы, что Д*** называет некоторые эпиграммы беззубыми. Мы заметили с своей стороны, что в этой эпиграмме отзывается большой навык в роду идиллий.
Памятник Отечественных Муз драгоценен по многим отношениям. Издатель его собрал на жатве литературной забытые колосья и цветы, оставшиеся по следам многих знаменитых писателей ваших, умерших и живых, и заслуживает благодарность соотечественников, не равнодушных к именам, озаряющим литературную нашу славу. Имея в руках своих богатый запас прошедшего, освященный смертию, или хотя еще живою, но по крайней мере уже испытанною в горниле времени, славою, тем менее должен он был сочетать с светлыми именами Державина, Карамзина, Фон Визина, Суворова и некоторых других, имеющих постоянное право на внимание наше, имена темные и мало значительные. Издатель говорит в предисловии своем, что тени нужны и неизбежны в самой лучшей картине; но Памятник Отечественных Муз – не картина, а храмина и должен быть пантеоном памятных мужей, а не всемирною сходкою, где Бавий возле; Горация, великан вместе с карлами, поэты с рифмачаии. Напрасно издатель извиняется перед читателями в помещении своих собственных стихов: критики не на них укажут, если пришлось бы им требовать исключения из его собрания, хотя неоспоримо, что оно более отвечало бы своему заглавию и назначению, если издатель ограничился-бы одним побором с вершин нашего Парнасса. Не должно полагать, что произведения знаменитых писателей, здесь помещенные, могут все служить новыми залогами в правах их на славу, уже опирающуюся на твердом основании, но каждое из них возбуждает в нас или умилительные воспоминания, или чувства признательности и уважения, или новое участие любопытства, которое дорожит всякою приманкою для его ненасытной жадности. Разумеется, слава певца Фелицы не озарится новым блеском от стихов его, помещенных в Памятнике; но кто не порадуется находке следующих стихов его:
На птичку
Поймали птичку голосисту,
И ну сжимать ее рукой:
Пищит бедняжка, вместо свисту,
А ей твердят: «пой, птичка, пой!»
Черта к биографии Державина
Кто вел его на Геликон
И управлял его шаги?
Не школ витийственных Содои:
Природа, нужда и враги.
Кто без умиления прочтет выписки из писем Карамзина, кто не услышит в них отголоска языка души, который еще недавно столь красноречиво вещал нам о всем высоком и прекрасном? Кто не узнает гражданина и патриота в следующей мысли и не сознается, что чувство, в ней отзывающееся, должно было ободрять и согревать историка в труде его, нам оставленном?
Для нас, Русских, с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России, или нет гражданина, нет человека. С сими понятиями, вероятно и закрою глаза для здешнего света, pour voir plus clair.
Русская оригинальность автора Недоросля отсвечивается в письме надворного советника Взяткина и в ответе на оное. Письма А. А. Петрова служат для нас драгоценным и горестным свидетельством, что смерть отняла у нас преждевременно будущего писателя.
Стихотворения Львова (Федора Петровича) имеют какой-то свой характер и мы благодарим издателя Памятника, спасшего их от забвения.
В сатирических отрывках князя Горчакова есть резвость и сила, не всегда искусно оправленная в хорошие стихи, но сохранение оных приятная услуга поэзии нашей, бедной сатирами, хотя и есть чем поживиться сатире.
Басня: Гербы и школьный учитель, напротив, резка, сильна и оправлена в прекраснейшие стихи. Читая ее, замигает и защурится не один –
«Сбиратель крох чужих, каплун в литературе».
В шуточных посланиях Жуковского, здесь напечатанных, отзывается веселая замысловатость и необыкновенная увертливость и сила в языке стихотворном. Поэзия в виде Лалла-Рук достойна Английской поэмы и её автора.
За письма Батюшкова из Италии и Франции и некоторые первоначальные произведения автора Онегина должны мы также благодарить издателя, который, вместе с другими драгоценностями, похитил их из рукописных сокровищниц собирателей и пустил в обращение сей мертвый капитал нашей литературы. По справедливости должно указать бы теперь на то, что и останется мертвым капиталом, не смотря на живительные средства печати, употребленные издателем; но мы находимся в каком-то миролюбном расположении духа, мы приветствовали умильно и ласково альманахи и не хотим на прощанье ссориться с ними. Худой мир лучше доброй брани.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.