Текст книги "Дочь Каннибала"
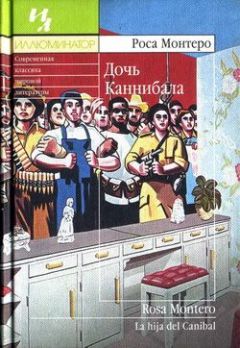
Автор книги: Роса Монтеро
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Так что вскоре я оказался на пароходе, идущем в Испанию. Мне только что исполнилось двенадцать лет, я возвращался на родину с искалеченной рукой, на совести у меня была смерть человека. Когда я покинул Мексику, мне стало легче: я словно отбывал наказание за содеянное. Я помню, как стоял, облокотившись о борт трансатлантического парохода, и радостно предвкушал будущее. Разве я не Талисман, разве удача не сопутствует мне? Удачей было и то, что вместо меня погиб косоглазый, и то, что меня отправили в Испанию, где передо мной откроется огромная, полная приключений жизнь. С жестоким подростковым эгоизмом я решил забыть все, что произошло в Мексике. То есть не все, конечно, а только плохое. Я был еще настолько глуп, что думал, будто можно забыть эту смерть и в то же время гордиться своим подвигом. Я гордился тем, что сумел сделать бомбу, пронести ее в комиссариат и взорвать. А искалеченная рука особенно тешила мое тщеславие: для меня это был словно орден закаленного в боях анархиста-ветерана. Любопытно, как мы, люди, относимся к потерям: тогда, в ранней юности, утрата трех пальцев казалась мне не потерей, а приобретением – я приобрел почетный шрам и, главное, приобрел прошлое, которое я буду накапливать и о котором буду рассказывать.
Со временем я прошел через неизбежное. Во-первых, смерть невинного человека никак не хотела забываться, постепенно он превращался в моего личного мертвеца, и теперь он преследует меня: когда я закрываю глаза, я вижу его рябое лицо с гораздо большей отчетливостью, чем в юности. А во-вторых, я по-настоящему понял, что такое потеря. Начиная с двенадцати лет я все терял и терял. Зрение, слух, ловкость, память. Я проиграл войну, я потерял Маргариту, дорогую спутницу зрелых лет. Потерял Серебряные Ручки, мое безумие и мой крах, потерял брата… Не хочу больше говорить. Все потери перечислить невозможно. И они невыносимы. Ребенок думает, будто жизнь – это накопление, будто с годами ты нечто завоевываешь, зарабатываешь, коллекционируешь, складываешь в свою копилку, а на самом деле ты все время и бесповоротно что-то теряешь, от чего-то отказываешься. Тогда я думал, что изуродованная рука – начало дальнейших приобретений, да это и было начало, но начало бесконечного падения. Я, дурак, думал, что оторванные пальцы – результат сложения, а не вычитания.
* * *
Иногда я спрашиваю себя, сознает ли собака Фока конечность своего существования. Боится ли она смерти, как боюсь ее я. Ей двенадцать лет, а это все равно что для человека восемьдесят четыре. То есть она практически в том же возрасте, что и Феликс Робле, хотя, по-моему, ее общее состояние куда хуже. Она толстая, неуклюжая, иногда волочит задние ноги; кроме того, она глуха как пень, а поскольку слуховых аппаратов для собак не изобретено, объясняться с ней приходится жестами. Ко мне, сидеть, поди прочь, загляни в свою миску – все это я говорю ей движениями руки. Размашистыми движениями – у нее еще и катаракта. Я не знаю, понимает ли она своими маленькими мозгами, что она умирает, или же это ощущение неизбежности конца знакомо только нам, людям, эгоцентрикам, поглощенным своим «я», упорно стремящимся иметь прошлое и будущее.
Да, мне известно, что животные не обладают – во всяком случае, так предполагается – привилегией и мукой самосознания. Но иногда, глядя на собаку Фоку, я думаю, что все-таки она знает: конец близко, тьма сгущается. В мире дикой природы постаревшие звери прекрасно понимают свою беззащитность, понимают, что их победит первый же соперник или сожрет первый же тигр. У собаки Фоки нет врагов тигров, но страхи у нее есть. Ведь нет ни одного живого существа, которому страх был бы неведом, то есть можно сказать, что страх – сама суть жизни.
И собака Фока явно боится своей беспомощности. Боится, что не услышит, кто входит в дом, не учует того, кого любит. С тех пор, как она стала такой – слабой и поглупевшей, – она гораздо чаще, чем раньше, жмется ко мне, чтобы не потеряться; дома она ложится на пороге, чтобы каждый входящий непременно на нее наткнулся; она печально вздыхает, ведь собака – единственное живое существо, кроме человека, которое умеет вздыхать; она кладет голову между лапами и смотрит на меня очень грустно и очень по-стариковски. Да, ясно, она тоже знает. Она тоже предчувствует потерю, как сказал бы Феликс, и потому безутешна.
Конечно, самыми трагическими потерями в те дни были мои потери. Я потеряла не только мужа, но и возможность передать выкуп и покончить с этим кошмаром. Наутро после проваленной операции в супермаркете я находилась в истерическом состоянии.
– И что теперь будет? Рамона будут мучить? Что, по-твоему, нам надо делать? – спросила я Феликса за завтраком.
– Теперь мы можем только ждать. Другого выхода нет, – ответил он. – Они снова выйдут на связь с нами, я в этом уверен.
– Но бандиты наверняка ничего не поняли, – настаивала я все возбужденнее. – Они же не знают инспектора в лицо! Вот если они его узнали, тогда дело плохо: они решат, что это мы известили полицию.
– Погоди, успокойся, – сказал Феликс. – Я уверен, что Гарсию они не видели, иначе не осмелились бы хватать чемодан.
– Тем хуже! Они решат, что мы их обошли, что мы спятили! Ты сам подумай, – ныла я. – Как раз когда этот тип ухватился за ручку, появляется Адриан и, как хозяин, вырывает у него чемодан.
– И вовсе не как хозяин, – вставил Адриан. – Я слышал, ты сказала, что пора прекращать операцию, я ее и прекратил.
– Да-да, извини. Я не собиралась упрекать тебя. Просто я… я в большой тревоге! Но ты прав, если бы ты не унес чемодан, инспектор схватил бы бандита, и тогда уж точно нам солоно пришлось бы.
– Конечно, – подтвердил Феликс. – Лучше всего принимать жизнь такой, какая она есть. Как бы то ни было, всегда может быть хуже. А ведь нам очень повезло, что инспектор не задержал Адриана. И этого я никак не могу понять.
– Наверное, он хотел схватить нас в момент передачи выкупа. Чтобы сцапать нас всех, – предположила я.
– Вероятно, так оно и есть. Но все равно нам очень повезло. Пусть Адриан действовал несколько опрометчиво, зато реакция у него…
– Может быть, я и опрометчиво действовал, но я действовал, – перебил его Адриан. – А ты, такой умный, такой опытный, такой матерый налетчик, валялся на полу, как покойник.
– В общем, мы опять на том же месте, с которого начали, – постаралась я прекратить начинавшуюся ссору. – Или все обстоит даже хуже, потому что теперь мы знаем, что полиция за нами следит. Как по-твоему, Феликс, стоит ли мне позвонить Гарсии?
Мой сосед с большим достоинством молча наливал себе вторую чашку кофе, держа кофейник слишком высоко над столом. Я уже давно знала, что за ним такие штучки водятся; когда его физические или умственные способности подвергали сомнению, когда задевали его возраст, он, как мальчишка, выкидывал всякие фокусы, доказывая свою силу и ловкость. Например, пытался одним прыжком преодолеть три ступеньки у подъезда или рукой открутить не откручивающуюся крышку консервной банки. Или, как сейчас, наливать кофе в чашку с околоземной орбиты, чтобы продемонстрировать твердость руки. Он сильно обрызгал себе рубашку и половину кофе пролил на блюдце.
– Да, я думаю, нам надо позвонить инспектору, – сказал он. Это «мы» меня страшно раздражало. – Прикинься, будто ничего и не было. Послушаем, что он нам скажет. Мы со вчерашнего дня ничего о нем не знаем, а его лучше держать в поле зрения. А потом, может, им удалось выяснить что-нибудь полезное. Хотя в этом я сомневаюсь.
– А ты знаешь, как завязывают узел на удавке? – ни с того ни с сего бодро спросил Адриан.
– Не знаю и знать не желаю, – ответила я, не обратив особого внимания на его слова. И продолжала, обращаясь к Феликсу: – Ты прав. Я сейчас подумала об этом и поняла, что инспектор сегодня мне не звонил. И это странно.
После исчезновения Рамона Гарсия звонил каждое утро.
– Вот именно. И еще более странно, что инспектор был осведомлен о передаче выкупа. Я хочу сказать, что если бы я был на месте Гарсии и узнал бы о передаче выкупа, пусть из подслушанных телефонных разговоров, или от какого-нибудь доносчика, или другим путем, я бы немедленно позвонил, чтобы выудить у тебя дополнительную информацию, – размышлял вслух Феликс.
Пока он говорил, Адриан снял кроссовку, поставил ее, как последняя свинья, на стол и принялся вытаскивать шнурок. Внезапно мне стало ясно, что он делает, это было как озарение.
– Адриан, – сказала я сурово. – Ты что, хочешь показать нам, как делают петлю на удавке?
Он оставил кроссовку в покое.
– А тебе разве не интересно?
– Конечно, не интересно. Это уж слишком! Идиотизм какой-то.
– Ну ладно, хорошо.
Несколько смутившись, он нахмурился и стал продергивать шнурок в дырочки.
– Пупки, – с наслаждением сказал Феликс.
– Что?
– Вчерашняя твоя загадка. Которая тебе приснилась, по твоим словам. У мужчины и женщины, найденных во льду, не было пупков, и потому стало понятно, что это Адам и Ева.
– Я давно это понял, – пренебрежительно бросил Адриан. – Вовремя ты нашел ответ. Я решил ее сразу, в тот же день. Дурацкая загадка.
– Пусть дурацкая, но ведь загадал ее ты.
– Есть нечто худшее, чем просто старик. Это старик ворчливый и нахальный, – пробормотал Адриан как бы про себя.
– Что ты говоришь? – рявкнул Феликс, приставляя руку к уху. Его бесило, когда он не слышал других. – И произноси все четко, а то у тебя каша во рту!
Ссора разгоралась, когда вдруг раздался дверной звонок В доме похищенного всякий звонок пугает, и мы все трое вскочили и с трепетом направились к двери. Я прильнула к глазку и увидела шапку пепельных волос. Такой цвет и прическу не узнать невозможно. Я открыла. На пороге стояла моя мать.
– Мама, ты?! Что ты тут делаешь? – спросила я в замешательстве. Она хотела приехать в Мадрид в самом начале этой истории, но мне относительно легко удалось отговорить ее от этой затеи. Однако, как теперь понятно, полностью убедить ее я не смогла.
– Как что? Я приехала, чтобы заботиться о тебе, помогать и поддерживать.
– Но, мама, ты прекрасно заботилась обо мне, помогала и поддерживала все это время, хотя и жила на Мальорке.
– Ну что ты говоришь! Я тебе звонила-звонила, а ты не отвечала ни на один вопрос! Ты как твой отец – такая же холодная и замкнутая.
Как оказалось, это было заклинание. Стоило ей помянуть Каннибала, как – по случайному и непредвиденному совпадению, которые действительно происходят в жизни, – на лестнице, словно призрак, появился тучный, запыхавшийся мужчина с большой лысиной. Они посмотрели друг на друга в изумлении, потом опасливо поздоровались:
Странно было слышать, что они называют друг друга «папа» и «мама», хотя уже десять лет как разошлись и даже не виделись.
– Что ты тут делаешь? – спросила мать, незамедлительно беря инициативу в свои руки.
– Вот именно, что ты тут делаешь? – поторопилась вставить я.
– Как что? Я вернулся из поездки. Ты моя дочь. Я сразу же кинулся к тебе, чтобы помочь, чем смогу, – произнес Каннибал обиженно. Обращать на это внимание – пустое дело: ему лучше всего удавались роли, где требовалось изображать оскорбленное самолюбие.
Естественно, мне пришлось пригласить их в дом, сварить еще кофе и, пустив в ход все свое очарование, убедить их в том, что лучше бы им уехать.
– Я от всей души благодарна вам за то, что вы приехали, но если вы здесь останетесь, я не смогу не тревожиться за вас, мне будет еще труднее, а мне и так уже очень трудно.
– Мы не хотим, чтобы ты за нас тревожилась, мы хотим позаботиться о тебе.
Позаботиться! Нашли время. В детстве не очень-то они обо мне заботились. Родители-актеры – страшное дело. А может быть, проблема не в том, что они актеры, а в том, что они – это они. Я была уверена, что они приехали именно сейчас, а не раньше только потому, что решили провести праздники как запланировали. Мой отец Каннибал ездил в Рим. Мать встретила День волхвов со своими друзьями. А теперь они, горя желанием позаботиться обо мне в свободное время, явились оба.
В конце концов, заручившись красноречивыми уверениями Феликса и Адриана, что они не оставят меня ни на минуту, я сумела убедить их уехать. Мама отправлялась к мадридской подруге, а потом – на Мальорку, отец – к себе домой, в пригород.
– Но ты сразу же звони нам, если что-нибудь понадобится.
– Конечно, позвоню.
Мы договорились, что я как-нибудь поужинаю с ними, с каждым по отдельности, разумеется; разведенные родители не понимают, что дочерний долг их дитяти в таком случае удваивается. В конце концов часа через три мне удалось вежливо выпроводить их. Они ушли, перебраниваясь, а я была выжата как лимон.
Мне хотелось лечь в постель, засунуть голову под подушку и тихо умереть или хотя бы надолго заснуть, но Феликс с Адрианом мне не позволили. Я уже начала задаваться вопросом, как же они устраивались в жизни до того, как познакомились со мной и полностью погрузились в историю с похищением моего мужа. Сейчас на кухне они готовили спагетти. Не знаю, почему так получалось, но половину времени мы проводили сидя за кухонным столом.
Мы собирались приступить к обеду, когда в дверь снова позвонили. Еще один нежданный визит – инспектор Гарсия.
– Инспектор! Вот неожиданность! Я утром собиралась вам позвонить, но приехали мои родители и…
Не дав мне договорить, он вошел без приглашения.
Я закрыла дверь и последовала за ним. Гарсия быстро окинул взглядом гостиную, перевернул две подушки на софе, словно мы могли там спрятать Рамона. Или он искал деньги? Я подумала с облегчением, что мы вновь успели спрятать их в надежном месте – в мешке с собачьим кормом. Поведение инспектора стало меня раздражать.
– Вы что-то ищете?
Инспектор криво улыбнулся глубоко запавшими губами. Интересно, есть ли жена у этого чудища? Ждет ли его дома любящая или покорная супруга? Супруга, которая когда-то была невестой и испытывала непостижимое желание проникнуть в ущелье между подбородком и носом инспектора, чтобы поцеловать его?
– Почему? – спросил Гарсия.
– Да потому, что вы шарите за подушками…
– Я спрашиваю, почему вы хотели мне позвонить?
– А-a. Естественно, чтобы узнать новости. Мы некоторое время не созванивались.
Мы пришли на кухню – а куда же еще? – и сели, теперь вчетвером, вокруг только что накрытого стола.
– Вы собирались обедать, – сказал Гарсия без всякого выражения.
– Да, собирались.
– Спагетти. Я люблю спагетти, – так же невыразительно сообщил он.
Повисло молчание. Обычно мне трудно дается грубость, но мысль о том, что придется обедать в компании этого шпика, была просто невыносима. И я хриплым голосом выдавила из себя ответ:
– Мы тоже.
Снова молчание. Гарсия вздохнул вроде бы с сожалением, потрещал суставами пальцев и прочистил горло.
– Ладно, я задам вам один вопрос. У вас есть новости от похитителей?
– Нет.
– Понимаю. Я задаю вопрос. Вы даете отрицательный ответ. Я веду расследование. Вы ведете переговоры за моей спиной. Все так делают.
– Я не веду никаких переговоров.
– Не делайте глупостей, не отвечайте на вопрос, который не был задан. Зачем лгать, если вас к этому не вынуждают? Видно, опыта похищений у вас нет.
– Конечно нет. А у вас есть опыт? Я хочу знать, занимаетесь ли вы расследованием, работаете, делаете что-нибудь или только шарите за подушками? – взбесилась я. Гарсия умел доводить меня до белого каления.
– Нервничаете. Сильно нервничаете. Как и все жены похищенных. Да, мы работаем. Кое-что выясняется. Во-первых, нам известно, что ваш муж жив.
– Как вы это узнали?
– Профессиональная тайна. Во-вторых, «Оргульо обреро». Это маленькая левоэкстремистская группа маоистского толка. Они ведут свою гражданскую войну в городах, пользуясь тактикой «Сендеро Луминосо». Мы предполагаем, что они же похитили несколько месяцев назад одного высокопоставленного чиновника в Валенсии. Их мало, но они очень опасны. Они знают свое дело. И слов на ветер не бросают.
Я вздрогнула.
– Значит?
– Значит, я веду расследование. Вы ведете переговоры и платите выкуп. Я в это не вмешиваюсь. Поставьте меня в известность, когда сеньор Ирунья будет на свободе. Вот и все. Ваши макароны совсем холодные, наверное.
У нас на душе было куда холоднее. После ухода инспектора только Адриан со своим фольклорным волчьим аппетитом мог поглощать слипшиеся в ком макароны. А мы с Феликсом пытались понять, в чем смысл визита Гарсии.
– Может, он ничего и не хотел. Может, он пришел, чтобы рассказать нам все, что знает, и честно посоветовать заплатить выкуп, – предположила я.
– Нет, нет и нет. Это было бы слишком просто. По-моему, он действительно хочет, чтобы мы заплатили, но хочет и использовать нас как наживку. По-моему, он собирается схватить похитителей в момент передачи выкупа и так сделать свою работу. А что будет с твоим мужем, ему наплевать.
День и так был утомительный, а тут еще, как в комедии положений, правда, мрачной, снова раздался звонок в дверь. На сей раз это был консьерж когда он уходил на обед, кто-то оставил пакет для меня. Пакет оказался маленьким, раза в четыре меньше обувной коробки. Принесли его из издательства, где вышла моя «Курочка-недурочка». Я разорвала оберточную бумагу с некоторой надеждой, ожидая, что получу от издателя какой-нибудь утешительный пустячок, подарочек, посланный с самыми добрыми чувствами. Внутри была хорошенькая картонная коробочка, расписанная цветами, а в коробочке – много смятой шелковистой бумаги. А в бумаге, словно притаившись в светлом, хрустящем гнездышке, лежал отрезанный палец. Мизинец. С левой руки Рамона.
Я его – этот палец – сразу узнала. Невозможно прожить десять лет с человеком и не знать, какие у него пальцы, как пахнет у него под мышками, какие волоски растут в ухе. Все эти интимные подробности ты знаешь так, будто они твои собственные. Палец Рамона был длинный, хорошей формы – его руки всегда отличались красотой. Аккуратно обстриженный (даже в бандитском плену, поразилась я) квадратный ноготь, пучочек волосков на первой фаланге. Срез был чистый – ни клочков кожи и сухожилий, ни осколков кости. Такой чистый, словно палец отрубили топором. Или удар топором сплющил бы, обезобразил этот кусочек плоти? Возможно, его отрезали колбасным ножом. Я перебирала в уме эти варианты, пока меня не вырвало. Остаток вечера я проплакала.
Палец Рамона. Бедный палец, одинокий, белый, мертвый, лишенный крови и жизни. Бедный Рамон. Какой ужас и боль пришлось ему перенести! Голова моя плохо соображала, в мозгу мелькали сверкающие топоры, ножи, тесаки. Палец Рамона. Я бы отдала свою руку, чтобы только этот палец был живой, обрел подвижность и воссоединился с телом Рамона. А ведь раньше я чувствовала, как этот палец двигается, летом – горячий и потный, зимой – холодный, но не настолько холодный, как сейчас, когда я сжимала его в ладони. Этот палец гладил меня по голове, передавал газету во время завтрака, наверняка бывал он и во мне: за десять лет супружества, пусть и не бог весть какого пылкого, все его пальцы побывали во мне. А теперь этот кусочек человека – всего лишь органический мусор.
– Да, это жестокость, это ужас, все верно. Но должен сказать тебе, что в подобных случаях страдают больше от воображения, чем от самого факта, – говорил Феликс, стараясь спасти меня от приступа горя и муки. – Ты тысячу раз, на тысячу ладов переживаешь ту секунду, когда ему отрубили палец. Но для него эта секунда уже прошла. Вспомни, мне оторвало три пальца, и то травма оказалась не столь уж страшной.
– Ты сам говорил мне, что для тебя это не было потерей. Так что твое сравнение тут не подходит. Какие страдания ему, бедному, пришлось перенести!
Рамон потерял палец, а я потеряла Рамона, причем задолго до того, как его похитили. Я потеряла его внутри себя самой, потеряла вместе с молодостью, зубами, литературными амбициями, способностью чувствовать себя живой, желанием влюбляться, женским телом и прочими важными вещами, о которых я не хочу и задумываться. Прав был Феликс·, жить значит терять. Все кончается, все проходит.
Взять, к примеру, моих родителей. За то время, что они провели здесь, они обсудили тысячу разных тем, соревнуясь в говорливости, как всегда. И вдруг принялись рассказывать странную историю, которую много лет назад поведал их приятель-стоматолог. Главную партию в этом рассказе вела моя мать:
– Все это произошло, когда доктор Тобиас закончил оборудовать новый кабинет. Однажды к нему пришел пожилой человек с женой, он хотел, чтобы доктор привел в порядок ее зубы.
– Очень сложная и дорогая работа, – вступил Каннибал.
– А человек этот был Маррасате, ну ты знаешь колбасная фирма Маррасате. Очень богатый.
– Купался в миллионах, – уточнил отец.
– Доктор Тобиас, как обычно, представил ему предварительную смету, чтобы он подписал, но Маррасате ответил, что он достаточно богат и предварительных смет не подписывает. Наглый тип, сама понимаешь. А доктор Тобиас не сумел поставить на своем.
– Не осмелился.
– В общем, закончил он работу и послал счет миллионеру. Проходит неделя, вторая, миллионер молчит. Тогда как-то вечером доктор Тобиас сам отправился к нему, благо жил Маррасате рядом с кабинетом…
– В соседнем доме.
– Привратник сказал ему, что никого нет, что супруги срочно уехали в Барселону, так как сеньора серьезно заболела. На этом доктор Тобиас успокоился и вернулся к своим делам. Прошел месяц или чуть больше, в дверь позвонили, и рассыльный вручил медсестре пакет.
– Маленький пакетик.
Каннибал вносил свои уточнения, не мешая и не прерывая рассказ матери, и она принимала их даже с удовольствием, поскольку то не было попыткой перехватить слово и играть главную роль, наоборот, то был вклад в общий котел, в парную речь супругов. Нет лучшего подтверждения долгой совместной жизни, чем такая неосознанная, почти инстинктивная манера говорить вдвоем, дополнять своими мыслями размышления другого. Потому что постоянное в супружестве соприкосновение двоих размывает границы личности. По прошествии многих лет, прожитых с другим, ты уже все рассказал бесчисленное множество раз или столько же раз, до тоски, выслушал. И каждое слово отдается в тебе эхом.
– Коробочку открыли, и что, по-твоему, там было? Зубы сеньоры Маррасате, вставные зубы. Сеньора умерла, и этот кошмарный тип вытащил у нее зубы, чтобы вернуть их дантисту и не платить. И учти, что протезы были не съемные, а постоянные, то есть их надо было выбить.
– Молотком.
Мои родители прожили вместе более тридцати лет и не только называли друг друга по-прежнему «папа» и «мама», но и сохранили, к моему изумлению, привычную семейную манеру разговора с эхом, одну на двоих речь с ненужными вставками и уточнениями. Но это супружеское здание, сооружавшееся так же медленно и упорно, как растет сталактит, в один прекрасный миг разлетелось на куски. Мои родители расстались более десяти лет тому назад. Позади остались чудные времена ухаживания, скука зрелых лет, невыносимость совместной жизни в конце. Все утрачено. От тридцати лет совместной жизни остался только автоматизм семейной привычки говорить вдвоем.
Иногда я иду по улице и спрашиваю себя, какова история потерь у встреченных мной людей. Как и когда теряли они то, что все мы теряем? Вот этот человек в костюме, например. Долго ли он оплакивал утрату волос? Когда он привык к тому, что лыс как колено, когда перестал вздрагивать, глядя на себя в зеркало по утрам? Становится ли ему грустно, когда он рассматривает старые фотографии и видит себя молодым, с большой шевелюрой и большим будущим, которое прорастало с той же юношеской неудержимостью, что и волосы на голове? А вот эта женщина, старая и тучная… Как ей удалось привыкнуть к тому, что ее не замечают, что никогда уже мужчина не глянет на нее с интересом? В автобусе я задаюсь вопросом: сколько пассажиров уже потеряли родителей? Как они это переживали, как оплакивали, как забывали? А как женятся, рвут с любовницей, бросают работу, уходят на пенсию? Недавно я получила рекламный проспект компании по страхованию жизни. В нем была напечатана таблица с подробнейшим перечислением всевозможных ужасных потерь и указывалось соответствующее возмещение. Полная утрата подвижности правого плеча – три миллиона песет, левого – два миллиона. Ампутация нижней челюсти – три миллиона. Частичная ампутация стопы, включая все пальцы, – четыре миллиона. Список был составлен с ледяным бюрократическим равнодушием, словно можно всю боль, переживания и муки, которые скрываются за этими потерями, занести в ведомость и пересчитать. Утрата трех пальцев руки, кроме большого и указательного, – три с половиной миллиона. На такую сумму мог бы претендовать Феликс. Утрата либо среднего пальца, либо безымянного, либо мизинца – миллион. Такие деньги мог бы требовать мой муж. Однако в этой таблице не указывались самые важные пункты, например, резкое падение самооценки, а ведь это серьезная и очень распространенная болезнь. Ничего не говорилось и о зубах, утраченных при аварии, когда машина врезалась в грузовик. Мой беззубый рот возмещения не удостоился.
Потеря, любая потеря – предвестие смерти. Потери не укладываются у нас в голове, как не укладывается в голове мысль о неизбежном конце. Человек никогда не готов к потерям.
– Я к этому не была готова, – сказала мне несколько лет назад одна женщина в приемной у дантиста.
Когда я выписалась из больницы после аварии, мне пришлось много месяцев ходить к стоматологу, чтобы исправить неисправимое: вырвать остатки корней, зашить десны, выправить челюсть. Ожидая очередного приема, я и столкнулась с той вполне симпатичной женщиной, на вид лет тридцати. Но она была лысая, совершенно лысая.
– К этому я не была готова, – сказала она слабым голоском, указывая на свой блестящий череп. – Я никогда, ни в детстве, ни в юности, ни потом, и подумать не могла, что останусь без единого волоса. Но это со мной произошло, и положение мое невыносимо. Теперь в памяти моей все разделено на «до» и «после». «До» была я, а «после» превратилась в неизвестную мне женщину. Врачи послали меня сюда, чтобы выяснить, нет ли связи между состоянием полости рта и выпадением волос. Однако я знаю, что все бесполезно, что исправить ничего нельзя. Я не только волосы потеряла, я потеряла саму себя. Я потерялась в середине жизни, как другие теряются в лесу.
Когда она говорила, я чувствовала, что говорит она и про меня, и реакция моя была нелепой и неадекватной: я вытащила свои вставные челюсти и подбросила вверх, к самому потолку, как настоящий жонглер. А потом мы обе – лысая и беззубая – долго хохотали до слез, примирившись на это время со своей неполноценностью.
Все теряется рано или поздно, пока не настигнет нас последняя потеря. Даже собака Фока потеряла зрение и слух, она больше не бегает и гоняет кошек только во сне. Рамон потерял палец. А я потеряла Рамона.
– Но это неправда. Жизнь – это не только потери. Жизнь – это путешествие. Что-то уходит, что-то обретается. Жизнь – прекрасная штука, если ее не бояться. Это слова Чарли Чаплина, – сказал Адриан.
Это было уже совсем вечером, прошло несколько часов с тех пор, как мы получили палец моего мужа. Приняв валиум, я надела свою китайскую пижаму и легла в постель, на кухне Феликс подогревал для меня вино, а Адриан сидел рядом со мной в небольшом кресле и рассказывал всякие глупости, чтобы отвлечь меня от мрачных мыслей.
– Ты так говоришь, потому что тебе всего двадцать один год, – ответила я. – Вот поживешь с мое…
– У тебя нет возраста. В постели ты вообще кажешься маленькой девочкой. Да ты и есть маленькая девочка.
Он взял мою руку в свои ладони и несколько неуклюже сжал ее. Электрический заряд проскочил до плеча, словно я сунула руку в розетку. Наверное, он почувствовал то же самое, потому что сразу отпустил меня. Мне очень нравилось его кошачье лицо с ямочками. Но я все-таки уже не была маленькой девочкой.
– Адриан, как тебе пришло в голову делать удавку из своих шнурков? – спросила я.
Он покраснел.
– Это глупость. Я сглупил как ребенок, мне просто хотелось показать тебе, что я тоже знаю всякие любопытные вещи. Хотел привлечь твое внимание. Ты только Феликса слушаешь, стоит ему открыть рот, ты просто цепенеешь. Он, конечно, очень интересно рассказывает про свою жизнь, но… Меня ты ни о чем не спрашиваешь. Советуешься только с ним.
Я пристально посмотрела на него. Действительно, он был прав.
– Хорошо, я буду советоваться с тобой почаще. Но не надо принимать это так близко к сердцу. Понятно, что Феликсу есть что рассказать. Это одно из преимуществ старости. У Феликса много воспоминаний и интересных рассказов, а у тебя…
– Ну, что есть у меня?
– У тебя есть жизнь, Адриан. Я тебе завидую и даже немного злюсь. Ты бы не жаловался, а пользовался ею.
* * *
Наверное, пришла пора рассказать немного о себе. Точнее, пришла пора рассказать немного о Лусии Ромеро. Мне гораздо удобнее говорить о ней: употребление третьего лица превращает хаос воспоминаний в некое подобие хорошо выстроенного повествования и скрывает истинную суть бытия, делает наше существование вроде бы осмысленным, тогда как каждому известно, что само по себе проживание жизни ни к чему не ведет.
В начале этой книги Лусия Ромеро проходила черную полосу своей жизни. Похищение Рамона оказалось для нее дном бездны печали, в которую она была погружена и до того. Она заблудилась. Жизнь – это путешествие, и в середине его Лусия обнаружила, что дальше простирается пустыня. Куда скрылась красота мира? Когда утратила она веру в страсть и будущее? Лусия вдруг стала старой. И ни при чем тут была ее внешность, она выглядела еще более или менее сносно, но то был последний бастион, край, за которым следовал полный разгром. А потом она прекрасно – лучше других – знала тайные бреши в этой героической обороне: мышцы становились дряблыми, появлялись первые морщины. А главное – проклятые вставные челюсти. Когда она потеряла свои собственные зубы в той аварии, что-то в ней сломалось. И кончилось навсегда.
Возраст, однако, сказывался не только на внешности. Еще более страшная пустыня открывалась в душе. Теперь она по ночам уже не представляла себя кем-то другим. А такая, какой она была на самом деле, она себе не нравилась. Она больше не мечтала о том, чтобы лучше писать, сильнее любить, знакомиться с новыми людьми, странствовать по миру и попадать в неожиданные ситуации. Жизнь с Рамоном стала ей скучна, друзей можно было назвать друзьями с большой натяжкой, а уж свою писанину вместе с курочкой-недурочкой она просто ненавидела. Родители ее одиноки, вот-вот начнут дряхлеть, скоро ей придется заботиться о них. Весь мир казался ей опасным, слишком жестоким и прогнившим. А потом, она боялась. Боялась все больше и больше. Это был онтологический и животный страх смерти, она боялась старости и смерти. Все получилось не так, как ей мечталось в детстве, юности и молодости. Не то чтобы у нее тогда были четкие и ясные представления о будущем, но, уж во всяком случае, она не предполагала, что мир окажется таким унылым, жалким, таким непрочным и к тому же так внезапно съежится, что при мысли об этом у нее до боли сожмется все внутри. «У тебя кризис середины жизни», – сказал Эмилио, ее издатель. «Климакс, наверно, начинается», – говорил Рамон, когда вдруг замечал, что с ней что-то не так. Климакс! Этого еще не хватало. Нет, это не гормональные изменения – она еще молода. Но хуже всего была мысль, что она действительно неудержимо движется в этом направлении, и если ей сейчас так паршиво, то каково же придется, когда к депрессии добавится кошмар приливов?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































