Текст книги "Отец Арсений"
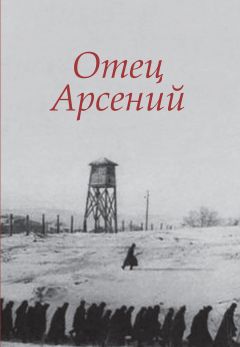
Автор книги: Сборник
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«Ты с кем, поп?»
В начале заключения считаешь дни, потом недели, но уже на второй год наступает момент, когда ты ждешь только смерти. Изнурительная работа, полуголодное существование, драки, избиения, холод, оторванность от дома отупляли тебя, заставляли думать о неизбежности смерти в течение двух-трех лет лагерной жизни, поэтому основная масса заключенных морально опускалась, внутренне разлагалась.
У большинства из нас, политических, и у всех уголовников мысли менялись в соответствии с лагерной жизнью: приходом надзирателя, отнятой пайкой, дракой, работой, которую дали бригаде, карцером, отмороженным пальцем или очередной смертью барачного жителя.
И в этих событиях наши мысли месились, как раствор глины, и от этого становились однозначными, ограниченными страшной лагерной действительностью. Основная масса заключенных мечтала нажраться до отвала, или, как говорили в лагере, «от пуза», выспаться дня два подряд, достать где-то пол-литра спирта, выпить его и опять нажраться. Но все это были несбыточные и неосуществимые мечты.
Очень малая часть политических заключенных старалась сохранить в себе человека, пыталась держаться особняком, поддерживать друг друга, не опускаться до уголовников, держаться с достоинством, насколько позволяла лагерная обстановка.
Эти заключенные собирались в пределах одного барака группой, читали лекции, стихи, воспоминания и иногда даже что-то писали на обрывках грубой бумаги. Часто возникали горячие споры по самым разнообразным вопросам, но особенно ожесточенными были споры на политические темы, в которые нередко ввязывались уголовники и заключенные из безликой массы опустившихся политических. Спорили со злостью, ненавистью друг к другу. Отец Арсений в спорах не участвовал, но один раз его втянули насильно.
Обыкновенно заключенные боялись высказываться, но спор разжигал страсти и заставлял забывать о возможных последствиях в «особом отделе», и иногда кто-нибудь из спорящих говорил: «Была не была, все равно подыхать, так хоть перед смертью выскажусь».
Прошла поверка, барак заперли, за стенами его метался ветер, снег завалил окна, было душно, сыро, но тепло. Лампочки горели в полнакала, и от этого становилось сумрачно и тоскливо, одиночество угнетало.
Заключенные собирались в группы, и начинались разговоры, споры, воспоминания. Уголовники играли в карты или в домино на деньги или пайку. Около одного лежака, недалеко от нар о. Арсения, собралось несколько человек, и в скором времени возник ожесточенный спор на тему: «Отношение зеков (заключенных) к власти».
Минут через пятнадцать народу стало уже человек двадцать, спор приобрел острый характер. Люди перебивали друг друга, угрожали. Собрались бывшие партийцы, интеллигенты разных профессий, несколько бывших власовцев и еще какие-то заключенные. Раздавались крики: «За что сидим? Ни за что. Где справедливость? Расстрелять всех их надо!»
Лица спорящих были озлобленными, раздраженными, и только трое или четверо бывших членов партии возражали и пытались доказать, что все происходящее является какой-то грандиозной ошибкой, которую рано или поздно исправят, и что все происходящее, возможно, является вредительством, и что Сталин ничего об арестах не знает, или его обманывают.
«Обманывают, а пол-России посадили, это продуманная система уничтожения кадров», – вопил какой-то голос.
«Знает Сталин, это его приказ», – вторил другой. Один из заключенных, осужденный за агитацию и подготовку покушения на жизнь Сталина, был особенно озлоблен. Лицо его кривилось, голос дрожал. Несколько власовцев так же ожесточенно ругали все и вся.
«Уничтожать их надо, вешать, расстреливать, партийцев этих».
Секретарь одного из ленинградских райкомов, большевик с 17-го года, буквально на кулаках сцепился с каким-то типом, служившим у немцев.
«Предатель, – кричал секретарь, – тебя расстрелять надо, а ты еще живешь!» – «Я-то таких, как ты, повешал и пощелкал не один десяток, жалею, что ты, падло, не попался. За дело сижу, а ты своим задницу лизал и со мной здесь дохнешь, как предатель». – «Я предатель? Я предатель? Да я советскую власть утверждал!» – «Я да я, а сидишь, как предатель, вот и вся твоя власть в этом сказалась».
Кругом смеются, но спор по-прежнему остается ожесточенным. Один из заключенных проговорил: «Церкви разрушали, веру попрали». Кто-то из собравшихся, увидев о. Арсения, сидевшего на своих нарах, сказал, обращаясь к нему: «А ну-кось, Петр Андреевич! Слово свое о властях скажите. Как Церковь к власти относится?»
Отец Арсений промолчал, но его буквально втащили в круг спорящих. Секретарь райкома, друживший с о. Арсением, как-то сразу поник. Что должен был ответить о. Арсений, всем было ясно, слишком уж много натерпелся он в лагерях.
Власовец Житловский, командир какого-то соединения во власовской армии, в прошлом журналист и командир Красной Армии, человек жестокий и властный, державший в своих руках группу власовских офицеров, живших в лагере и бараке, снисходительно смотрел на о. Арсения.
Власовцы держались в лагере независимо, ничего не боялись, так как им все уже было отмерено, конец свой знали и сидели действительно за дело. «Давай, батя, сыпь!»
Отец Арсений, помедлив несколько мгновений, сказал: «Жаркий спор у вас. Злой. Трудно, тяжело в лагере, и знаем мы конец свой, поэтому так ожесточились. Понять вас можно, да только никого уничтожать и резать и надо. Все сейчас ругали власть, порядки, людей и меня притащили сюда лишь для того, чтобы привлечь к одной из спорящих сторон и этим самым досадить другой.
Говорите, что коммунисты верующих пересажали, церкви позакрывали, веру попрали. Да, внешне все выглядит так, но давайте посмотрим глубже, оглянемся в прошлое. В народе упала вера, люди забыли свое прошлое, побросали многое дорогое и хорошее. Кто виновен в этом? Власти? Виноваты мы с вами, потому что собираем жатву с посеянных нами же семян.
Вспомним, какой пример давали интеллигенция, дворянство, купечество, чиновничество народу, а мы, священнослужители, были еще хуже всех.
Из детей священников выходили воинствующие атеисты, безбожники, революционеры, потому что в семьях своих видели они безверие, ложь и обман. Задолго до революции утратило священство право быть наставником народа, его совестью. Священство стало кастой ремесленников. Атеизм и безверие, пьянство, разврат стало обычным в их среде.
Из огромного количества монастырей, покрывавших нашу землю, лишь пять или шесть были светочами христианства, его совестью, духом, совершенством веры. Это Валаамский монастырь, Оптина пустынь с ее великими старцами, Дивеевская обитель, Саровский монастырь, а остальные стали общежитиями почти без веры, а часто монастыри, особенно женские, потрясали верующих своей дурной славой.
Что мог взять народ от таких пастырей? Какой пример? Плохо воспитали мы сами народ свой, не заложили в него глубокий фундамент веры. Вспомните все это. Вспомните! Поэтому так быстро забыл народ нас, своих служителей, забыл веру и принял участие в разрушении церквей, а иногда и сам первый начинал разрушать их.
Понимая это, не могу я осуждать власть нашу, потому что пали семена безверия на уже возделанную нами же почву, а отсюда идет и все остальное, лагерь наш, страдания наши и напрасные жертвы безвинных людей. Однако скажу вам, что бы ни происходило в моем отечестве, я гражданин его и как иерей всегда говорил своим духовным детям: надо защищать его и поддерживать, а что происходит сейчас в государстве, должно пройти, это грандиозная ошибка, которая рано или поздно должна быть исправлена».
«Попик-то наш красненький, – сказал Житловский. – Придавить тебя надо за такую паскудную проповедь. Святошей притворяешься, а сам в агитаторах ходишь, на «особый отдел» работаешь», – и с силой вытолкнул о. Арсения из круга спорящих.
Спор продолжался с прежней силой, но кое-кто из спорящих стал покидать собравшихся.
После этого спора некоторые заключенные стали преследовать о. Арсения, и особенно из группы Житловского. Раза два избили его ночью, облили мочой нары, отнимали пайку. Мы, дружившие с ним, решили оберегать о. Арсения от людей Житловского, зная, что это народ отпетый, который может сделать все что хочет.
Как-то вечером пришел киевлянин Жора Григоренко, близкий друг Житловского, и позвал о. Арсения к своему шефу. Отец Арсений пошел. Житловский, развалившись на нарах, говорил со своими дружками, собравшимися вокруг: «Ну-ка, поп? с нами или с большевиками пойдешь, душа продажная? На «особый отдел» работаешь, исповедуешь нашего брата, а потом доносишь? Пришьем тебя скоро, а сейчас выпорем для примера. Давай, Жора. Хотя дай попу высказаться».
Жора Григоренко был всеми ненавидим. Коренастый, широкий в плечах, с головой без шеи, лицом, прорезанным шрамом, отчего лицо было перекошено и постоянно улыбалось, производя отталкивающее впечатление. Ходили слухи, что у немцев он был исполнителем приговоров, хотя осужден был только за службу рядовым во власовской армии.
Отец Арсений спокойно посмотрел на Житловского и досказал: «Жизнью людей распоряжаетесь не Вы, а Господь. С Вами я не пойду, – и, сев на нары против Житловского, продолжал: – Не пугайте меня, все это было в прошлом: крики, избиения, угрозы смерти. Богом, в Которого я верю, каждому человеку отмерена длина пути его и мера страданий, и если мой путь оборвется здесь, то на это будет Господня воля, а не мне и Вам изменять ее, и каждый из нас в конце концов придет на суд Божий, где от совершенных дел примет меру свою.
Я верю в Бога, верю в людей и до последнего своего вздоха буду верить. А Вы? Где Ваш Бог? Где вера Ваша? Вы много говорите о том, что хотите защитить угнетенных и обиженных людей, но пока Вы уничтожали, убивали и унижали всех соприкасающихся с Вами. Взгляните на руки Ваши, они же у Вас в крови!»
Житловский поднял руки и как-то странно посмотрел на них, потом взглянул на о. Арсения и не опустил, а бросил руки на колени и, сорвавшись на визг, крикнул: «Не заговаривайтесь, полегче!» – и опять впился глазами в лицо о. Арсения.
С верхних нар раздался голос Григоренко: «Аркадий Семенович! Попик-то на разговорном подъеме, может, акцию совершить?»
«Замолчи, Григоренко! ответил Житловский. – Дадим ему перед издыханием наговориться, попы, как советские профсоюзные работники, всю жизнь болтают». А о. Арсений продолжил:
«Как-то мне сказали, что верующий Вы, но во что? Пытали и убивали людей во имя чего? Помню Ваше упоминание о Достоевском, о котором говорили как о любимом писателе и душе русского народа. Вспомню Вам по памяти слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых», которые он говорил перед смертью, обращаясь к братии: «Не ненавидьте атеистов, зло-учителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо из них много добрых, наипаче в наше время. Народ Божий любите… Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его. Творите добро людям и тяготы их носите». А Ваша жизнь проходит в ненависти и злобе. У каждого человека есть время одуматься и исправиться, и у Вас есть».
Сказав, о. Арсений встал с нар и пошел в свой конец барака, но сверху с искаженным от злобы лицом соскочил Григоренко и бросился душить о. Арсения, и в то же время, расталкивая столпившихся дружков Житловского, появился высокий и мощный заключенный, носивший в бараке прозвище «Матрос». Был он действительно матросом из Одессы, осужденным за «политику» к пятнадцати годам нашего лагеря. Бесшабашный, постоянно веселый, хороший товарищ, Матрос, находясь в лагере, почему-то не терял здорового вида, хотя жил как все заключенные.
Растолкав собравшихся, Матрос схватил Григоренко, приподнял, словно мешок, и бросил в толпившихся дружков Житловского.
«Ты, деточка, забыл, здесь не полицейский участок у немцев, а наш лагерь, – и, обернувшись к Житловскому схватил его за руки, повернул к себе лицом и сказал с одесским жаргоном: – Милый ты мой! Угомони своих холуев немецких, а то всех перережем. Всех!»
Люди Житловского растерялись, в проходе между нарами появилось много заключенных, готовых вступиться за о. Арсения и Матроса.
Подойдя к поднявшемуся Григоренко, Матрос произнес: «Ты, немецкий прихвостень, Петра Андреевича не трогай, не приведи Бог, что случится, я тебя с Житловским лично пришибу, а перед этим котлету сделаю.
Пошли, Петр Андреевич! а то мы им на нервы действуем. Ну, почтение мое вам, до лучших встреч!»
Недели через три Жору Григоренко перевели в другой барак. Житловский после этого случая затих и в обращении с людьми помягчал. Споры в бараке по-прежнему не утихали. Отец Арсений в них не участвовал, но досказанное им однажды мнение по вопросу отношения к власти еще долго жило в бараке.
Сазиков
Время шло, Сазиков все больше и больше привязывался о. Арсению, заботился о нем, много рассказывал о себе. Говорил о детских годах. Родился в Ростове в интеллигентной семье, кончил ростовский индустриальный институт, стал инженером, и как-то случилось, попал в компанию «друзей», и все вокруг завертелось, Закружилось, и почти двенадцать лет прошагал с тех пор Сазиков по уголовной дороге. Шел, шел, оглядывался иногда, задумывался, а свернуть на верную дорогу не мог.
Для следственных органов и для дружков особая жизнь была, а для о. Арсения показывал свою жизнь правдиво, ничего не скрывал. Крещен Серафимом в честь Серафима Саровского, мать верующей была, до 14-ти лет по церквам водила, в вере наставляла. Умерла, тогда Серафиму – Симе – было 22 года. Отец бросил семью давно. Закружила компания Серафима, и пошло, как всегда, с маленького, а потом пришли грабежи, разгул, были и убийства. Остановки нет, такой дорогой пошел, сойти с нее трудно, чуть в сторону – дружки назад ворочают.
Чему мать учила, забылось, выветрилось, жизнь другое показывала. О Боге и не думал, где Его в уголовном мире найти? До этого ли? Забот много, только посматривай.
С Серым «работать» приходилось. Человек Серый страшный, но вдруг иногда и душу покажет. Сложный он.
«Работал» Сазиков по большим делам, деньги брали крупные. Поступал в учреждение большое, магазин крупный, вообще туда, где денег много скапливается, то ли перед получкой, то ли после выручки. Работая, изучал обстановку учреждения, женщины помогали, благо сам высокий, красивый, речь интеллигентная, статный, одевался модно. Работал хорошо, ценили, отмечали, документы всегда имел чистые, верные. Знания имел хорошие, ведь по образованию инженер. Экономику тоже знал, поэтому в больших универсальных магазинах за него держались как за специалиста. Вот так и бывало – изучит, узнает что и как, а потом брали большую сумму.
Многое сходило благополучно, но в тюрьмах и лагерях побывал. Попадался на мелких делах, о больших не знали. Завалился на ерунде, дружок под нажимом на следствии «разболтался», добрались до одного крупного дела, дали «вышку» (расстрел), но потом направили умирать в «особый».
«Встретился с Вами, о. Арсений, поразили Вы меня, вижу – все для других делаете. Подумал, расчет какой-то хитрый имеете или блажной, но потом понаблюдал за Вами, мать свою покойную вспомнил. Многое сказанное ею мне в детстве припомнилось. Поразили Вы меня, назвав Серафимом. Подумалось, в бреду сказал, да вижу, что не только со мной такое у Вас было.
Наблюдать стал за Вами и отчетливо понял: не для себя живете, для людей – во имя своего Бога. Стал я жизнь свою пересматривать и вижу, что она была, как говорится, «хоть час, да мой, а там хоть потоп». Думаю, для чего так жил? Друзей нет, есть дружки, никому я не нужен, если и делают что-нибудь мне, то только из страха.
За сердце взяли меня, примером своим поразили. Решил кончать с прошлым. Трудно это сделать. Кончай, да оглядывайся, а то свои же убьют. Между прочим, Серый к Вам тоже приглядывается. В лагерях уголовники народ отпетый, а в «особом» тем более. Бояться нечего, все равно смерть. В своих-то бараках мы с Серым порядок навели, но трудно с народом. Знаю, жизнь свою здесь кончу, но хочу Вашим путем пойти, верить хочу».
Исповедь
Пришел как-то Сазиков. Стоял, мялся, то о том, то о другом разговаривал, а потом сказал: «Отец Арсений! Хотел бы исповедоваться, если допустите. Видно, конец скоро придет, не выйдешь из «особого», а грехов много ношу, очень много».
Трудно в лагере на час, на два из барака вырваться, все время под наблюдением, на то и «особый». Но удалось Сазикову вырваться и прийти к о. Арсению на исповедь. Остались вдвоем, до поверки часа два было. Застанут обоих вместе – карцер на пять суток обеспечен.
Встал Серафим на колени, волнуется, теряется. Положил о. Арсений на голову Серафима руку и стал молиться. Ушел в молитву. Прошло несколько минут. Заговорил Серафим сначала отрывисто, сбивчиво, с большим внутренним напряжением.
Отец Арсений молчал, не направлял, не подсказывал, а, слушая, молился, считая, что человек сам должен найти себя. Исповедовать в лагерных условиях приходилось много, но старых, заматерелых уголовников – редко.
В большинстве своем это были люди, потерявшие все на свете, ничего не имеющие за душой. Совесть, любовь, правда, человечность, вера во что бы то ни было давно были утрачены, разменяны, смешаны с кровью, жесткостью, развратом. Прошлое не радовало их, оно пугало. Оторваться от своей среды они не могли, поэтому жили в ней до последнего своего часа жестокими, обозленными, не надеявшимися ни на что. Впереди была смерть или удачный побег.
В исповедях своих, если такие случались, были всегда одинаковы. Начало жизненного пути было разным, а все остальное у всех повторялось: грабежи, убийства, разгул, разврат и вечный страх попасться. В зависимости от души человека мера падения была разной: одни сознавали и понимали, что делают, но не могли остановиться и падали все ниже и ниже, другие же упивались содеянным, жили насилием, кровью, жаждали этого и с наслаждением доставляли страдания и муки окружающим, считая свою жизнь правильной и геройской.
Серафим понимал меру своего падения, пытался остановиться, но не мог найти выхода из уголовного мира. Когда приходила старость, многие из уголовников задумывались над своим положением, но решить, что же делать, не могли.
Отец Арсений это знал.
Сазиков говорил, но исповедь не шла. Идя на исповедь, он долго думал, что и как рассказывать, исповедовать, но сейчас все потерял, смешался. Хотелось искренности, но говорил не от души, то, что хотел сказать, ушло. Потеряла его исповедь связь с душой, и оставался рассказ.
Видел и понимал это о. Арсений и хотел, чтобы в борьбе с самим собой победил сам Серафим. Победил свое прошлое и этим бы открыл путь к настоящему.
Волновался, сбивался и, открыто рыдая, говорил Серафим, а исповедь от души не шла. Борется прошлое с настоящим, и ощутил о. Арсений, что нужна сейчас помощь Серафиму, нужно то «луковое перышко» апокрифической луковки, которое хоть и тонко и непрочно, но спасает тонущего, ухватившегося за него. И протянул о. Арсений это «перышко луковое», сказав: «Вспомни, как умоляла тебя в лесу женщина пощадить, ты не пощадил, и разве потом не стыдился самого себя?»
И в одно мгновение понял Серафим, что все видит и знает о. Арсений. Не надо подбирать слов, чтобы показать себя. Надо, не боясь ничего, открыть душу свою, а о. Арсений увидит, поймет и взвесит все сам и скажет, можно ли простить его, Серафима.
Кончил Серафим исповедь, отдал душу и самого себя в руки о. Арсения, стоит на коленях, лицо в слезах. Первый раз в жизни своей открыл самого себя, показал всю, всю жизнь и сейчас ждал приговора, наказания, осуждения.
Отец Арсений, низко склонившись, молился и никак не мог найти самых простых и нужных слов, которые бы очистили, освежили и направили человека на новый жизненный путь.
Искренность исповеди, глубочайшее сознание греховности совершенного и в то же время страшнейшие преступления, доставившие людям страдания, несчастия и муки, – все как бы смешалось вместе, и надо было измерить, взвесить, разделить одно от другого и определить меру всему этому.
Иерей Арсений, прощающий и разрешающий грехи человеческие именем Бога, боролся сейчас с человеком Арсением, не могущим еще по-человечески принять, осознать и простить совершенное Серафимом.
«Господи Боже Мой! Дай силу мне познать волю Твою, указать путь Серафиму, помочь найти ему себя. Матерь Божия! Помоги мне и ему, грешным. Помоги, Господи!»
И, молясь, понял, что говорить ничего не надо, взвешивать и решать не нужно, ибо исповедь Серафима, человека, ранее утерявшего связь с Богом, была столь глубокой и искренней, обнажившей душу его и показавшей, что этот человек стремится к Богу, нашел Его и уже теперь будет продолжать путь к Нему. За свои дела даст ответ Серафим Самому Господу на Суде Божием и перед совестью своей.
Встал о. Арсений и, прижав голову Серафима к своей груди, сказал: «Силою и властию, данной мне Богом, я, недостойный иерей Арсений, прощаю и разрешаю грехи твои, Серафим. Твори добро людям, и Господь простит многие из грехов твоих.
Иди и живи с миром, и Господь укажет тебе путь». И невидимые узы навсегда соединили о. Арсения и Серафима.
Окончив исповедь и обняв Серафима, о. Арсений, как бы предвидя будущее, произнес: «Не оставлю тебя в жизни твоей, Серафим. Господь поможет нам».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































