Текст книги "Вывихи"
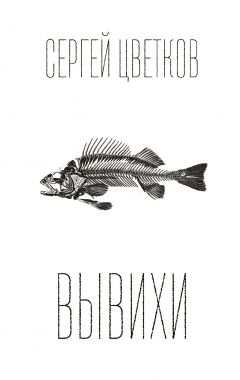
Автор книги: Сергей Цветков
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Сергей Цветков
Вывихи
© Цветков С. А., 2015
* * *
Выращивание ног
Очарованный странник
Я шёл к тебе тысячи лет, не зная дороги,
ориентируясь по огням твоего дыхания.
Я шёл к тебе тысячи лет, распарывал ноги
о камни. Ни ел и ни пил – меня кормило искание.
Я шёл к тебе тысячи лет. Были стёрты
ступни в болтающиеся рукава. Я полз
к тебе тысячи лет тысячеротый,
тысячеглазый и собранный из тысячи звёзд.
Я шёл к тебе тысячи лет.
Я шёл к тебе тысячи лет, меня постоянно
окружала глубокая, грязная осень.
Я шёл к тебе тысячи лет. Бесперестанно
я слышал предсмертные крики обглоданных сосен.
Я шёл к тебе тысячи лет. Сухие деревья
трещали, когда поклонялись мне.
Я шёл к тебе тысячи лет. Осеннее зелье
хлестало ручьями из вен из вне.
Я шёл к тебе тысячи лет.
Я шёл к тебе тысячи лет. Каждый второй шаг
повторял на всю вселенную твоё ненаписанное имя.
Я шёл к тебе тысячи лет, пиная зелёный шар.
Каждую тысячу лет находил тебя и проходил мимо.
Я говорю о гармонии
Осенью,
когда журавли стали стрелкой компаса,
я оказался на туристическом слёте,
где пальцами,
дрожащими от узлов,
перебирал мысли, как ветер
осенние листья –
случайно я поймал его за хвост,
зацепился автомобильным тросом,
и он утащил меня к обрыву,
на котором трава растёт до шеи,
«трава мешает ходить ногам»,
а песок нетронут, как девушка,
читающая по вечерам
«Шум и ярость» Фолкнера.
Обрыв был настолько выше меня,
что я глотал вертикали,
чтобы увидеть наконечник копья.
Но главное, что вся эта глыба
продавливалась пальцами.
Всё это – песок.
Море захлёбывалось волнами –
оно мчалось к берегу,
словно раненая волчица – волнами,
которые пенной конницей –
конницей камикадзе
разбивали своих гнедых
о глиняный берег,
в котором тонет обрыв
и обрубок берёзы.
Ветер разносил холод и шум,
словно мальчик газеты утром,
и только горы
волнистой линией
подчёркивали пейзаж.
Они караваном слонов
легли у водопоя
и дымили свои трубки,
поглаживая бороды морской пеной
в бормотании о прошлом.
Ничего не стоит на месте.
И даже я,
замеревший от мгновения,
движусь от центра взрыва,
дрейфую на его волнах.
Камни и берёзовый листок на песке –
живы.
Деревья и черепа быков на земле –
живы.
Ногти и замки на куртках –
живы.
Мы вместе арендуем одну жилплощадь,
но платим по-разному.
Песчаный обрыв
был врезан в пейзаж
куском старого корабля.
На нём росли деревья,
и с каждой волной
он был ближе
к своему последнему
плаванию.
Я говорю о гармонии.
Однажды
однажды в 4 утра
я понял что смерть кора
и запонка на рукаве
мне страшно её отстегнуть
я замер как ртуть
как смерть
на мне
Штурвал
Вертелась голова штурвалом корабля,
но небо не кончалось в поворотах.
Оно нависло силою нуля
и не могло протиснуться в ворота
моей кирпичной головы, привыкшей мыслить
в масштабах города и мерить спешкой время.
Я видел голубую силу мыса –
его размытое волной вселенной темя,
и голубь с веточкой сухого кипариса
был в правый угол яркой маркой вклеен.
Вертелась голова штурвалом корабля,
виднелись бога пальцы из сандалий,
и солнце будто выбрало меня
среди больных, которые устали.
Шаманским бубном были облака.
Шаманом были облака, одетым в пурпур.
Шумела древней мельницей река –
сквозь нас вселенная твердила в рупор
одно лишь слово, лившееся как
кровь с молоком и ставившее в ступор.
Она твердила: «Повтори», –
И я бы вырос из земли
И дотянулся, и ударил в небный бубен!
Но слишком много Бога мне,
Вертелся купол на спине
И опрокинулся, и понял я, что умер.
Поэма Полифема
Уроки кончились, и я
схватил учебники подмышку –
лягушкой на спине сиял
портфель с раскрытым ртом для книжек.
Пропеллер ног – пустой подъезд –
учебники на стол – наружу
я выкатил велосипед,
вцепился в руль, педали тужил –
Скорей! На улицах пожар!
Малюет солнце, лица шпаря.
Скорей! Сквозь пробки, где дрожат
автомобили в жёлтом паре.
Скорей! С колёсами срастясь,
скорей наматывая время!
Педалями на ноги, в грязь
в песок, в болото, в камни, в темень!
Замолк асфальт. Земля ко мне
перевернулась мягким боком –
на механическом коне
запрещено идти за соком,
который с дерева течёт,
ведёт меня янтарным цветом
и запахом – трава и мёд –
в лесу ни стрекота, ни ветра.
Застыло солнце в тихий час
лосём, учуявшим охоту.
И вот он – клён, стоит в анфас,
собою заслоняя входы.
Сквозь листьев рыбию гортань
в густую темноту пещеры
я окунулся – мой фонарь
желтком растёкся по расщелинам.
И в окружении быков,
чьи кости будто под рентгеном
торчат со стен, я слышал зов,
и раздирая в кровь колено,
полз по камням – искал начало.
Вовнутрь внутренности скрёб,
кровь на рисунки попадала
и оживал на стенах горб!
Ревела мамонтом пробитым
и улюлюкала толпой
вся темнота, что колом вбита
была в меня чужой рукой.
Мне череп расщелкнули зубры
и тигры распластали плоть!
Все камни превратились в зубы,
чтобы меня перемолоть.
Я слышал зов! Я слышал песню
о том, как древняя смола
твердела на огне как вестник
того, что холод ждёт тепла.
Когда я вышел ослеплённый
никем как новый Полифем,
ещё один листок на клёне
кровавой птицей улетел.
Венеры
[э́л’ь]
Я смело назову тебя сокровищем,
раскопанным в развалинах костра.
Сквозь кожу кровь зелёная – она ничем
не отличается от вкуса майских трав.
В пещере головы два сонных кратера
с двумя Венерами – с двумя камнями,
которые насильно были спрятаны
в застывшем вертикальном океане –
сквозь толщи вод, как сквозь вселенную,
я видел голубые два столпа –
твои глаза горели, как последние
свидетели начала. Я со лба
содрал рукою водоросли прошлого,
пошёл на свет, как мотылёк морской.
Вода меня вращала в пятнах Роршаха,
но я наматывал на ноги за верстой
версту. Я шёл насквозь – на горизонт –
сквозь океан, упавший набок от такого
сокровища. Потом я как бизон
бежал от истребления к оковам
двух голубых лагун. Я к ним добрался,
они светились голубым огнём.
Нектар в тебе с течением сливался
по цвету. И я понял, что влюблён.
Гербарий
[э́л’ь]
Мы с тобой в холодных подземельях
целовались в сахарный огонь!
Вынесли нас хрупкие олени
на рогах, похожих на ладонь.
Речка с разветвлёнными хвостами
задевала путников, шипя.
Рыбы в ней тонувшими свистками
пропускали время сквозь себя.
Лез на лес зелёной тканью парус,
мышцами деревья напряглись –
и сползла трухою рыхлой старость,
оголяя меж стволами жизнь!
Так сложились кости леса в судно.
Где-то тут в оленях и рогах
мы с тобой вросли в тугие судьбы
тропами на выжженных руках.
Мы плывём по Солнцу,
наш корабль чует запах гари.
Там, где мы проснёмся,
там и расцветёт гербарий.
Ритм весны
слышишь во мне шелестит
бронзовый листопад
плавный осенний титр
вместо зимы март
чувствуешь запах гари
ямой сухой томится
в салки с дымом играют
возвращённые птицы
чуешь смолою осень
вяжет деревья рёбер
сердце подстреленный лось он
воет в кровавой робе
солнце в его меху
спуталось с кровью густо
он подражает стиху
и повторяет чувство
ритмом весны люби
как во мне дышит поле
воздухом голубым
чёрную грудь вспороли
белые жёлтые полосы
свежие рельсы весны
это во мне проросли
цветы твоего голоса
Гала
Ом-Мани-Падме-Хум
Ом-Мани-Падме-Хум
в тебе есть Восток
красная кожа из песка
золотая чешуя шеи
палящие перья глаз
парящие птицы глаз
синие фиолетовые
яркие
как сон больного чахоткой
выдыхающего чёрную плесень
на хрустящей крахмальной простыне
в глиняном доме
возле рынка
где громко
Ом-Мани-Падме-Хум
Ом-Мани-Падме-Хум
и тесно
как у тебя между рёбер
от обилия голубых обожжённых стрел
обнажённая
и веток проросших деревьев
с красными листьями-губами
на каждом шагу из тебя сыпятся
монеты
огни
руки
руки
руки
руки
руки
кира
шивовые моря рук
ивовые волны рук
гремучие наги
повторяют мантру
Ом-Мани-Падме-Хум
Ом-Мани-Падме-Хум
мантрукирукирукирукирукируки
кира
Ом-Мани-Падме-Хум
Ом-Мани-Падме-Хум
левая голова ловит волю
правая голова правит верой
главная голова гола
главная голова – Гала
как и остальные девять
струны волос звенят
натянутые отражением
в глазах смотрящих
Ом-Мани-Падме-Хум
Ом-Мани-Падме-Хум
твоя спина в барханах
дрожит и вздымается
от зноя
сухо так
что когда говоришь
и делаешь вздох
песок задувается в лёгкие
будто в мешки с углём
неветрено
невесомо
ничего нет
только волны
тёплые волны
и обожжённые пальцы
Бодхисаттвы
Рептилия
я не могу удержать музыку
она барахтается в скользких руках
как пойманный в водоёме окунь
расползается во все стороны
чёрно-оранжевой ящерицей
оранжево-чёрной рубашкой
на груди негра
надутой волынкой
чтобы совсем другой инструмент
открыл рот
в игре на саксофоне есть что-то эротическое
музыка вываливается из трубы как мокрый язык
с пирсингом нот
губы трубы целуют на расстоянии
стук
рук
в бук
будит
самое примитивное
дрожать бёдрами
дрожать талией
подражать ритму
становится им
становится чёрно-оранжевой ящерицей
ядовитой
пойманной рыбой
ребёнком не желающим мыться
девушкой извивающейся в истерике
которая не даёт себя успокоить
шаманом танцующим на углях
призывающим духа дождя
несомненно в игре в музыку есть
что-то эротическое
несомненно джаз – это больше
чем музыка или игра
джаз – это глагол
Божественная комедия
Сергею Нефедьеву
одноэтажные дома ведут слепого
ведут слепого от любви огнями окон
над ним болтается стрелою чёрный провод
и на плече как Херувим кудрявый локон
вышагивает метры пилигрим
сверкая сигаретною звездою
снимает ночь покровы перед ним
чернилами сгущаясь за спиною
Вергилий ждёт – автобус 32
готов везти наоборот от Беатриче
куда-то на Свободный где едва
теперь его хоть кто-нибудь отыщет.
Разбросался
Дождь мелкий, мелкий, как на ноге младенца
правый мизинец для великого великана.
Дождь мелкий, частый, дробится осенним сердцем,
звенит об асфальт упавшим на кафель стаканом.
Дождь мелкий, чистый, неощутимый ищущей парой
глаз. Только при свете машинной тюрьмы
ты видишь, как капли вьются мотыльками у фары,
ты видишь, что дождь существует, как существуем мы.
Мы, пропадающие без лампы
чьей-то светящей нам в миллионы ватт
головы, остаёмся тьмой в темноте, рекой без дамбы,
жизнью без смерти и попадаем в ад.
Так говорят о форме: стенках, границах, гранях.
Дождь существует, пока фары оранжевый след
даёт ему контур. Так, доходя до края,
свет переходит в тьму, тьма переходит в свет.
После дневного ливня
Голуби греются в луже, как японские обезьяны
Город делает выдох после дневного ливня.
Всплески дорог смывают прохожих волнами океана.
Небо подчёркнуто горизонтом, словно у гейши линия
делает дольше глаз. Дома, словно в рисовом поле,
словами растут, подражая японской манере письма.
Чёрной ниндзей тянутся по красной от крови кровле
провода, затаив в себе смерть, оставляя убитых без сна.
Люди несут зонты головами вниз, протирая
их от воды уверенным сжатием победителя,
как протирают мечи от крови врагов самураи.
Город похож на иероглиф, если посмотришь бдительно
сверху, приравнивая себя к ветру и капле.
Тучи, как чашки с рисом, опять опрокинуться жаждут.
Строительный кран вдалеке застыл в Енисее цаплей.
Фонтаны раскрыли пасти, успев умереть от жажды.
И новые капли разбились о землю, как камикадзе.
Небо сделало харакири ритуальным мечом грозы.
Но не слёзы, не кровь заструилась на землю, не дождь, как мне кажется,
а с отцветающей сакуры лепестки цветов бирюзы
и нефрита. И где-то вверху руками развёл император
огромные двери, скрывавшие тайну его короны –
она не достанется смертным. Солнце как жёлтый кратер,
выжженный в небе огнём пролетающего дракона.
Рентген
«Он посреди ночи проснётся»
Пётр Мамонов
летом ночь
растяпа
уже три часа она чирикает в прорезях
голубые дома
на них синицами потухшие окна
а кое-где свет торчит
свисает с балконов
людей там не видно
за них говорят намёки
окурки на лестнице
объявления
щелчки выключателей
шаги
светофорам можно доверять
они выполняют своё задание даже
в середине ночи
когда изредка
не торопясь
проедет белая рено логан 871
цена поездки – 140 рублей
остановите здесь я доплачу
дома никого нет и на стройке
возле общежития
всегда по ночам
горит у ворот мощный фонарь
просвечивает строение
бетонные кости
на них флажки ограничительные
уже есть этажи
кирпичи и впадины
будто рентген через живот беременной
фонарь видит будущее
пора сменить
угол зрения
цена поездки 180 рублей ожидайте
Бес-
я чувствую что эволюция добралась до меня
сегодня ночью я обнаружил в комнате кладку
испуганно вышел на балкон влип в перила
словно оса в малиновый сироп
стал подражать луне бледнея и осознавая
что я привязан к чьей-то орбите
вернулся назад и увидел
что я не один
что у меня гость
врос в потолок над кроватью
так дрейфует в воде утопленник лицом вниз
а снизу под ним я
тело его из мрамора или лака
без половых признаков
застыло но чувствуется что оно
живое
гнёзда глаз пустыми кабинами лифта
я лег на кровать и гость оказался
моей копией
моей статуей в полный рост
Я задвоился
Я задвоился
и боялся пошевелиться потерять его
из вида
я назвал его – ницей
стал охранять его сон
он спит уже третьи сутки
наблюдая за мной
я его сын или он моё дитя –
мне непонятно
но я не свожу глаз с этого манекена
модели формы
даже когда я ем или пишу стихи
я чувствую его присутствие
наверное я жду что он проснётся
и уйдёт
а вчера я нашел новую кладку
и теперь жду неизбежного
Апрельская утопленница
Ты – огромное озеро голубое,
наполненное до краёв –
в тебя окунулась я с головою
в поисках свежих слов,
в поисках счастья, веры
в то, что оно существует,
в поисках счастья в вере,
в поисках наших судеб,
которые где-то на дне
водорослями сплелись.
Я тонной тонула в тебе
со скоростью в одну жизнь.
Холодное масло воды
ножом своих рук разрезала,
русалок и рыб (а ты…)
любила и обнимала.
Стремилась упасть (…зачем…)
зарыться в твоём иле,
(…меня звал?) но мне
воздуха не хватило.
Корзина с земляникой
Я забыл, что я должен тебя забыть,
но я помню, помню отчётливо,
что где-то в лесу, чья зеленая нить
обрывается (или чёрт его
разбери, где там именно – главное, что вокруг
никого из людей на ближайшие 8 жизней),
я видел потерянную из рук
корзину с остатками земляники. Из ни-
откуда сюда провалился огромный свет
дикого солнца, сгоревшего в самом начале.
Эта корзина с ягодой хранила в себе секрет
смерти, твоей потери, моей печали.
Наверное
Луна – комиссар ночи.
Допрашивает одиночек:
просит назвать по имени
ту, для которой солдаты
на острове в Древнем Риме
строили храмы и карты
сжигали, чтоб не найти
не им и не нам пути.
Твоё лицо наверняка пахнет яблоками.
Особенно щёки – эти ложки под хохлому,
которые весной наливаются зябликами,
а осенью прячутся щенком в конуру.
Твои плечи наверняка пахнут корзинами
вечера, куда прячут детей от жары
под фиалками, чтобы те разинули
рты лишь тогда, когда они будут дары.
Колени твои, наверное, пахнут песком,
морскими коньками, найденными ракушками.
Я слышал, что ты из них вроде бы сделала дом,
он будто бы Карфаген, но его не разрушили.
Твоя голова наверняка пахнет козами –
их молоком и покорными взглядами вниз.
Я вижу издалека, как улыбкой искосаны
глаза твои, когда ты скрываешь чайку за водоёмом линз.
Я вижу издалека – мы по разные стороны сцены
во время концерта уселись смотреть друг другу глаза в глаза.
Ты, наверное, пахнешь деревьями, жжёными спичками, сеном.
Наверное, всем, что похоже по запаху на горящие образа.
Луна – комиссар ночи.
Допрашивает одиночек:
просит назвать тебя,
а я и не знаю имени
той, кто из алтаря
тело себе выявил.
Синее
В автобусе объявили,
что следующая остановка
сердца у девушки в синем
платье. Фонарь с винтовкой
стоит на углу Диктатуры
Пролетариата и Ленина.
Рядом лежат фигуры
пьяных или расстрелянных –
ночью не разобрать.
Ночью темнеют руки.
Ссорятся с кровью братья,
рвутся оградой брюки.
Шёпотом произнесённое:
«Я тебя ненавижу», –
ночью громче Мадонны
в выброшенных книжках.
Окна молчат заданием
вычислить, где счастливцы
спят, украшая здание
молчанием бледнолицым.
Шаг возводится в степень,
утраивается эхом.
Ночью под сетью сепий
ты становишься стерхом.
Наверно, последним стерхом.
Наверно, во всем виновата
сбивающая со следа
тропа в середине сада.
Наверно,
вина лежит и на синем
платье стоящей слева
от выхода девушки с именем,
заканчивающемся на «-ок».
Последний автобус в центр
остановил свой ход
и выбросил нас на ветер:
меня и девушку в синем
платье, похожую на мотылька –
на девушку с синим именем,
начинающемся на «Ка-».
Всадник мая
Фантомные боли мая
от вырванной с корнем из
сердца любви донимают,
выворачивают наиз-
нанку. Молчу ночами,
закапываюсь в песок
мыслей. Моей печали,
видно, продлили срок
до пожизненного. Голова
раскалывается на два
лагеря. Память против
Реальности – по середине
я как петух на противень.
Лежу с пробитой грудиной
в поле, как у Рембо.
Жужжит надо мною время
в виде пчелы, и боль
вдевает меня в стремя
мая. Теперь зовите меня
всадником без головы,
без будущего, без правителя
без жизни и без любви.
Я сам себя нарекаю
Всадником мая.
Всадником мая.
Похороны буквы К
Сегодня я понял, что ты мертва:
я поднёс зеркальце к приоткрытому рту
и увидел, что даже смерти в тебе
едва-едва набирается для превращенья в звезду.
Тогда я поднёс ватку с нашатырём
прежнего взгляда, дыхания, слов, интонаций –
но труп твой, ввинченный в память штырём
даже не пробовал просыпаться.
Я пытался нащупать в тебе наш пульс,
но слышал одну пустоту, бывающую
после столкновения двух поездов, чей курс
лежал по убывающей.
Зеркало схлопнулось,
будто капкан или устрица. Пахнет синим.
Воздух вокруг почернел, и пространства ось
распяла тебя по четырём линиям.
Я зарылся руками, понимая, что ты мертва.
А то, что носит теперь твоё тело, как имя,–
совсем неживое. В сердце моём, в словах
мы тебя как живую похоронили.
Для студенческого возраста
печально клонят в землю фонари
свои святые головы. смотри
он едет
от неё на «восемь девять»
до театра кукол. полные любви
его тугие руки. повтори:
что день соединяет
ночь разделит
02.12
Выращивание ног
Я научился слышать, как во мне
журчит вода, как в этой глубине
всё море жидким солнцем обыскав,
ко мне вернулся мальчик-батискаф.
Он говорил со мной на языке
кораллов – он оправдывался мне!
В слезах его я камешки искал,
которые он выковал из скал.
Я голову поймал сетями рук –
прыжками рыба рисовала круг
и неспокойно хлюпала губами –
рвалась наружу. Превратилась в камень,
когда узнала, что искомый клад
задавлен не подошвой дна, а над
водой летает слабым альбатросом,
глотающим воды тугие тросы
и рыб крылатых ловящим мешком.
Мой мальчик, научись ходить пешком.
Теперь я часто слышу, как во мне
ребёнок бегает за птицей по воде.
Галатее (для)
Беременной
ребёнок растёт из матери
веткою из ствола
словно подсвечник из скатерти
праздничного стола
накрытого в честь окончания
жизни в ином состоянии
ребёнок растёт из матери
как из знака вопроса точка
так из предателя
вываливаются доносы
и мы узнаём имена
на кого перейдёт вина
ребёнок растёт из матери
словно цветок из земли
так металлоискателя
где-то в песках внутри
ждёт ненайденный клад
семирамидный сад
ребёнок растет из шороха
намёков первых движений
в шлеме скафандра за шторами
цифрой при умножении
растёт ребёнок крепчает
как вкус забытого чая
ребёнок растёт потому что
вселенная разрастается
и тянет его за ушко
как после охоты зайца
тащит довольный добытчик
в дом состоящий из нычек
или наоборот
ребенок растёт от
того что вселенная в нём
его распирает дорога
тогда ребёнок – разъём
чтобы услышать Бога
у тебя изнутри
растёт цветок
с глазами змеи
с узором ног
глаза от отца
ноги от матери
в момент конца
когда вы спать легли
навсегда останется слог
«ма» поставленный на повтор
ребёнок есть эпилог
миру который вор
Галатее
ты очень похожа на закрытую устрицу
потому что девственница и слепая
при волнении на рукаве первую пуговицу
крутишь как колесо Сансары
но не помогает
и каждую новую жизнь ты неожиданно та же
девочка с обкусанными ногтями
ставшая призраком в слоновых бёдрах многоэтажек
выдуманная местными парнями
чтобы хвастаться твоим вниманием
а некоторые даже рассказывали
что тебя целовали
при этом каждый путается в показаниях
одни говорят что у тебя лицо в овале
голова-цеппелин
другие клялись
лицо твоё или клин
треугольных птиц
или квадрат
карт
большинство же стоит на своём
до конца
что ты без лица
а вместо него у тебя картина
красная рама
третьи соглашаются но не картина
а фотография
на которой запечатлены Сита и Рама
четвёртые видят там долгое море которое вплавь и я
могу при желании пересечь
море вместо лица
зелёное и неспелое
в темном подвале своей головы
при свете свеч
я тебя Гретхен под себя переделывал
и когда назвал тебя Евою
получил яблоко вместо лица
закрытая и слепая
устрица
Пещеры
I.
Я потерялся в твоём лесу
чёрным дроздом с оранжевым,
как слова с буквой л,
клювом –
летаю в тебе, что-то в себе несу
непознаваемое, напоминающее о юном
мальчике с воздушным змеем наперевес –
он бежит по жёлтому полю босо,
пристально вщуривается в тонкий крест
красного ромба, застрявшего в ветра косах.
Дроздовые перья шипят, как карбид в воде,
когда я пускаю зелёные волны
листьев –
вторю шуршанию леса. Круг замыкается. Где-
то разворошена наводненьем нора
лисья,
и рыжие, желудёвые хвосты
ползут меж стволов земляными
змеями – стремятся найти меня. Если ты
рядом, затягиваются ремни времени –
концентрирование момента –
когда родниковая лента
во мне белым шумом искрит.
II.
Твой лес шуршит во мне подземными водами:
холодными, как руки в декабре –
звенится, змеётся между породами
пещеры, оставленной взрывом во мне.
Ручьи поднимаются к обрыву у головы,
вырываются водопадом птиц наружу.
Мой рот полон рифм, как между нами рвы
полны обстоятельствами. Я – оружие
в руках у 16-тилетней девочки,
стреляющей ночью в луну моего
сердца. Доктор скажет, надев очки,
вглядываясь руками в о-
брыв моего рта:
«У пациента внутри пещеры
источник, ключ, святая вода,
заполняющая все щели».
III.
Я пишу тебе это сонный, в 4 часа
утра, неспособный
сдержать с(т)воих птиц в лисьих лесах
и глубоких пещерах с шумящей
звездой воды в бликующей темени.
Если ты рядом, мне не хватает времени
и пространства.
Песнь гонца
Возвращаясь ночами домой,
я ощущаю себя гонцом,
несущим плохую весть.
Я молотками шагов
вбиваю красные гвозди
в будущий крест.
Потому что я знаю о смерти
больше,
чем она про меня.
Потому что я знаю о смерти
больше,
чем она про меня.
Я несу в руках
свою заранее отрубленную голову.
Прихожу к императору мёртвым.
Но он никак
не может меня казнить
за то, что я знаю больше.
за то, что я знаю
больше,
чем он про меня,
он никак не может меня казнить.
Сегодня дурацкий праздник.
Фонарь похож на торшер.
Двадцать восьмое июня.
Двадцать девятое уже.
Ver liebe
я изучил все словари мира
каждого языка
до каждого кончика
вместо вырванного грешного
протоязык
вырос у меня во рту
и стал раскрывать суть
называя предметы снова
но то что мне нужно
не поддавалось номинации
я читал древние книги
на латыни
иврите
санскрите
старославянском
греков ахилловолшебных нашёл я в котлах коллективного
бессознательного
слушал их песни в которых слова виноградными зёрнами
будто янтарь с насекомыми или смола
хранят в себе сок смысла
раздавишь – поймешь
логоса перебирал чётки
но слова сдувались от моих прикосновений
будто только что располневшие от воздуха шарики
в слабых пальцах мальчика
с рассеянным вниманием
ребёнок – радиоволна
древнеегипетские символы
превращал в финики
жевал их пока не начинало тошнить
но это тоже не дало результатов
разговаривал с животными
они вертели головами не зная ответа
но спрашивали есть ли у меня табак
в загробном мире
где соль на стенах пещер это вмёрзшие души
выменял будущее на Бардо Тхёдол
но в нём не было ни слов
ни знаков
только соль на страницах
соль минор
Адажио Альбинони
получил сигнал из космоса
но в нём тоже не оказалось предмета моих поисков
только палиндромы
«Я Разин со знаменем Лобачевского логов.
Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря»
наконец
я добрался до того кто произнёс первое слово
долго не решался спросить
но ящик Пандоры у него за пазухой
слишком напоминал мифических сирен
я смог
но даже он не знал что ответить
застегнул себя в мой вопрос
вцепился в посох орлиными пальцами
уронил каменную голову в поле груди
изогнутой как рёбра слона
уронил каменную голову словно сумочку перемётную
наступило великое молчание
а потом утробный гул раздался
из впадины его гортани
центра всего
и стало слышно волны Большого Взрыва
как движутся планеты
со скрежетом ползут по рельсам
улитки по дереву
а он сухими губами перебирал вселенную
в поисках этих слов которые я ищу
слов которых невероятно не хватает
чтобы назвать тебя
чтобы описать тебя
и рассказать всем
как ты прекрасна
Скоро
Когда время получило края,
я схватился за него целиком,
сечением на ладони кровя
руки моей силикон.
Молчал от боли –
надувался игольчатой рыбой.
Сжимал в ладони
тяжёлые острые глыбы
времени – не отпускал:
выскальзывало стекло,
деля ладонь пополам
и меня самого
по правилу золотого сечения.
Внутри меня Рождество,
Точка отсчёта свечения
и прорастающий ствол
слов прямо по центру,
где протекает речка,
зацикленная моментом
встречи
с тобой, край ночи;
с тобой, видевшая его.
Я произнёс многоточие
времени длинношеего.
Контур пропал, пока ты
его не начертишь снова.
На стенах от ветра трясутся плакаты
в истерике с надписью «Скоро».
Параллельные Лобачевского
Читать тебе стихи на краю Севера,
где ветер засасывает в себя
и впитывает бинтом воздух,
оставляя нас наедине.
И морозными венами
лёд вползает в горло,
будто личинка Чужого
за-за
дыхаясь
из-за
икаясь
захлёбываясь снегом,
я читаю тебе верлибр в телефонную трубку
сквозь
шшшшумнойййййзззззззздребдребдребвизжание
помех
наизусть,
на коленях,
по пояс в сугробовой тишине
и по позвоночник
в взвинченном звоне вьюги,
выламывающей мою красную голову
с арбузным хрустом.
Читать тебе верлибр собственного сочинения,
стоя в эпицентре качающейся толпы
панков и металлистов,
скандирующих
HEY!
HEY!
HEY!
HEY!
HEY!
под дробь гитары
и верить,
что ты разберёшь в этой куче
перевёрнутых,
сбитых,
серебряных слов
самое главное:
Мы одновременны,
а ты всегда
ответишь на звонок.
Энея и Дидон
во мне слов
больше чем в автомате с игрушками
и пусть их там обычно 17
или около
ребёнку кажется что это
непосильно много
я столько всего хочу
выразить вырезать и взрастить
столько зёрен посеять в тебе
чтобы появился красный мак
выше меня
но моя любовь – в молчании
офицера в фашистском плену
но моя любовь – репортаж с петлей на шее
всё моё время – верёвка
тянется-тянется
но моя любовь – кокон в котором ты
ты
поэтому зёрна опрокидываются
из рук сеятеля
выпрыгивают
из кулаков
и поле твоих глаз цветёт
во мне
а между ними – сорняки моих рук
иногда эти сорняки вырываются на свободу
и я смотрю на тебя дольше обычного
улыбаюсь и говорю глупости
если ты читаешь это
значит
я обманул сеятеля
выкрал ночью его мешки
стал эгоистом
принёс их тебе и взвалил
на тонкую стрекозьекрылую спину
теперь я противен себе
стал эгоистом
но что-то внутри меня
как будто оправдывает мою слабость
надеюсь
ты выбросишь мешок на обочину
и семена сгниют
не найдя твоей почвы
Рыбий глаз
Часовой механизм на спине
отсчитывается за год.
Меня по кирпичной стене
Поллоком разорвёт.
Когда ты уедешь, я
сразу свалюсь в кювет
слепым мотоциклом. Змея
в черепе ждёт момент.
Я словно какой-то Юпитер
со стаей спутников-падальщиков.
Тебя отнимает Питер
и прячет по улочкам-ящикам.
Город размером с комод
больше, чем наши песни;
дольше, чем наш полёт
и главное – неизвестней.
А я уже целый год
готовлю себя к прогулкам
по рыжему центру, чей лоб
город однажды продул нам,
и мы ставили щелбаны
пятками в тротуары;
смеялись, как валуны,
падающие в тар-тара-
рыбий глаз воповать в пустыне
будет тебя до последних
песчинок меж жабр, до извилин
на пересохшем теле.
Тик-так, утекает год,
вертит корявый свастик.
Я должен быть счастлив, что от-
даю тебя в твоё счастье.
Жаль, нельзя сказать короче
В этой жизни нам с тобой никак
не срастись корнями, не скреститься.
Жить своё – в контуженный кулак
с именем пытаться превратиться.
деревом ли стану, альманахом,
аль монахом, али богомолом,
радиволною, черепахой,
мягким знаком или корнем -оло-,
иволгой ли, глиной, цветом моря –
я
тебя, случайное письмо,
людям и предметам не открою –
сохраню и жёлтою весной
целовать начну губами человека
снова только имя – нам никак
не срастись корнями в этой форме…
Что ж, я рад биенью мотылька
в клетке пальц – я знаю, пойман вор в ней!
Он в кулак сжимает человека,
что похож до смерти на меня.
P.S.
…но самое страшное, что я тебя понимаю.
На нас будут косо смотреть слепые трамваи,
если мы иволог наших пустим с тобой навстречу,
срастёмся на спинах и соединим плечи.
В нас кинут камни самые тихие люди,
матери цокнут, отцы достанут орудия,
снимут очки и сожмут в кулаках свои рты.
Из-под земли нас достанут им служащие кроты.
Сойки преследовать будут с самого райского сада.
Будет петлять, спотыкаться, сбивать нас с пути автострада.
Лоси в рогатые трубы о нас свои сложат песни:
о том, как в своё же дерево влюбился старый кудесник.
Будут клеймить: слогом «Ло», слогом «Ли», слогом «Та».
Будут орать: что за «Гу»? что за «М»? что за «Берт»?
что не нужна им наша маета,
но кем ещё, мой отблеск, будешь ты воспета?
Надеюсь, мудрым рыбаком, чья в море лодка
ведёт себя спокойно, не дыша;
или охотником, который ловит ловко
и отпускает с сердцем малыша.
Надеюсь, кем-нибудь хорошим, настоящим,
похожим на цветок или на чащу.
Он будет ласковым, высоким и красивым,
с глазами сочными, как вызревшие сливы.
Он будет петь тебя, протягивая слоги,
играя в переходе на гитаре,
а нищий, что напротив, одноногий,
в печали счастлив, что за вами наблюдает.
Цыплячьи нежности
Я целую бабочку во рту!
Губы от пыльцы все пожелтели!
Мы смеёмся звеньями в цвету,
Наливаясь соком в жёлтом теле!
Мокрыми ногами на углях
Пляшем, перемешиваясь в слове!
Мы костёр, залезший на поля,
Буквы мы, пылающие полем.
Мне на шее – пальц твоих пыльца,
А тебе – цыплёнок поцелуя.
Я теперь подсолнуховый царь,
Потому что их к тебе ревную!
Я другое дерево – твоё!
Ты другая почва – неземная!
Губы пожелтели, будто мёд.
Я целую бабочку, сгорая.
Тепло пальто
Я могу спокойно уходить
в мир иной, за дверь или за хлебом –
через жизнь смогут раздобыть
глаз мой синий, спрятанный за хлевом
рук твоих. В избе твоей грудной
клетки я храню чертополох,
в угол красный вставлен образ мой –
тусклый и затёртый, как порог
сердца, а под ним – мои стихи
спрятаны ключами от ограды
в сад осенний – там, где шум реки
громче заклинания парада.
Ты мой дом, в тебе я повторюсь
рук изгибами и звоном из пещеры
наших слов, которых наизусть
кроме нас не выучит никто.
Ты мой кокон, фотоснимок серый.
Я – тепло хранящее пальто.
Ты – пальто, хранящее тепло.
Сердце, превращённое в гнездо.
Мы – костёр из выученных слов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































