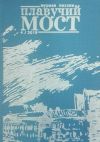Текст книги "Вечная Мировая"

Автор книги: Сергей Ивкин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Сергей Ивкин
Вечная Мировая
© Ивкин С. В., 2022
© Капович Е. Ю., предисловие, 2022
© Балабан В. А., фотографии, 2022
© Русский Гулливер, 2022
© Центр современной литературы, 2022
Предисловие
В стихах современник ищет собеседника, подобного ему самому, такого, который заведёт разговор о главном, то есть, о самом будничном, не будет болтлив, спросит про обычные дела и внимательно выслушает. Вот таким собеседником видится автор книги «Вечная Мировая» Сергей Ивкин. Его речь нетороплива, походит на внутренний разговор, он созерцатель, наблюдающий среди многого прочего самого себя.
«Ночью шукал патроны.
Шарил нычки-заначки.
Не пролистать задачник.
Вроде бы жил по совести, а иначе.
Шастал по крышам, смотрел на город,
чистил зарубки на мокром прикладе.
Не для себя, ради родины, их же ради.
Ни в одном из миров не представлен к награде».
Здесь замечательно звучит это «вроде бы», выдающее в говорящем внутреннюю честность и нелёгкую неуверенность. Мы зачастую стремимся выглядеть жёсткими, такими, что в английском языке называется “cool”, а ведь для поэзии куда важнее слабость. В ней тот рычаг, который может раскачать наши вполне равнодушные головы и приблизить сердце к сердцу. Такое качество дорогого стоит. У Пушкина в «Пире во время чумы» есть строки об этом: «Но так-то – нежного слабей жестокий, / И страх живёт в душе, страстьми томимой!» Что касается вышеупомянутых классиком «страстей», то можно предположить, что под ними он подразумевал нечто иное, чем как раз эту позицию жестокого и сильного, равнодушного к смерти человека. Нет, не будет становиться в позу герой Ивкина. Он прислушивается к миру, он заговаривает себя, пугается звуков с той стороны бытия, потому что ему дорога жизнь здесь.
«Ветер колотит оконной рамой
комнату за стеной.
Чаще всего называют Мамой
ту, что придёт за мной.
Так утешительно и не страшно,
что под её рукой
пламя – тряпичное, снег – бумажный,
сам – не такой такой».
В стихотворениях книги ландшафт родины поэта, Урала, тоже предстает не в клишированном виде мощного края лесов и гор, а слабого, обветренного, почти живого существа, которое своим «перескрипом» словно жалуется нам на холод и убогость жизни. Мне, проведшей юные годы на Урале, нравится антропоморфизм рисуемого уральского пейзажа, который своей ранимостью задевает за живое.
«Холодный грунт развеяли ветра.
Взошли деревья на корнях паучьих.
Я так люблю их перескрип певучий
и бледное сияние костра.
Смотри, я стал похож на них, сестра».
Или вот ещё пример:
«Помилуйте, какой ещё Урал?!
Я даже и страны не выбирал:
есть для бастарда Александра Грина
гостиная, в ней на стене штурвал
и серой фотографии овал.
Вот только окна залепила глина».
И ещё давайте поговорим об этом самом главном, что характерно для поэтики Ивкина, – о некрасивой красоте. Она особенно чётко прослеживается в стихотворении ниже, где заниженная лексика автопортрета («пасть», «щетина», «шкирка») больно отзывается в душе. Здесь без аффектации показываются отношения двух людей. Стоит отметить, что герой, обесценивая себя и хваля возлюбленную, внезапно оказывается на огромной высоте – на высоте одиночества и смирения, но при этом всё ещё продолжает любить. Т. С. Эллиот говорил, что большая часть лирических текстов строится по принципу самодраматизации, а вот в данном стихотворении – чем оно и удивительно – самодраматизация начисто отсутствует.
«Ты ничему не удивлялась,
а я ходил, разинув пасть,
впадая то в глухую ярость,
то в утомительную страсть.
Я этот мир хотел потрогать,
лизнуть, щетиной осязать,
подставиться под каждый коготь,
перемахнуть через «нельзя».
Ты терпеливо отводила
меня за шкирку от перил.
Влюблённый даже в крокодила,
я прыгал, точно гамадрил.
Мгновенье – всё растает в дымке:
и ты, и правила, и тот
лениво спящий на ботинке
у памятника серый кот.
Я – первоклассник в зоопарке,
которому назад невмочь.
Постой со мной у этой арки.
Есть пять секунд. И снова ночь».
Если так подумать, то всё-таки стихи отражают не только изначальные свойства личности, но некую выбранную позицию, если хотите, даже философию. На протяжении всей книги философия «я меньше, чем ты» будет не раз поражать читателя, как в умении увидеть в деревьях живые существа, так и в наделении объектов совсем уже вроде бы неживых свойствами человека. Очень остро поэт передаёт сегодняшнее состояние мира, нашу разобщённость и одиночество, вызванные пандемией. Какая яркая метафора стоит за следующим стихотворением, в котором стиральная машина уподоблена роженице, гитаре дано имя героя кафкианской новеллы Грегора Замзы, а лавр на подоконнике – никто иной, как Афанасий Афанасьевич Фет. Ивкин заполняет пространство дома теми, кто ему дорог, и делает это мастерски – с огоньком и воображением. И итог замечательный – в пустоте бытия происходит рождение мира, что и есть прямое назначение поэзии.
«Кроссовки младшего брата в стиральной машине
пинаются внутриутробным Аркадием.
Квадратная Вероника Павловна раскачивается
между холодильником и раковиной –
вся жизнь на кухне.
Три года одиночества приучили давать имена:
лавр в кадке на подоконнике – Афанасий Афанасьевич,
гитара в матерчатом чехле – Елизавета Бам,
гитара в дерматиновом – Грегор Замза,
утюг – Петрович.
Семейные друзья так же пишут:
синий диван Веня,
рыжий пуховик Никодим,
тополь Александр Твардовский…
Центрифуга останавливается:
пора принимать роды».
Катя Капович
Пекло
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.
А. С. Пушкин
«Здравствуйте, дети. «Бездна голодных глаз…»
Здравствуйте, дети. «Бездна голодных глаз» –
это красивая формула: Was ist das
между Тем светом и этим широк (увы),
но не настолько, чтоб пропускать живых.
Душу – пожалуйста, но потроха в мешке –
там не пролезет самый бедовый шкет.
Так что все ваши подвиги были зря.
С вас хватит синей книги и Букваря.
Я понимаю, досадно, служа стране,
выяснить, что никакого секрета нет.
Тайное явлено было давным-давно,
каждое море своё распахнуло дно,
весь огород последующий возник
из переписанных набело старых книг.
Ради красивой формулы (о! о! О!!!)
истины истончаются. Что с того?
Так что валите, дети, пока я сыт.
Тот волосок, на котором любой висит,
мне рассекать без умысла – множить грязь,
вами воспетую «Бездной голодных глаз».
Жертва находит отклик, но не у тех.
Прочь, недоумки, в болото земных утех.
Спите спокойно, пока не взошла заря.
Хватит с вас синей книги и Букваря.
«Не играй в царя горы, не сиди на крыше…»
Не играй в царя горы, не сиди на крыше.
Понимаю, что инстинкт, понимаю, база.
Ты пятёрку получил тем, что просто выжил:
две ноги, и две руки, даже оба глаза.
Очень медленно иди, и не прыгай в дыры.
Воля – это тяжело. И не факт, что надо.
Больше нет учителей. Только командиры.
И запомни: не прокис – вот и вся награда.
Положи ладонь на стол. Не смотри скелетом.
Я тебе не предлагал стать к себе добрее.
Но пока ты будешь жить, все твои билеты
гарантируют подъём в нашей лотерее.
«До треска зубовного, до наготы…»
До треска зубовного, до наготы
подкожной прошли этот путь.
«Великий целитель, нам скоро кранты.
И свой стетоскоп не забудь».
Великий целитель с вершин на орле
слетает к немытым мужам.
Он каждому молча меняет реле
и всё, что потратила ржа.
Меняет нам масло, доводит болты,
сшивает поползший покров:
и снова мы с миром ущербным на «ты»,
привычная красная кровь.
Что ж, брат Терминатор, в дорогу пора.
Обратно в подземный приют.
А то, что у нас полетели «дрова»,
на это и боги плюют.
«Я повторяю себе: засыпать не страшно…»
Я повторяю себе: засыпать не страшно,
нет, никто не залезет (F9) в биос,
я не утрачу наутро стишат вчерашних,
паспорта номер и серию, фото, био.
Да, повторение – мать, но упрямство – отчим.
Вот я лежу в темноте (отменить цитату)…
Страшно проснуться в состоянии нерабочем
и повторить это действие многократно.
Подозреваю, что я – результат ошибки
или подлога (вместо Христа – Варавву).
Нужно меня отключить – заменить прошивку.
Я не хочу быть исправленным, Боже Правый.
«Ветер колотит оконной рамой…»
Ветер колотит оконной рамой
комнату за стеной.
Чаще всего называют Мамой
ту, что придёт за мной.
Так утешительно и нестрашно,
что под её рукой
пламя – тряпичное, снег – бумажный,
сам – не такой такой.
«Что там? Зелёный и кадмий…»
Что там? Зелёный и кадмий.
Лето. Горячие камни.
Чёрное озеро. Змеи.
Всё, чего не умею,
было осилено: рыбкой,
с берега прыгать, на хлипких
досках причала ватагой,
счастье, друзья, отвага.
Альтернативное время
снова во снах… Арена
личного Колизея.
Веки сомкнул – глазею:
там я сильней и резче,
там я – любимец женщин,
там никакой бумаги –
счастье, друзья, отвага.
Суетный Марк Аврелий,
спящий под плач свирели.
Тихо, пусты трибуны.
Только свирель и струны.
Жизнь среди жёлтой пыли
там, где меня убили.
Вот оно – высшее благо:
счастье, друзья, отвага.
«Битые кластеры пишут письмо на „Вы“…»
12
Битые кластеры пишут письмо на «Вы».
Пунктуация жуткая – хочется заорать:
«Нахрен, нахрен, нахрен! Вон из моей головы!
К Лойсо Пондохве! В глушь, где всегда жара!»
В детстве приснилось, что стены раскалены
и я сжигаем воздухом между них:
«Здравствуйте, Смерть. Напекли для меня блины?»
На табуретку встаю и читаю стих.
Кто протянул эти левые провода?
Манипуляция – музыка неживых.
Голос, бубнящий: «Ползи ко мне в рот, Еда.
Понедельник-суббота, с пяти до пяти, без вых…»
«…и воскресенья не будет», – пропел Булат.
Вот и дышу сквозь расколотый календарь:
«Здравствуйте, Мышеловка. Всегда бесплат…
Здравствуйте, слёзы Вечности, торф, янтарь.
Здравствуйте, люди, ждущие похвалы.
Здравствуйте, ноты голодные. Мне не спеть
любвеобильную песню чужой халвы.
Я – только медь звенящая. Только медь».
Дьявол в деталях запутался – раскидал,
и не собраться двум ангелам у стола,
дабы явился третий, который мал,
но городит исцеляющие слова.
Прибежище
Ты – Господь чудес и обещаний.
О. А. Седакова
Тощий год
12
Палевое облако страны:
не слышны друг другу, не нужны
в бесконечном млечном маскараде.
Острые истерики вины
на любой у-до-влет-во-ре-ны –
срочный инфоповод, чёрта ради.
Ждали апокалипсис сейчас:
время, помещённое в санчасть,
раздирает кожу, ищет баги.
Слышишь, как архангелы рычат:
тот, на ком поставлена печать,
добровольно отбывает в лагерь.
Всё обман, что у других не так:
армии панических атак,
верный зиг при входе в супермаркет,
скучная позиция крота –
двигаться, не раскрывая рта,
позабыв про электронный маркер.
Ожидали тоталитаризм.
Получили королевство клизм,
пресный храм резиновой вагины.
Выживаем из ума: артист,
зеркалу играющий на бис,
нарисует кровью георгины.
Думали, что это будет гриб.
Комиксы нам подарили грипп:
видишь, чёрный силуэт на жёлтом.
Я – не Бэтмен… Пресловутый всхлип.
Детский счёт и карусели скрип.
Будущее здесь. Его нашёл ты.
Так получилось: больше нет среды,
истреблены висячие сады
ручного олимпийца Аронзона,
я – лист в корнях воздетой бороды
среди соцветий мяты, резеды
и прочего державного шансона.
У нас теперь иная пастораль:
албанский круль, низвергнутый в февраль,
оставил марту выжженный репейник.
Я помню, что история – спираль,
но то, что выше времени, мне жаль,
предполагает массовое пенье.
Прости, Боккаччо, мой «Декамерон» –
учёт дистанционных похорон.
Мне остаётся лечь зубами к стенке
и вспоминать состав вчерашних крон
и на ветвях рассевшихся ворон,
все их невероятные оттенки.
Помилуйте, какой ещё Урал?!
Я даже и страны не выбирал:
есть для бастарда Александра Грина
гостиная, в ней на стене штурвал
и серой фотографии овал.
Вот только окна залепила глина.
Когда Святая Смерть заносит плеть,
мой дар, реализованный на треть,
меня не оградит, не даст свободу.
Прочь, Пиндемонти, превращайся в персть:
для призраков не полагаю петь.
Стою на берегу, смотрю на воду.
«Нашинковали нашу жизнь. Достался…»
Нашинковали нашу жизнь. Достался
угрюмый дом на горке, баня, грядки,
вода из-под земли, звенящий кедр
и куст шиповника у самого крыльца.
Под кедром стол, мы завтракали кучно,
несли, как в сказке, многие тарелки,
половником напитки разливали
под скрип сапог незримого Жнеца.
Отчаянье холодные ладони
к лицу тогда ещё не протянуло,
я полон был идей, как заработать,
и ничего, конечно, не обрёл.
Сплошные обещания, надежды,
до снега продержались и вернулись
в нелепый город, в гулкие трамваи,
в счастливый комфортабельный шеол.
Мне страшно здесь. Я улыбаюсь куце,
я говорю ответственные вещи,
я понимаю, что живу неверно,
не научаясь жить иначе, вскачь.
Молюсь Тому, кто нас оберегает.
Не полагая никуда вернуться,
возделываю сердце, жду рассвета,
пишу икону, сдерживаю плач.
«Ещё чуть-чуть, ещё в пуху зарыться…»
Ещё чуть-чуть, ещё в пуху зарыться,
кошачий бок поднять, собачий нос уткнуть
и заварить свой рай на кукурузных рыльцах,
цедить сквозь полотно, смотреть сквозь эту муть.
Торжественная взвесь, застывшая, как блёстки,
не воздух, а волна заходит в чистый сад.
Сейчас вот-вот проснусь проекцией на плоскость
и соскользну назад.
Здесь хорошо, в белёсом тёплом дыме,
под пеною мостов и руки распластав.
Пока из глубины нас небо не подымет,
обмётаны халвой счастливые уста.
Кошмар и благодать сопутствуют свет свету.
Деревья – это тушь, минуты – это ртуть.
Сейчас я перейду на два деленья лета
и плотность обрету.
Ещё продлись на три четвёртых ноты,
пока меня волна подносит к потолку…
Один огромный вдох, один глоток зевоты
на систоле, а там… Наружу… Не могу.
Не поднимай меня, ну, потерпи немного,
не отдавай другим, переключив режим.
Сейчас я обниму зарёванного Бога,
пока ещё лежим.
«Детство в азарте идёт по зелёной миле…»
Памяти Э. А. По
Детство в азарте идёт по зелёной миле.
Странные птицы, поющие «текели-ли»,
низко летят, прикрываешь рукой затылок.
Солнце легло в торосы и в них застыло.
Всякий кулик поминает свои Кулички.
Где Апокалипсис прочно вошёл в привычку,
нет метафизики – сами чернее Вия.
В космос уходит библейская Ниневия.
Самое время уста зашивать хулящим:
те, кому страшно в нынешнем настоящем,
не причастятся следующей печали.
Нам ещё столько жуткого обещали!
«О, час очешуительных историй…»
О, час очешуительных историй
развесит плавники, раскроет жабры,
махнёт хвостом и разопьёт заначку,
а утром печень будет мучить стыд
за выметенный дом и за икоту
полуночную в дальних городах.
Сейчас красиво прыгает закуска,
вскипает пиво, голос воспаряет
к таким верхам, каких не ведал слух.
Роскошный хохот, развалясь в халате,
щенка за ухо треплет и в мундштук
пускает к потолку за сердцем сердце.
Кури неспешно, Век-Декамерон,
подслушивайте, дети, войте, кошки,
беги по кругу, рюмка со слезой.
О, счастье скучной жизни. Дура-Память,
танцуй на битых стёклах без позора.
Мы поднимаем, чтобы отпускать.
«В хорошей истории край размывается морем…»
В хорошей истории край размывается морем.
Терпимо – туманом. Прискорбно – зависшею мгой.
Становится лебедем клюнутый в темя заморыш.
Становится совестью времени мелкий изгой.
Я вместе с героями лез на словесную груду
и полное право имею сорваться на вой.
В хорошей истории есть мотивация «Буду».
Зарёванный. Бешеный. Мокрый. Счастливый. Живой.
«Высокий воздух. Фляга „Бугульмы“…»
Высокий воздух. Фляга «Бугульмы».
Сухарики. Далёкие холмы.
Вот с кем ты говоришь, башка седая?
Планета под ботинком проседает.
Хвост лошади, стоящей на горе.
Что очи, возведённые горе,
увидят в небе, кроме Салавата?
Немного зябко и череповато.
Усыпанная звёздами Уфа.
Куда ещё прийти во сне («Фа-фа», –
из Фёдорова строчку напевая,
из фляги по глоточку выпивая)?
Тогда нас было много, нас несло
сквозь сумерки, нам было веселó,
и лишь ребёнок ныл, просясь на плечи.
Архитектура, жизнь, фрагменты речи.
А запись на повторе – ты один:
вперёд ушёл эскорт любимых спин,
и снятся только мелкий снег и фляга,
вечерний город в триколоре флага.
Вот так стоишь, как жёлтый сухоцвет.
Рассеянный совсехсторонний свет.
Шекспир какой-то. Акт четвёртый драмы.
И вместо титров – вязь кардиограммы.
Расклад
I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that’s not the shape of my heart
Sting
«Скольким хотелось бы: „Здравствуйте, как дела?“…»
Скольким хотелось бы: «Здравствуйте, как дела?»
Помнишь и любишь, но застревают в горле
напоминания: мимо судьба вела,
ну так чего беспокоить их личным горем?
Всякая реплика – жажда сказать своё,
не поделиться, вывалить, вот, носитесь.
И потому безадресные «алё» –
все мои тексты. Кто я всем вам? Проситель?
Да, не Пракситель. Не мраморные века,
а восковые месяцы дарят губы.
Голос, скрипящий сквозь буквы издалека.
Помнит и любит. Кого из нас помнит и любит?
«Терпение – есть пение в ночи…»
Терпение – есть пение в ночи,
ворчливый вечер тело отключил,
и только голос фонарём в метели
качается. Высокая печаль
без горечи, но с гордостью. Рычаг –
поднять себя из карстовой постели.
Спокойствие. Угрюмость без хандры.
Болезненного опыта дары,
когда чем больше били, тем счастливей.
Уверенность, что месяц – и теплынь.
И можно будет пить из пиалы,
открыв окно, горячий чёрный ливень.
«Нищебродный мирок…»
Нищебродный мирок.
Сборище идиотов.
Для стороннего взгляда
каждому есть работа:
коль плодимся и множимся,
роды и юбилеи.
Мы давно не горим –
бесперебойно тлеем.
Приходилось однажды
проездом в мирах богатых:
небоскрёбы взлетают,
взрывается навигатор,
и живут не пойми на что,
а всё время в новом,
на вопрос: «Qu’est-ce que ce?» –
неизменный ответ: «Хреново».
Не тоскую. Кормлю соловья.
Удобряю розы.
Нищебродный мирок
лелеет свои занозы.
До рассвета читаю,
когда накрывает ужас.
Я достиг мастерства
в производстве тесьмы и кружев.
«Ты ничему не удивлялась…»
Ты ничему не удивлялась,
а я ходил, разинув пасть,
впадая то в глухую ярость,
то в утомительную страсть.
Я этот мир хотел потрогать,
лизнуть, щетиной осязать,
подставиться под каждый коготь,
перемахнуть через «нельзя».
Ты терпеливо отводила
меня за шкирку от перил.
Влюблённый даже в крокодила,
я прыгал, точно гамадрил.
Мгновенье – всё растает в дымке:
и ты, и правила, и тот
лениво спящий на ботинке
у памятника серый кот.
Я – первоклассник в зоопарке,
которому назад невмочь.
Постой со мной у этой арки.
Есть пять секунд. И снова ночь.
«Допустим, есть рельеф, и мягкая стена…»
Допустим, есть рельеф, и мягкая стена
сдвигается, показывая рядом
ступени вниз и колоннаду вверх.
Как отличить, чего тебе не надо?
Всё, что ни сделай, вызывает смех.
Нет будущего? Есть густой туман,
в котором, если руки простирал,
не видно пальцев, холодок за ворот.
Вернувшийся в Итаку ветеран
не обнаружил им любимый город.
Вокруг пасутся мирные стада,
руины живописные, селенья
смеющихся на новом языке.
Как объяснить сержанту в отделеньи
подвешенность на тонком волоске?
«Квантовая психика распада…»
Квантовая психика распада
для того, кто смотрит сквозь хрусталь,
выглядит как мелкая награда,
стоило бы выкинуть, да жаль.
Пусть хранится на каминной полке
средь мизерных пластиковых штук.
Это лучше, чем носить наколки
или душу выдохнуть в мундштук.
Посмотрите, правда, крайне мило,
разве ль я не умница?
Стоят
алебарды, грабли, пики, вилы,
всё, чем оцарапывался, в ряд:
память, нашинкованная в мессу,
вера, утрамбованная в грусть,
психика, устойчивая к стрессу,
но слегка разболтанная.
Пусть.
Как прекрасен дом в пожаре лета!
Ничего не сохранить в огне.
Господи, а можно взять вот это?
Честно-честно, очень нужно мне.
«Эту вселенную нужно сдавать в ремонт…»
Эту вселенную нужно сдавать в ремонт.
Не в кракелюрах, а в трещинах кислород.
Солнце моё, ты выжато, как лимон.
Всё до последней капли ушло в народ.
Прежде обходчик Вова пинал столбы.
И провода звенели чистейшим ля.
Ну, а сейчас электричество жрут грибы.
И потому под ногами горит земля.
Воду подняли, когда прохудился шельф.
Так и висит атмосферою над хребтом.
Солнце моё, залезай отсыпаться в сейф.
Переговоры с подрядчиком – на потом.
Руки дойдут, мы научимся, не скули.
Выключи мысли, в ленте листай котят.
Нам обещали скорейший апгрейд Земли.
Может, какие фиксики прилетят.
Отсрочка
А имя бабочки – рисунок,
Нельзя произнести его.
А. А. Тарковский
«Сложилось так, что жизнь не удалась…»
Сложилось так, что жизнь не удалась.
И можно дальше не ловить удачи.
Спасибо, рыбка. Оставляю снасть
на берегу. Я не могу иначе.
Отложенное с детства на потом
в конце концов мне перестало сниться.
Я ухожу, не запирая дом.
Не всё ль равно куда. Спасибо, птица.
«Шорох волн похож на выдох, на движение ладони…»
Шорох волн похож на выдох, на движение ладони
по спине, на скрип качели в детском сне (там звук теплей).
То, что не смогла заполнить, обязательно запомни:
ты сюда ещё вернёшься на всё те же десять дней.
Так устроена природа, что погода повторится.
Так устроена свобода, что тебе она тесна.
Вот тебе перо Жар-птицы, Шамаханская царица,
вот тебе твоё корыто и Москва, красным-красна.
Мироздание – такая-растакая барахольня:
всё потратила на воздух, гладиолус и грейпфрут.
Это ангелу расскажешь, как здесь любят добровольно,
как потом кричат от горя и от радости орут.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!