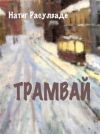Текст книги "Мальчик из трамвая. О силе надежды в страшные времена"

Автор книги: Теа Ранно
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Глава 3

Небо темное, дождь все идет. Трамвай похож на осколок дня, который движется в ночи. Кондуктор не смотрит на меня, делает вид, что мы незнакомы, но иногда поворачивается в мою сторону, чтобы проверить, на месте ли я.
Я на месте. Куда мне деваться?
Я съеживаюсь на сиденье, обнимаю коленки, закрываю глаза – кажется, что я обнимаю маму, чувствую ее запах, ее гладкую кожу, ткань платья с ароматом яблок, которые она прячет в шкаф и достает в голодные дни. Мои ботинки пачкают сиденье, но когда я замечаю грязь, она уже подсохшая, и ее легко смахнуть, как пыль. С закрытыми глазами я думаю о маме, вижу ее в грузовике и хочу крикнуть: «Беги, Джинотта, беги!», но голос меня не слушается, слова умирают в горле.
Я упираю подбородок в колени, трамвай движется вперед. Люди входят и выходят, их голоса спокойны. Конечно, ведь они не евреи.
«Евреям никогда не будет покоя», – все твердила бабушка, рассказывая о гонениях и погромах. Я не хотел ее слушать, трагедии – это не по мне, я каждый день стараюсь найти чему радоваться. Но сейчас, после того что случилось в гетто, я понимаю: бабушка верно говорила. Евреев всегда будут преследовать, нигде не безопасно, в любой момент нас могут выгнать из дома и отправить на смерть.
Трамвай резко останавливается, от удара я чуть не падаю, хватаюсь за поручень и ставлю ноги на землю, чтобы держаться покрепче. Нам только что перерезал дорогу фургон. Огромный черный фургон, вслед за которым едут четыре мотоцикла.
– Да чтоб тебя… – ругается водитель.
Рядом со мной сидит мужчина, похожий на профессора. Он говорит, что немцы ведут себя так, словно они хозяева Рима, творят все, что им вздумается, и у всех кишка тонка дать отпор.
– Разве не так? – спрашивает он.
Пассажиров мало, никто ему не отвечает.
Мужчина вздыхает, достает из кармана половину потухшей сигары, смотрит на нее, вертит в пальцах, словно не знает, что с ней делать, потом снова кладет в карман. У него черные волосы и борода, кожаная сумка так набита, что кажется, вот-вот лопнет. Я хочу спросить его, вдруг он знает, как прекратить облаву, кто может остановить немцев и прогнать их из гетто, из Рима, из Италии. На мгновение наши глаза встречаются. Он смотрит по-доброму, я – со страхом. Я отворачиваюсь к окну: не хочу, чтобы он со мной заговорил и запомнил меня.
На улице настоящий потоп. Люди идут с зонтиками, прикрывают головы пакетами, картонками, редкие военные машины медленно едут с зажженными фарами, и щетки тщетно стараются смахнуть воду с лобовых стекол. По водостокам бегут ручьи, унося листья, деревяшки, птичьи перышки.
Немцы повсюду, черные, как выползшие из гнили тараканы. Отсюда я не вижу свастику на их шлемах, но знаю: она там, сбоку, над ухом. Именно на нее я смотрел, пока мама говорила, что я не еврей, что я забрался в самое пекло. Я смотрел на свастику в когтях орла, мама кричала «Беги!», а я не мог двинуться с места.
Трамвай останавливается, люди выходят и заходят. С улицы тянется запах сырости, так же пахнут одежда, свертки, что у пассажиров в руках или за пазухой. Вдруг один из свертков зашевелился и заплакал. Это младенец. Девушка, которая его держит, еле стоит на ногах и очень бледна.
Какой-то старик встает, уступая ей место.
– Проходи, садись, – говорит он.
Девушка качает головой:
– Я выхожу на следующей. – Но она не двигается с места: только что вошли четверо фашистов, и один их вид наводит страх.
Она тоже еврейка. Сердце сильно стучит у меня в груди, словно я пробежал от Борго до Термини не останавливаясь. Оно бьется в горле, в животе, в ушах, во всем теле, словно узник, который хочет вырваться из клетки.
Фашисты переговариваются вполголоса. Один задевает меня штанами. От их одежды пахнет мылом и сигаретами, волосы приглажены бриолином.
– Вот что случается, когда обманываешь немцев, – говорит один самодовольно. – Восьмое сентября[12]12
Восьмое сентября – день капитуляции Италии. Прим. пер.
[Закрыть] по-настоящему разозлило их, и теперь немцы уничтожат предателей. Вы же знаете, сейчас погромы по всему Риму. Наконец-то мы избавимся от евреев!
Старик смотрит на них так, словно хочет испепелить. К счастью, те не обращают на него внимания. Иногда хватает одного взгляда, чтобы тебя отправили в тюрьму на Виа Тассо, где пытают заключенных.
Худой фашист говорит, что Гитлер и Муссолини отвоюют Италию, создадут империю, что союзники недостаточно сильны, чтобы побить Немецкого волка.
На губах старика появляется что-то вроде улыбки. Фашисты ее не замечают. Они продолжают говорить про Муссолини и Гитлера, про евреев, словно мы – вши, которых надо вывести на корню.
– И-мен-но! – говорит второй фашист.
Женщина так крепко прижимает ребенка к груди, что тот вновь принимается плакать. Если они спросят у нее документы, то арестуют, с ужасом думаю я.
Наверное, старику это тоже приходит в голову, потому что он забирает у женщины сверток с младенцем.
– Иди ко мне, дружок, – говорит он, – у мамки твоей сегодня голова не на месте. – Потом он обращается к девушке: – Мари, проснись! Вот, подержи ключи, – командует он, протягивая ей ключи с брелоком. На брелоке изображен папа, такие продаются на площади Святого Петра, когда папа выходит на балкон по воскресеньям и благословляет толпу. Почти у всех католиков такой есть, и этого достаточно, чтобы фашисты забыли о девушке и вернулись к своему разговору.
Трамвай резко тормозит, усатый фашист чуть не падает на меня. Поднимаясь, он грозит водителю:
– Да я тебя прав лишу!
Девушка хватается за поручень, чтобы удержаться на ногах. Ее толкнул высокий немец, теперь он просит прощения, она отвечает ему кивком.
Старик продолжает играть с младенцем, говорит, что тот прекрасен, словно ангел, как один из херувимов с картины Мадонны из церкви Санта-Мария-ин-Валичелла.
Я перевожу взгляд вниз. Черные сапоги фашистов сверкают. Туфли девушки похожи на мамины. У старика ботинки на шнурках, а обувь кондуктора протерлась на носке. Интересно, мама все еще на Черепашьей площади?..
Когда мы подъезжаем к мосту Витторио Эмануэле, старик встает, резко бросает:
– Мари, сегодня ты снова хочешь опоздать? Пошли уже! – Он хватает ее за руку и, пробираясь сквозь толпу, тянет за собой.
Я поворачиваюсь к кондуктору, его лицо ничего не выражает. Интересно, он тоже думает о том, что старик только что спаc еврейку и ее сына?
Рим погружен во тьму, от боли и страха все кажется мне черным. Мимо проезжают покрытые серой тканью грузовики. Один из них останавливается рядом с нами на светофоре. В щели между брезентом и кузовом просовываются руки, мелькают лица, на которых написано отчаяние. Но каждый раз их возвращают во тьму фургона.
Слезы капают у меня из глаз, их не остановить. Может, мама в одном из этих грузовиков. Может, какой-нибудь немец оттягивает ее за волосы вглубь кузова. Вдруг она просит о помощи, а я нахожусь в шаге от нее, но не в силах что-либо сделать?
– Бедняги, – бормочет какая-то женщина. Она вся промокла, и у нее от холода стучат зубы.
– Это ошибка, – отвечает ей священник, – их обязательно отправят домой. Папа обязательно что-нибудь сделает, чтобы остановить такую подлость.
Грузовик с евреями газует, выпуская черный дым. Трамвай тоже трогается, но едет медленно, ему не угнаться за машиной. В щели все еще высовываются руки, они кидают записки, хватаются за воздух.
Потом я узнаю, что мама выбросила карточки на хлеб и сигареты, которые лежали у нее в кармане, с запиской: «Сделайте доброе дело, отнесите эти карточки семье ди Порто на Виа делла Реджинелла». Доброе дело будет сделано, карточки прибудут по назначению. А значит, все мысли мамы были только о нас и на свете еще есть благородные люди, которые не извлекают выгоду из чужих несчастий. Это произойдет через несколько дней. А пока я кружу на трамвае по Риму, где вовсю идет облава.
– Что? Они и детей забирают? – спрашивает в замешательстве мужчина. Он явно только что узнал о происходящем. – Зачем им дети-то? Мужчин они отправят работать, женщин – убирать, а дети им на что?
Все молчат.
«Дети им не нужны, это просто лишние рты, наверняка от них избавятся», – должно быть, подумала мама, потому-то она сделала все, чтобы спасти меня.
Я вспоминаю слова, которые сказал один старый фашист молодому: «Помни, что дети врага тоже враги, хоть и маленькие. Они вырастут и убьют тебя и твою семью. Вот почему их тоже надо уничтожать».
От этой мысли по моему телу пробегает дрожь. Кондуктор смотрит на меня, на мои короткие носки и легкую кофту. Ему кажется, что я дрожу от холода. Он снимает шарф, накидывает его мне на плечи – и снова возвращается к работе.
Немцы этого не знают, но я бы им пригодился. С шести лет я зарабатываю на хлеб и могу работать получше иного взрослого. А они думают, что если ты недостаточно высокий и слишком худой, то ни на что не годен, и списывают тебя со счетов.
Шарф синий, пахнет камфорой. Синий, как море в Остии[13]13
Остия – приморский город недалеко от Рима. Прим. пер.
[Закрыть], как свитер моего друга Аттилио, как старый папин кошелек, который мне подарила мама в детстве. Она положила туда монетку, и как-то раз я играл дома и засунул ее в замочную скважину. Она до сих пор там.
Глава 4

Я прислоняюсь головой к стеклу, закрываю глаза и представляю маму: как она выходит из дома, идет, оставаясь незамеченной. Перед моим внутренним взором встают картины: Джинотта Пьяцца поет песню Джино Беки, натирает сыр, накрывает на стол, разговаривает с тетей Эленой, нажимает на педаль швейной машинки «Зингер», и ткань превращается в брюки, говорит, что мне следует ходить в школу, научиться читать и писать, чтобы никто меня не обманул, дает мне десять лир – на них я должен купить подержанный товар, который потом перепродам на рынке Кампо-деи-Фьори. Я вспоминаю, как во время бомбардировки Сан-Лоренцо она отвела нас в бомбоубежище, но не осталась с нами, а вернулась домой, чтобы приготовить что-нибудь поесть. Она смелая, ничего не боится, слишком умная, чтобы подчиняться этим картофелеедам[14]14
Картофелееды – прозвище коренных немцев. Может употребляться в ироническом или, как в данном случае, уничижительном ключе. Прим. ред.
[Закрыть], которые оторвали ее от семьи и тащат гнуть спину в своих домах.
– Мануэ, – говорит мама, – возьми кастрюлю, заверни в полотенце и принеси сюда.
Я несу кастрюлю. Каждый вечер, когда у нас есть время, мы собираемся с соседями у винной лавки, покупаем литр-полтора вина, садимся за столики, развязываем узелки с едой и начинаем есть. Из-за этого нас называют «узелочники». Здорово ужинать на улице всем вместе. Взрослые обсуждают свадьбы и обручения, бар-мицвы и бат-мицвы[15]15
Бар-мицва и бат-мицва – праздники религиозного совершеннолетия соответственно у мальчиков и девочек. Отмечаются обычно в 13 лет и 1 день для мальчиков и 12 лет и 1 день для девочек. Считается, что после этого возраста дети несут ответственность за соблюдение норм иудаизма и становятся полноправными членами еврейской общины. Прим. пер.
[Закрыть], Суккот[16]16
Суккот – один из главных еврейских праздников. Отмечается в память о блуждании евреев по Синайской пустыне. На Суккот на улице принято возводить и украшать палатку, «сукку». Прим. пер.
[Закрыть] – Праздник кущей. Мы, дети, с ума по нему сходим. Потому что строить палатку, украшать ее фруктами и овощами – это для нас как игра длиной в восемь дней. В такие вечера я всегда сажусь рядом с Аттилио. Ему пятнадцать, он почти мужчина, но, в отличие от остальных, относится ко мне как к равному, хоть и знает в сто раз больше. Ему нравится учиться, а мне нет, он читает книги и журналы, а я нет, он интересуется политикой, а я…
От внезапной сильной боли в ноге я чуть не закричал. Распахиваю глаза. Ищу Аттилио, маму, кастрюлю, бокалы вина на накрытом столе, но их нет. Я в трамвае, а на мою ногу наступил маляр. Он разговаривает с другим мужчиной про облаву.
– Это не только в гетто, – поясняет он, – а по всему Риму: даже в Тестаччо, Борго, Гарбателла[17]17
Тестаччо, Борго, Гарбателла – районы Рима. Прим. пер.
[Закрыть]…
– Не может быть…
– Все именно так, уж поверь, они увозят всех евреев, и это уж наверняка…
Я хватаюсь за сиденье, чтобы не упасть. Значит, немцы забрали и папу, дядей и тетей, и двоюродных братьев в других районах… Значит, Рим – опасное место, значит…
– А пятьдесят килограммов золота, которые должны были их спасти? – спрашивает мужчина в фартуке пекаря.
– Пф-ф-ф! Они их оставили себе, и все тут. Эти свое слово не держат.
– Но они обещали…
– Немцы-то? И ты им веришь?
Мы все им поверили: отдали золото, чувствовали себя в безопасности. Мы не сомневались, не думали, что нас обманывают, что хотят отобрать у нас последнее и все равно увезти. Я кусаю губы, чтобы не закричать: они нас предали! заманили в ловушку!
Кондуктор старается поменять тему разговора. Но какой-то старик с другого конца трамвая кричит:
– Если бы был жив Пий XI, такого свинства бы не случилось!
– Почему нет? – возражает рабочий. – Евреи сами по себе, католики сами по себе. Каждый защищает своих!
– Неправда, был бы он жив…
Его перебивают, начинается ссора. Одни вступаются за нового папу, другие говорят, что он друг Гитлера, третьи – что он и есть настоящий глава государства, религиозный лидер, он мог бы что-то сделать, но притворяется, что ничего не видит и не слышит.
Голоса звучат все громче, все злее, кондуктор тщетно пытается успокоить маляра, наверное, они друзья, поскольку он зовет его по имени, велит ему прекратить и убеждает, что нет смысла так рисковать. Глядя на остальных, он говорит:
– Я скажу только, что если каждый сделает что-то по мере своих сил… пусть самую малость…
Я смотрю в окно. Идет медленный, усталый дождь, слезы на лице города, моего города, хоть я и еврей. Я здесь родился, как мои мать и отец, мои бабушки и дедушки, дяди и тети, братья и сестры и все остальные члены семьи. Только здесь я чувствую себя дома.
– Папа… – разговор продолжается.
– Старый?
– Нет, новый. Старый-то помер, а мертвые живым не подмога.
Слово «папа» заставляет меня вспомнить одну историю, которую рассказала Лиа, соседка сверху, она вечерами приходит погреться у нашей печурки. Однажды священник зашел в лавку к еврейке, а та дала ему зонтик укрыться от дождя. Священник сказал, что он здесь проездом и не знает, когда сможет его вернуть. «Вернете, когда станете папой», – ответила та, имея в виду, что дарит ему зонтик. Священник ушел, и хозяйка лавки о нем позабыла. Много лет спустя она получила письмо из Ватикана. «Какое дело Ватикану до меня?» – недоумевала еврейка. Когда ей все объяснили, та не поверила своим ушам. Оказывается, священник и правда стал папой и теперь хотел вернуть ей зонтик. «Как звали того папу?» – спросил я у Лии однажды. «Папа Сикст», – ответила она. Так я понял, что это просто история и Лиа все выдумала. Последний папа Сикст жил в Риме четыреста лет назад.
Спорщики вышли, и в трамвае снова все стихло.
Сердце у меня разрывается. Если облавы идут по всему Риму, значит, солдаты заходят в каждый дом, вытаскивают людей из кроватей, шкафов, чуланов, даже из баков для воды, где тоже иногда прячутся. «Они всех увозят», – сказал тот тип. Всех… Как будто мы преступники и убийцы, каждого из которых непременно надо посадить, иначе они устроят невесть что. Я не могу сдержаться и всхлипываю, пытаясь выдать это за кашель.
Кондуктор смотрит на меня. Я качаю головой, мол, все в порядке.
К нам вот солдаты не приходили. Никто не выбивал двери, никто не пожаловал за нами. А может, и приходили. Вдруг это случилось после того, как я убежал? Вдруг это происходит сейчас? Что, если Нандо, Бетта, Джоэле, Бениамино и Джемма в кузове грузовика, а в нашей квартире разгром? Или они все еще там, дома, в безопасности?
Сердитый женский голос прерывает молчание:
– Гонения уж точно начались не сегодня. У евреев отобрали права еще в тридцать восьмом, когда ввели закон о защите расы[18]18
Закон о защите расы – согласно этому закону, евреям запрещалось заключать браки с неевреями, заниматься предпринимательской деятельностью, учиться в итальянских школах и т. д. Прим. пер.
[Закрыть]. Как по-вашему, человек, у которого нет прав, остается человеком?
Все молчат.
– Так я вам скажу, – продолжает тот же голос, – с человеком без прав каждый может сделать все что угодно.
Я оборачиваюсь: это красивая девушка с темными глазами и волосами. Вид у нее воинственный. Мужчина рядом уговаривает ее помолчать, такие речи слишком опасны. Но ей наплевать. Она продолжает говорить. Люди смотрят на нее с изумлением. Совсем с ума сошла, раз ей нравится так рисковать.
– Надо называть вещи своими именами, – не останавливается она. – Евреев отправляют не в рабочие лагеря, а…
Я затыкаю уши, не хочу слушать дальше! Это неправда! Мама дома, никакой облавы не было, я еду на Виа Трионфале, там живут люди побогаче, они дадут мне хорошие вещи, которые я потом перепродам на Кампо-деи-Фьори. Они уже меня узнают, и когда я подхожу к их окнам и начинаю кричать: «Сеньоры, старьевщик, готовьте старые вещи, сеньоры», мне всегда что-нибудь перепадает.
Девушка продолжает говорить о правах и несправедливых законах.
Высокий мужчина в меховой шапке на плешивой голове перебивает ее:
– На вашем месте я бы прислушивался к дружеским советам и не говорил, о чем не следует.
– Какое счастье, что вы не на моем месте!
Другой мужчина с неприятной гримасой добавляет:
– Вы, женщины, все время лезете не в свое дело. Оставьте политику мужчинам, а сами займитесь штопкой чулок и уборкой!
Девушка смеется:
– Готова поспорить, что вы в политике разбираетесь лучше, чем Гитлер и Муссолини, вместе взятые.
– Готов поспорить, что вы еврейка.
– Может быть, – отвечает она, не опуская глаз, – а вы наверняка католик.
– От кончиков волос до кончиков ногтей! – подтверждает тот, надуваясь от гордости.
– Вот и славно! – говорит девушка и тут же, не давая мужчине вставить слово, добавляет: – Тогда вы должны знать, что значит «возлюби ближнего своего, как самого себя».
Мужчина собирается ответить, но вдруг замолкает и смотрит на нее так, словно она заманила его в ловушку.
– И кто ваши ближние? – продолжает она.
Плешивый молча смотрит на нее.
– Все, кроме евреев? Кроме цыган? Негров?
В трамвае стоит полная тишина. Все думают, что она безумная. А мне кажется, что она безумно смелая.
Девушка выходит на следующий остановке.
Трамвай едет дальше. Все молчат.
Глава 5

Мы приезжаем на Пьяццале Фламинио. Смертельно хочется есть. Я вспоминаю восемь дней Песаха[19]19
Песах – один из главных еврейских праздников, отмечается в память исхода евреев из Египта. Прим. пер.
[Закрыть], когда нельзя брать в рот даже крошки дрожжевого хлеба. Это настоящее мучение, особенно сейчас, в голодные времена, когда хлеб раздобыть легче всего. Но зато потом, на Песах, мы празднуем от души! С булкой или чириолой[20]20
Чириола – традиционная римская булочка удлиненной формы. Прим. пер.
[Закрыть] в руке все дети бегут по гетто и кричат: «Люди, вот хлеб! У нас снова есть хлеб!»
Я чувствую запах хлеба словно наяву. И не только хлеба! Я будто вернулся в прошлое, еще до войны, когда мама делала омлет из двадцати яиц – такой и мертвого подымет. Я закрываю глаза и вижу ее на кухне: масло греется на сковородке, мама выливает туда все яйца, взбитые с сыром, чесноком и петрушкой. Запах такой сильный, что рот наполняется слюной.
– Эй, парень, – кондуктор трясет меня за плечо. – Ты меня слышишь?
Я поворачиваюсь и вижу: он вынул из промасленного пакета чириолу, которая так набита начинкой, что увеличилась почти вдвое.
– Ты спишь, что ли? Есть не хочешь? Тебе не нравится яичница с картошкой? – Не дожидаясь моего ответа, он делит чириолу и протягивает мне половину. – Вот держи.
Половина чириолы с начинкой из яичницы с картошкой? Это точно сон. Я не шевелюсь, боюсь, что лепешка исчезнет.
– Ну бери же, – повторяет он. – Она вкусная, честное слово. – И кондуктор откусывает от своей половины.
Меня не надо уговаривать. Я протягиваю руку, благодарю его и вгрызаюсь в хлеб с яичницей. И правда вкусно!
Я ем медленно, стараюсь растянуть свой кусок чириолы на подольше. А вот кондуктор съедает свой в четыре укуса и уже снова отрывает билетики. Через некоторое время он протягивает мне флягу с водой:
– На, попей.
Вот я и ем, и пью, а что, если мама тоже голодна и ее мучает жажда? От этой мысли хлеб у меня во рту горчит.
А как там папа? Удалось ли ему укрыться от немцев?
А мои братья и сестры? За них я беспокоюсь не так сильно. Они в руках Бетты, она умная и найдет решение в любой ситуации.
Трамвай снова трогается. Люди заходят и выходят, толкаются, наступают друг другу на ноги, ворчат и ссорятся – все как обычно. В гетто – горе, а в других районах Рима продолжается нормальная жизнь: женщины стараются раздобыть продукты, дети играют на улице, старики сидят под окнами и смотрят на прохожих, над головами летают самолеты, словно обещая: мы скоро отвоюем Италию и освободим вас.
Тем временем дождь закончился, вышло солнце, и на его фоне ветки деревьев выглядят еще темнее.
На Пьяцца Фьюме трамвай останавливается надолго.
– Когда поедем? – спрашивает один из пассажиров.
– Через десять минут, – отвечает кондуктор и поворачивается ко мне. – Пошли-ка дойдем до кустов. Небось хочешь?
И правда, я уже давно терплю.
Мы выходим из трамвая. Поворачиваем в узкую улочку и добираемся до садика.
– Иди вон за тот куст, – говорит кондуктор.
Сам он пристраивается под другим.
Этот кондуктор – ангел, которого мне послал Бог. Я надеюсь, что мама тоже встретит такого, ей ангел нужнее.
Когда мы возвращаемся в трамвай, кондуктор поправляет на мне шарф, усаживает на то же место и спрашивает у водителя:
– Когда поедем?
– Через пару минут.
Тогда кондуктор высовывается из двери и кричит людям на площади:
– Две минуты!
Когда мы снова останавливаемся у Пьяцца ди Монте-Савелло, немцы все еще грузят людей в грузовики. Уже за полдень, а они до сих пор не закончили. Со стороны моста Кваттро-Капи движется еще одна колонна пленников, окруженная солдатами. Там Самуэле! Сердце рвется у меня из груди. Я хорошо его знаю, иногда хожу к нему в лавку поболтать. Самуэле – прекрасный сапожник, может за секунду сделать тебе новые подметки или каблуки. Мост Кваттро-Капи соединяет гетто с островом Тиберина, а Самуэле живет недалеко от нас, на Виа деи Фунари. Что он делал по ту сторону Тибра? Ему удалось сбежать, но его поймали? Или кто-то сдал его?
Замерев, я слежу за тем, как мой друг идет, подволакивая ногу, будто раненый, пересекает улицу, направляется вместе с остальными к портику Октавии и исчезает. Может, я больше его никогда не увижу. Если немцы отправят его на принудительные работы, он не выдержит. Самуэле не привык к тяжелому труду, он делает изящные вещи с помощью клея, гвоздей, молотка и ножниц. Он никогда не держал в руках ни плуга, ни ружья, ни бомбы, его не могут послать на фронт сражаться с русскими. Он, как и я, ничего не желает знать про войну. Нам только хочется, чтобы нас оставили в покое, позволили жить с тем немногим, что у нас есть, и никого не трогать.
По моей щеке вновь ползет предательская слеза. Я сердито вытираю ее. Нельзя думать о плохом! Я обязательно еще приду к Самуэле в мастерскую, а он скажет: «Подай-ка мне “семечек”», и я передам ему маленькие гвоздики. «А теперь “семечкодер”» – и я протяну ему что-то вроде отвертки с отверстием на конце. «Возьми резак, помоги мне прогладить этот кусочек кожи»…
Кондуктор кладет мне руку на плечо и шепчет:
– Не двигайся.
В чем дело?
Он глазами указывает на группу эсэсовцев, собравшихся вокруг офицера. Тот смотрит в нашу сторону, что-то говорит, и двое солдат направляются к нам.
Мой первый порыв – вскочить, мамино «Беги!» стучит в голове. Но кондуктор не дает мне встать.
– Не двигайся! – повторяет он, потом закутывает меня в шарф, пряча половину лица.
Немцы быстро приближаются. Один в очках, у другого к поясу приторочена сумка. Они идут за мной, кто-то меня узнал, сказал им мое имя, теперь я тоже окажусь в грузовике, и мамина жертва будет напрасной.
Кондуктор дает мне машинку для компостирования билетиков.
– На, подержи.
Солдаты с ружьями наготове напоминают охотничьих собак, вынюхивающих добычу. Когда они останавливаются рядом, кажется, что мне под дых ударили железным кулаком. С машинкой в руках я смотрю на кондуктора, делая вид, что он мой отец, а тот протягивает мне пачку билетиков и говорит, словно сыну:
– Лоре, посчитай, сколько осталось. Да повнимательнее!
Долгие секунды я как будто под водой: исчезли звуки и цвета, я вижу только винтовку у своей груди, ремень униформы у лица, руку эсэсовца – почти у шеи.
Я не знаю, сколько времени прошло, несколько секунд или минут. Когда я вновь начинаю дышать, солдаты уже, миновав меня, обращаются к двум мужчинам впереди.
– Документы! – приказывает немец в очках.
Мужчины подчиняются, но без спешки: они не евреи, им нечего бояться. Они достают документы и показывают их двум эсэсовцам. Те внимательно изучают их паспорта, но потом возвращают и проверяют других пассажиров.
Наконец немцы высаживаются из трамвая, они недовольны, словно поставили не на ту лошадь на Палио[21]21
Палио – традиционные скачки в Сиене. Прим. пер.
[Закрыть]. Они подходят к офицеру, качают головами. Они что, ищут меня? Кто-то узнал меня и назвал им мое имя?
Я думаю о маме и словно умираю внутри. Даже если бы у нее были в кармане документы, что с того? Там написано, что ее зовут Вирджиния Пьяцца, что она родилась в Риме в 1906 году и что она еврейка.
Мне трудно дышать, горло сдавливает, я думаю об Аттилио. Что бы он сделал на моем месте?
Он бы сказал: «Будь мужчиной».
Я возвращаю машинку кондуктору, спускаю шарф с носа и рта и снова думаю о своей работе старьевщиком. Вспоминаю, как за десять лир я купил у вдовы пиджак ее мужа и перепродал его за сорок, выгодное получилось дело. Маме я отдал двадцать восемь, две оставил себе (одну на мороженое, одну на кино), а десять отложил, чтобы завтра что-то купить для перепродажи. Это значит быть мужчиной? Думать о практических вещах? Не поддаваться страху?
В два часа дня смена кондуктора заканчивается. Своему коллеге, который только заступает, он говорит:
– Присмотри за этим мальчуганом. Охраняй его.
Второй кондуктор тоже мне помогает. Он велит мне сидеть рядом, потом достает из сумки чириолу и отламывает мне половину. Пахнет яичницей с картошкой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!