Текст книги "За светом идущий"
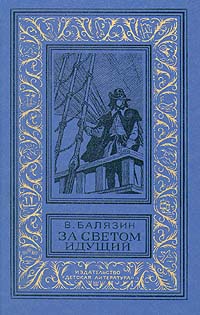
Автор книги: Владимир Балязин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава вторая
ВЛАДЫКА ВАРЛААМ
Вологодский архиепископ Варлаам узнал о содеянном юродами и божедомами, как только они вернулись в город. Крут был владыка и более всего ревновал, когда кто-либо нарушал его, архипастырскую, власть. Воеводы и наместники менялись в Вологде каждые три-четыре года, а он, владыка, правил своею епархией уже семнадцать лет. И не то было главное, что носил он сан архиепископа, выше которого в России было лишь несколько митрополитов и патриарх, а то, что был он и умен, и удачлив, и на патриаршем дворе вхож в любую дверь. Говаривали, что при надобности мог он тотчас же повидаться и с самим государем Михаилом Федоровичем.
И когда узнал Варлаам, что нищая братия учинила такое самовольство и дотла спалила избушку стрелецкой вдовицы Анкудиновой, то не медля повелел привести божедомов к себе, на владычный двор. А когда калеки и странницы уселись на землю у крыльца, Варлаам долго не выходил из палат и, даже когда пошел дождь, оставался в покоях. Однако виноватых и из-под дождя выпускать со двора не велел.
Владыка ходил по спаленной палате и вспоминал нечто давнее, лежащее где-то на дне души…
Годов восемь тому неизвестно от чего заболели у него глаза: опухли веки, слезы мешали читать и писать, больно было глядеть на свет. Никто не смог помочь владыке, даже оказавшийся нечаянно в Вологде аглицкий лекарь Джон Лервик. И тут келейник его, старец Геронтий, привел ко владыке стрелецкую вдову Соломониду, коя слыла изрядной умелицей, знавшей целительную силу кореньев, трав, листьев, камней и извести.
Вдовица внимательно оглядела глаза больного – покрасневшие и загноившиеся – и велела пробыть безотлучно две недели в темном покое, по три раза в день промывая глаза коричневым травяным настоем. На третий день Варлааму стало лучше, еще через десять дней болезнь прошла совсем. Варлаам хотел было выйти из темной комнаты вон, но решил прежде спросить о том лекарку.
Он вспомнил, как молодая, красивая вдова, войдя во тьму спаленной палаты, остановилась у порога, не то боясь споткнуться о что-нибудь, не то робея владыки. Варлаам взял Соломониду за руку – трепетную, горячую – и подвел к занавешенному холстиной окну. Откинув край занавеси, Соломонида повернула лицо больного к свету, и он почувствовал, как жаром обдало его всего, будто от рук вдовицы да от больших черных глаз пахнуло на него зноем.
Увидев в двух аршинах от себя прекрасное, зардевшееся от смущения лицо молодой женщины, Варлаам почувствовал, что и она испытывает нечто подобное. И Соломонида, хотя и должна была глядеть в глаза Варлааму – за тем ведь шла к нему, – отвела взор, опустила вниз голову, проговорила еле слышно: «Повремени, владыко, батюшко, еще четыре дни. Побудь еще во тьме тое время». Варлаам, уловив в словах лекарки, как ему показалось, некий сокровенный смысл, спросил осипшим от волнения голосом: «А через четыре дня придешь?» И она ответила: «Не знаю».
Через четыре дня она не пришла. Задетый за живое, архиепископ послал лекарке рубль денег и на словах передал благословение.
Того случая Варлаам не забыл. Вспоминая, испытывал и досаду – за то, что вдова более не пришла к нему, и благодарность – за то, что излечила его.
Когда владыка узнал, что с Соломонидой и ее сыном приключилась беда, то сразу же велел келейнику своему Геронтию согнать своевольных божедомов к крыльцу владычных палат.
Братия, сидя под дождем на голой земле, до костей промокла, изрядно замерзла, а оголодав, вконец приуныла.
Лишь близко к вечеру, когда убогие начали в голос плакать и причитать, Варлаам вышел к ним на крыльцо.
Стоя под дощатым навесом, он долго молчал, тяжело глядя на плачущих, копошащихся в грязи божедомов. Потом спросил тихо:
– Мирянам или же пастырям ведать дано, что есть колдовство?
– Пастырям! Пастырям! – закричали юроды. – Пастыри на то нам, убогим, от господа дадены, чтобы нас, неразумных, наставлять!
И, сообразив, что за сим должно последовать, божьи люди поползли в стороны, оставив сидеть насупротив владыки заводчиков и начальных людей сей смуты – Васю Железную Клюку и двух злосчастных странниц.
Варлаам, возвысив голос, сказал:
– А ежели вам ни богом, ни царем не дано судить, как же вы посмели пожечь у сирой вдовицы дом? Как посмели на такое воровство пойти и столь неистовый разбой учинить?
– Видение было, батюшко, милостивец, видение! – запричитали странницы, указуя на Васю.
– А отколе ведомо вам, скудные умом, что было юроду от господа видение? – спросил Варлаам грозно. – А не было ли то бесовским наваждением, а? И не от господа, но от диавола?
– Охти нам, несчастным! Наваждение! Истинно наваждение! – схватившись руками за головы, раскачиваясь, запричитали старухи.
– А теперь, – жестко произнес Варлаам, – слушайте, что я скажу. Завтра же поутру все, кто стрелецкой вдовицы Соломонидки избу палил, новую избу и строения ставить начнете. А пока то дело не кончите, ни на одну паперть пущать никого из вас не велю. А станете убожеством и бедностью отговариваться – велю воеводе всех вас в тюрьму метнуть да, в колодки забив, водить по базару, пока Соломонидке на избу денег не насобираете. А чтоб вами безвинно обиженная вдовица с мальчонкой не скиталась меж двор, вы мне Соломонидку беспременно завтра же сыщите. И пока избу ей не сладите, пусть она у меня на подворье с сынишкой своим поживет.
– Где же, милостивец, нам, убогим, ту женку отыскать? – застонали божедомы.
– Знали, как воровать, знайте и как ответ держать! – совсем уже грозно произнес владыка и, повернувшись резко, ушел в палаты.
Серым рваным комом выкатилась нищая братия со двора и стала промеж себя судить да рядить, как бы без особого для себя ущерба выполнить наказ владыки. Вася Железная Клюка – дурак, дурак, а сообразил: со всех, кто избу палил, поровну деньги собрать, а так как было их десятка три, то, ежели по гривне с каждого взять, будет три рубля. А за три рубля плотники вологодские не только избу с сараем – церковь сладят. Хотя после этого долго еще многие стенали: «Отколе же такие деньжищи взять, гривенник-то?» – каждый хорошо знал: поищи юроды у себя в кушаках да в кисах, не только гривенник – червонец найдут. Что же касается второго наказа владыки – немедля отыскать Тимошку с Соломонидой, – то сразу же нашлись люди, сообразившие, что найти их может либо учитель Тимошки, либо товарищ его – Костка, конюхов сын.
Поручив Васе Клюке собирать деньги и отправив двух главных виновниц, Авдотью да Аграфену, к Косте и отцу Варнаве, нищие расползлись по своим норам, проклиная Васю, странниц, собственное свое скудоумие и – тихо, с бережением – непреклонного вологодского архипастыря.
На другой день Вася Клюка спозаранку двинулся в обход нищей братии. Когда он появился у владычного собора, там сидели только те нищие, которые в поход на анкудиновский двор не ходили, а потому Васе ничего должны отнюдь не были. Вася, беспомощно оглядевшись, заплакал.
– Сколь верст до ведьминого двора? – вдруг спросил Васю безрукий стрелец Кузьма.
Вася перестал плакать. Разведя руками, сказал:
– Кто ж их ведает? Может, три версты, а может, четыре.
– Так ты теперь десять раз по четыре версты обежишь, покуда три рубля соберешь, – сказал Кузьма и захохотал. И вся нищая братия вслед за Кузьмой захохотала обидно.
И начались для Васи великие муки: божедомы попрятались кто куда, забившись в самые темные щели, будто тараканы в мороз. Как только Вася кого-нибудь из них отыскивал, то припертый к стенке соучастник вначале клялся страшными клятвами, божился и плакал что нет у него за душой даже и медной полушки, а вслед за тем начинал на Васю кричать, грозиться, выталкивать из конуры вон, обвиняя его во всем случившемся, и, наконец, давал Клюке копейку или две, а не десять, как было уговорено. А некие – наглые – давали лишь полушку.
Обойдя весь город, Вася посчитал собранные в кушаке деньги и снова заплакал.
Промучившись три ночи, Вася, добавив к собранным деньгам собственную полтину, пошел к плотницкому старосте Авдею торговаться насчет постройки избы и сарая. Всеконечно лукавя, Вася предложил Авдею рубль.
– За рубль ты, убогий человек, сам избу ставь, – ответил жадный Авдей и отвернул морду в сторону, показывая, что разговор окончен.
После долгих Васиных мольб Авдей согласился выполнить работу за два рубля с полтиною, и Вася, добавив еще шесть кровных алтын, вконец огорченный, ушел прочь.
Со старухами же, получившими наказ отыскать Соломониду с Тимошей, вышло так: отец Варнава, когда пришла к нему на кладбище странница Аграфена да стала выпытывать, куда подевались Тимошка с матерью, не ответил ничего, только засопел сильно и, взяв старуху за ворот ветхого шушуна, из сторожки своей выбил вон.
Аграфена упала в пыль и ужаснулась столь неуемной ярости слуги божьего, но, побежав, явственно слышала, как Варнава кричал, что если еще хотя одного божедома увидит возле своей церкви – прибьет посохом. И для пущей убедительности вслед старухе посохом помахал.
А ее товарка Авдотья долго отиралась возле владычных конюшен, пока, наконец, не увидела Костю. Подошедши к нему близко, странница поклонилась в пояс и сказала, что сам владыка послал ее, смиренную, проведать о том, где теперь скрывается известная ему Соломонида Анкудинова с сыном.
– А пошто владыке занадобились Соломонида с Тимошкой? – недобрым голосом спросил Костя.
– Хочет он, милостивец наш, Соломониду, убогую вдовицу, и сынка ее у себя приютить, пока его же, милостивца, соизволением не поставят им божедомы новую избу, – тихо, ласково прошелестела старуха.
Костя, представив, как хромые, слепые, горбатые и безрукие нищие строят избу, захохотал. А старуха, не поняв, отчего это только что злой, сумрачный вьюнош вдруг так развеселился, сначала испугалась, а потом слабым голосом стала подхихикивать, стыдливо прикрывая беззубый рот концом черного головного платка.
– Ладно, бабка, ежели узнаю, где безвинные люди от вас, лиходеев, хоронятся, то слова твои передам.
Глава третья
ЗМЕИНЫЙ УКУС
Через два дня Костя знакомыми тропинками пошел к Тимоше.
Шел он босиком, подходя к болоту, закатал порты выше колен и явился перед Анкудиновыми, как некий еллинский черт, по имени Сатир, коего видели они с Тимошей в одной из книг у отца Варнавы.
Узнав, что произошло в городе, Соломонида наотрез отказалась идти в Вологду.
– Никогда мне в той Вологде счастья не было, не будет и сейчас, а вы идите, – сказала она и, поджав губы, упрямо замолчала.
Тимошу и Костю пустили на владычный двор не враз. Сначала привратник долго расспрашивал их – кто такие, по какому делу идут в палаты, потом ушел и, вернувшись, Тимошу впустил, а Косте велел ждать за воротами.
Тимоша поднялся на высокое крыльцо, через просторные, высокие сени вошел в низкую тесную горенку домоправителя. Геронтий стоял у высокой конторки резного дерева и писал. Конторка показалась Тимоше необычайно красивой. Множество дверок ее были собраны из разных кусков дерева – желтых, коричневых, серых. На лицевой стороне конторки – по углам – были искусно вырезаны два древа, отягощенные диковинными плодами. Под одним древом стоял нагой муж – прародитель Адам – и, стыдливо склонив голову, глядел в сторону. Под другим древом стояла – нагая же – прародительница рода человеческого Ева и глядела вверх, на ветвь, кою обвил громадный змей, явившийся ей ради соблазна и погибели.
Геронтий, отложив перо в сторону, строго взглянул на мальчика. Тимоша увидел суровое лицо совсем уже старого человека. Длинные седые волосы и длинная же седая борода делали его похожим на праотца Ноя, коего видел Тимоша в Ветхом завете у учителя своего Варнавы. Одет Геронтий был в холщовый подрясник, из-под коего виднелись мужицкие лапти. Как только Геронтий поднял голову, Тимоша враз перевел глаза со змея на образ Спасителя и, перекрестясь, низко поклонился домоправителю.
– Чей будешь? – неприветливо спросил Геронтий.
– Тимофей Анкудинов, Демьянов сын, – ответил Тимоша, подумав, что, наверное, домоправитель и так знает, кто он таков.
– Грамоте обучен?
– Чтению, письму и цифири обучен отцом Варнавой, – ответил мальчик.
«То добро, – подумал Геронтий. – Варнава к чтению прилежен, не бражник и не лентяй».
– Пойдешь в пищики? – спросил он Тимошу.
Тимофей враз представил, как будет он, согнувшись, сидеть за столом в душной, пропахшей воском горнице домоправителя и без конца писать всякие бумаги. Тут же встали перед его глазами – ночное, костер, звезды над головой, ветер с реки, плещущиеся под берегом щуки, и, придав голосу своему кротость, сказал Тимоша тихо:
– Не столь изрядно грамотен я, господине, чтоб возле твоей милости в пищиках пребывать. Пусти меня, господине, на конюшенный двор, больно я до коней охоч. Стану там любую работу работать, лишь бы мне при конях быть.
Геронтий подумал: «Впрямь, однако, будет лучше, если малец сначала поработает при конюшне. Как, не зная, в дом человека пускать? А там верные люди за ним присмотрят, все как есть перескажут, и, если окажется прилежен да честен, отчего тогда и в дом не взять?» Решив, что этот резон выскажет он и Варлааму, если тот станет говорить, что надобно брать мальца в дом, сказал:
– Ну, ин быть по-твоему. Есть-пить будешь с конюхами и псарями, а жалованья тебе кладу в месяц полтора алтына. Иди с богом к Евдокиму да скажи, что я велел взять тебя к нему в работу.
Евдоким – отец Кости – определил Тимофея к табунку жеребят, где уже работал и Костя.
Четыре с половиной копейки в месяц, которые пообещал Геронтий Тимофею, нужно было отрабатывать честно. Однако не работа удручала Тимошу. Он сразу же заметил – и немало тому удивился, – что Евдоким, который до самого последнего дня относился к нему лучше, чем к родному сыну, враз переменился. Теперь для него что служащие при конюшне холопы, что новый подпасок были почти едины. Костю он и дома, и на конюшне часто под горячую руку бивал, а теперь и на Тимофея пару раз замахивался, придираясь по мелочам, и не порядка ради, а чтобы показать сопливцу данную ему власть. Тимофей же, увидев такую в Евдокиме перемену, старался реже попадаться ему на глаза и дело свое делал исправно.
Через две недели после того, как начал Тимофей свою службу на конюшне, артель плотников поставила в монастырской слободке сарай, баню и избу, а Соломонида по этому случаю пригласила гостей.
За новым столом, на новых лавках уселись отец Варнава, Евдоким с женой, Соломонида да Тимоша с Костей.
В тот день Соломонида, низко поклонившись, впервые налила сыну и его товарищу хмельного зелья, потому как стал сын добытчиком, определился к делу и перед приглашенными надлежало ему выглядеть хозяином: другого мужика в доме не было, а известно, что без хозяина и дом сирота.
Вино Тимоше не понравилось: было оно горькое, пахло прокисшим суслом и так ударило в голову, что в глазах поплыл туман, а в ушах – звон. Однако через некоторое время туман пропал, звон утих, а все тело приобрело какую-то легкость, будто собрался он взлететь. Сидящие за столом показались столь милыми сердцу, что каждого, даже слезливую Костину мать, захотелось расцеловать, а кроме того, появилось чувство, что вот он, Тимофей Анкудинов, Демьянов сын, и силен, и умен, и собою хорош.
Разговор за столом шел обо всем: о ценах на базаре, о нынешнем добром лете, что и тепло дает в изобилии, и дождями не оставляет, о том, как служится Тимоше у владыки, о многом прочем, что случилось в Вологде. Только о пожаре, что учинили божедомы, никто не сказал ни слова – зачем дурными воспоминаниями праздник портить?
Разошлись гости засветло – не пьяные, не трезвые, поблагодарив напоследок хозяйку за хлеб-соль.
Тимофей же лег на лавку и крепко заснул. А утром было ему так тяжело и скверно, как сроду не бывало: болела голова, тошнота подступала к горлу, во рту было столь пакостно, что и слов не подобрать. И не хотелось даже пальцем пошевелить, не то что на конюшню идти. Мать заметила все это, но ничего не сказала; дала испить квасу да сухую хлебную корку изрядно натерла хреном. Мерзкий вкус во рту хрен с квасом вроде бы и перебили, но ненадолго.
Встретившись на конюшенном дворе с другом, Тимофей узнал, что и Костя чувствует себя не лучше. В первый раз за все время оставили они стойла нечищеными: и у того и у другого вилы валились из рук, а хотелось только одного – скорее ускакать на речку и залечь в тени, под кустом, по очереди купая жеребят. Так они и сделали: подперли дверь жеребятника колом и уехали на речку. А приехав, загнали коней в воду и завалились под куст. Солнце еще не припекало, от реки тянуло прохладой, когда вдруг один из жеребят заржал так жалобно да пугливо, будто малое дитя заплакало. От крика этого Тимофей проснулся, а Костя продолжал спать, приоткрыв рот и широко раскинув руки. Тимофей увидел, как все жеребята враз бросились из реки вон, а один, по кличке Игрунок, тот, что заржал жалостно, подпрыгивал, будто ему перебили ногу. Жеребята, сбившись у самой воды тесной кучкой, со страхом косились на воду. А хромой жеребенок выскочил на ближний лужок и, низко опустив голову, стал что-то искать в траве.
Тимоша разбудил Костю и рассказал ему о случившемся.
– Сом, должно, – пробормотал плохо соображавший Костя. – Сам знаешь, какие в реке сомы водятся. Иной не то что жеребенка – коня с ног сшибет.
Однако вскоре жеребенок упал в траву и тихо лежал, подогнув левую переднюю ногу. Мальчики, присев возле него, стали ласкать Игрунка, а он вздрагивал испуганно, жалостно, и в глазах у него стояли слезы. И тут Костя заметил, что согнутая нога начала прямо на глазах быстро опухать и через какой-нибудь час стала в два раза толще правой.
– Змея! – воскликнул Костя. – Его укусила водяная змея! Гони табун домой, а я поведу Игрунка!
И мальчики, с трудом подняв жеребенка на ноги, лаская его и уговаривая, повели на конюшню.
Когда они загнали табун во двор, то увидели в дверях жеребятника домоправителя Геронтия, самого владыку и не знавшего, куда девать глаза, Евдокима.
– Явились, голуби, – прошипел Евдоким и так двинул сына по уху, что тот упал, но, мгновенно вскочив, по-заячьи порскнул за конюшню.
– Стойла не чищены, а вы купаться! – заорал Евдоким и вслед за тем влепил затрещину Тимоше.
Его никто ни разу не бил: мать была к нему постоянно добра, сверстникам же своим он никогда спуску не давал и из самых жестоких драк выходил победителем, потому что если вступал в драку, то ничего не видел и не помнил, знал только, что надо бить, бить и бить, пока противник не упадет или не побежит.
И на этот раз с Тимошей произошло то же самое: от обиды – не от удара – поплыли у него перед глазами огненные круги, и, не помня себя, он наотмашь ударил Евдокима. Ражему конюху удар Тимоши был все равно что комариный укус медведю. Однако то, что весь этот срам видел сам владыка и домоправитель, вконец разозлило Евдокима. Схватив Тимошку за шиворот, он крикнул псарям:
– А ну-ка накормите щенка березовой кашей, да погуще!
И псари тотчас же поволокли Тимофея в съезжую избу драть розгами. Он кричал, плакал от злости и обиды, изворачивался, как уж, но что он мог поделать с двумя дюжими мужиками?
А в то время как его драли розгами, спустив штаны, бросив на черную от засохшей крови колоду и сев верхом, Варлаам заметил, что один из жеребят хромает, и сразу же определил, что Игрунка укусила змея. Опухоль уже поднялась выше колена и подбиралась к груди.
– Вели позвать Соломонидку, – приказал владыка Геронтию. – Да пусть сразу скажут зачем. Чтоб была тут не мешкая со всем, чем надобно целить от змеиного укуса.
Соломонида пришла немедля. Она велела нагреть воды, и те же псари, которые только что драли Тимошу, быстро растопили печь и поставили на огонь медный котел. Соломонида бросила в воду какую-то траву и, присев возле лежащего на земле жеребенка, ловким, быстрым движением взрезала ножом кожу, пустив кровь. Затем она обмакнула в густой зеленоватый отвар чистую холстину и запеленала в нее опухшую ногу.
Евдоким, псари, Геронтий и сам владыка хмуро, но с интересом следили за всем, что делала ловкая лекарка.
Только сын ее не видел этого – он сидел в темной съезжей избе, забившись в угол, и плакал. Он клял Евдокима, холопов-псарей, клял владыку и Геронтия за то, что ни один из них и пальцем не пошевелил, чтоб спасти его от позора и боли. Наплакавшись, он стал думать: «А ведь когда Евдоким ударил меня, он еще не знал, что Игрунка укусила змея. Если б знал, вдвое или втрое всыпали бы мне холопы. А ну как сдохнет Игрунок, что тогда будет?» И аж сердце у него сжалось от жалости и страха, а в груди похолодело.
До самого вечера сидел он в съезжей, стыдясь показаться на глаза людям и матери. Вечером, пробравшись к жеребятнику, он крадучись вошел внутрь. Пахло вялыми травами, конским потом, прелой от мочи и навоза соломой. Жеребята сопели, тихо пофыркивали, терлись боками о стенки загонов. Тимоша нашел Игрунка и встал возле него на колени. Игрунок лежал на боку, подогнув ногу, и опасливо косился на мальчика круглым коричневым глазом. Тимоша нежно гладил жеребенка по шее, по крупу, когда вдруг услышал, как тихо скрипнула дверь. На пол лег желтый кружок света. «Евдоким, должно», – подумал Тимоша и затаил дыхание, не желая видеть обидчика. Круг света между тем приближался. Некто медленно и грузно шагал прямо к Игрунку в стойло. Тимофей глянул и обомлел: в черной рясе, простоволосый, шел по конюшне владыка.
Увидев мальчика, он поглядел в глаза ему и тихо произнес:
– Отодвинь-ко солому в сторону – светильник поставлю.
Легко коснувшись пальцами больной ноги жеребенка, владыка ласково потрепал Игрунка по холке и спросил:
– Как это он на змею-то наткнулся? А то тебя и товарища твоего так скоро в разные стороны унесло, что и узнать было не у кого.
– Купали мы их, а в реке змея, – буркнул Тимоша.
– Глядеть надо было лучше, затем и к коням приставлены. Змею в воде завсегда видно, – ответил Варлаам.
Тимоша промолчал.
– Горд ты очень и горяч, – после недолгого молчания проговорил владыка. – А ведь сказано: «Смирение паче гордости». Много ли гордецов вокруг себя видел?
– А то хорошо ли, владыко, что одне холопы кругом? – вопросом на вопрос ответил Тимоша.
– Где же это ты однех холопов узрел? Али и я холоп? – спросил Варлаам.
– Так ты таков на весь наш край один. Ты да еще, может, государев воевода, а опричь вас двоих – все холопы.
– И попа, и дворяне, и сотники, и люди купецкого звания – все холопы?
– А кто другому кланяется – тот и холоп. Тебе да воеводе всяк кланяется, всяк шапку ломит да руку целует, али то не холопство?
– Так ведь и я патриарху руку целую и государю в пояс кланяюсь, нешто и я холоп?
– Перед ними, выходит, и ты, – тихо проговорил Тимоша и от страха сжался: всяк ли год слышал подобное владыка? И от кого?
Архиепископ поднял с пола светильник и близко поднес его к лицу мальчика. Сощурившись, он долго глядел в глаза ему, а Тимоша, замерев, стоял перед Варлаамом на коленях как деревянный. Однако ж взгляда не отводил.
– Сколь годов тебе, Тимофей? – спросил Варлаам, и мальчик удивился, услышав от владыки свое имя.
– Тринадцатый пошел.
– Пошто не захотел к Геронтию в пищики идти?
– Волю люблю, коней люблю, оттого и не пошел.
– Зачем же грамоте учился?
– Сперва мать велела, а потом и сам я заимел к грамоте великую охоту. А нешто грамоту проходят, чтоб волю на неволю менять? – вдруг спросил Тимоша, и Варлаам, вздохнув, сказал:
– А был бы у Геронтия в пищиках, глядишь, и не был бы сегодня бит.
Последние слова показались Тимоше ох какими обидными!
– А я от тебя, владыка, уйду! – вдруг крикнул он. – Не смогу я с псарями, что били меня, за один стол сести.
– Куда ж пойдешь, Тимофей? Где ж это не бьют вашего брата? Али есть такая земля Офир? – тихо спросил архиепископ, отведя взор на огонь свечи. – Нет такой страны, Тимофей.
– А я найду. Не может того статься, чтоб такой страны не было. Я вольный человек, мне кругом дорога чиста, – снова с обидой и запальчивостью выкрикнул Тимоша. – На Дон пойду али на Волгу, к казакам пристану, нешто пропаду?
– То детские слова, Тимофей. Пять раз повяжут тебя, покуда до Дону добежишь. Как докажешь, что ты вольный человек, стрелецкий сын? И вместо казаков угодишь ты в холопы али в тюремные сидельцы. – Владыка встал и голосом властным проговорил недовольно: – Возьми фонарь, казак, да посвети мне, покуда я до палат дойду.
Молча перешли они двор, и лишь у самого крыльца Варлаам обернулся и произнес:
– Что ж, Тимофей, испытай судьбу, а надумаешь ко мне вернуться – ворота открыты. – И благословил: – Иди с богом.
К лесной избушке Тимоша подошел засветло. Открыл дверь и увидел: лежит на лавке парень, а у парня под глазом синяк величиной с медный рубль. «Костя!» – ахнул Тимоша и, подкравшись неслышно, над самым ухом Кости хлопнул в ладоши, как из пистоли выстрелил.
Костя вскочил, ошалело замотал головой, замахал руками, не понимая, где он и что с ним.
Тимоша от смеха сел на пол, утирая рукавом слезы. Беда вроде бы кончилась. Жизнь шла дальше.
До самого полудня проговорили Тимоша с Костей о том, как им быть дальше. Тимоша твердо решил – к владыке Варлааму не возвращаться, но и на Дон не бежать, а пойти к стародавнему отцову приятелю, стрелецкому сотнику Луке Дементьеву, и попросить замолвить слово перед воеводой князем Сумбуловым, чтобы взял его князь в службу. Друзья договорились, что Тимоша пойдет домой к Косте и скажет Евдокиму, что ежели он, Евдоким, даст верное слово, что сына своего не прибьет, то тогда Костя в дом вернется, если же слова не даст или, пообещав, нарушит, то Костя из дому сбежит и более никогда не вернется.
Лука встретил Тимошу настороженно и долго выспрашивал, чего это он надумал пойти в службу. Тимоша все ему рассказал, но главного Лука так и не понял: ежедень приходилось ему и в съезжую избу беглых холопов водить, где, допросив, били их батожьем или даже плетью, и тюремных сидельцев, забитых в колодки, по базару за милостыней водить, и на правеж татей и лиходеев едва не каждый понедельник ставить. На глазах у Луки столько народа было бито, драно, мучено, пытано, что никак он не мог взять в толк Тимошину обиду, однако слово за него замолвить обещал.
Затем Тимоша пошел к Евдокиму.
– С чем пожаловал? – спросил Евдоким и тут же с явной издевкой добавил: – Али за порчу жеребенка деньги принес?
– О жеребенке особь разговор, – буркнул Тимоша. – Я к тебе пришел от Кости. И говорю тебе верно: если ты его бить не перестанешь, уйдет он, а куда, то тебе знать не надобно.
От такой дерзости Евдоким лишился речи.
– Ах ты пащенок! Ах сопливец! Это как ты со старейшим себя разговариваешь! Да я и с него и с тебя по три шкуры спущу, ежели кого из вас в избе у себя увижу!
И Евдоким грозно на Тимошу двинулся, но тот, схватив стоявшую рядом железную кочергу, отступил на шаг и, ощерившись злобно – ни дать ни взять разноглазый волчонок, – прерывающимся от страха и окончательной решимости голосом сказал:
– Не подходи, зашибу!
Евдоким вдруг отступил к лавке и громко захохотал:
– Ты погляди, каков Васька Буслаев из сопливца возрос! – И, перестав смеяться, проговорил: – Я тебя, Тимофей, вместе с кочергой три раза узлом завяжу, да не в том дело. Ты мне никто. А явится Костка, быть ему биту. А не явится – пусть идет на свой хлеб. То слово мое последнее.
Костя, узнав о разговоре Тимоши с отцом, твердо решил домой не возвращаться. Подумав, что делать дальше, он пошел к брату матери, Ивану Бычкову, что жил в Обуховской слободе и слыл среди вологодских плотников первым умельцем.
Неделю назад Иван кончил работу – долгую и, как ему поначалу казалось, денежную: по заказу владыки он сладил деревянные часы – куранты, в которых железной была лишь одна аглицкая кружина, и те часы поставил на колокольне Софийского собора. Затем Иван срубил к часам указное колесо с цифирью и все это уставил в шатер. От механизма часов к одному из колоколов Иван протянул длинную рукоять с молотом на конце, и тот молот каждый час бил по колоколу, извещая вологжан о беге быстротечного времени, а более того призывая к утрене, литургии и вечерне, кои исправно и точно можно было отныне служить в первый, шестой и девятый часы после восхода солнца.
А то как было до того в Вологде? Поглядит звонарь на солнце и, перекрестясь, ударит в колокола. А если небо в тучах либо звонарь пьян? То дивятся на неурочный звон гражане, а многие и пугаются: вдруг татарове или же литва подступают к Вологде и не есть ли тот звон – набат?
Поначалу весьма многие вологжане дивились первому в городе часозвону, особливо же поражены были этим иноземные купцы, обретавшиеся о ту пору в городе. Один из купцов предложил владыке за часы пятьдесят рублей, но Варлаам в ответ только ухмыльнулся в бороду.
Иван же, получив, по слухам, целых десять рублей, вот уже неделю гулял в царевом кабаке, угощая плотников, бочаров, тележников и людей иного звания. А когда в государев кабак явился Костя, то Ивана едва признал: сидел его дядя во главе стола, от выпитого вина столь страшный, что встреть такого ночью – перекрестишься и трижды плюнешь, как от бесовского наваждения. Однако ум у Ивана еще не совсем отбило. Он племянника узнал и, поведя головой, указал ему сесть рядом. Питухи, что сидели за столом, никакого внимания на Костю не обратили. Целовальник поставил на мокрый и грязный стол новый штоф вина, и Иван дрожащей рукой налил зеленое зелье в две оловянные кружки: себе и Косте. Костя отпил глоток, сморщился, закашлялся и схватился за ендову с квасом. Дядя захохотал и спросил:
– Что, не сладко?
Костя, утирая выступившие от кашля слезы, ответил:
– А то сладко? – И тут же, ткнувшись дяде в плечо, зашептал горячо и быстро: – Дяденька, родненький, помоги мне отсель бежать. Дай на дорогу полтину денег, а я тебе семь гривен верну, как только в работу войду.
Иван чуть протрезвел. С трудом выговаривая слова, спросил:
– А куда бежишь и зачем? Везде одно и то ж. Я владыке и гражанам какой часозвон сладил, а? В немецких городах и то нет ему подобна. А мне за год работы да и за все умение мое – пять рублев, а говорит всем, что десять. А теперь у меня, брат Костка, и алтына нет. Вчерась последний извел. Вот это вино Мокей Силантьич мне в долг поднес.
Иван посмотрел в свою пустую кружку, допил одним глотком, что оставалось в кружке у Кости, и уронил голову на стол.
– Подойди ко мне, вьюнош, – вдруг услышал Костя тихий, вкрадчивый голос кабатчика Мокея Силантьевича.
Костя подошел к стойке и, глядя в маленькие выцветшие глазки целовальника, спросил:
– Пошто звал?
– Помочь тебе хочу.
– Много ли за помощь спросишь?
– Как бог даст.
– Ну, говори.
– Обещал я Кондратию Демьянычу да приказчику его Акакию Евлампиевичу верного человека в услужение присмотреть. А ты по кабакам не ходишь, отец твой тоже человек добрый, а яблоко, известно, от яблони недалеко падает. А к кому в услужение пойдешь – сам смекай.









































