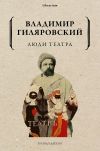Текст книги "Мои скитания"

Автор книги: Владимир Гиляровский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Владимир Гиляровский
Мои скитания

© Оформление А. О. Муравенко, 2024
© Издательство «Художественная литература», 2024

Между строк
Кто в Москве конца XIX – начала XX века не знал знаменитого дядю Гиляя, хранителя истории Москвы Владимира Гиляровского – легендарного репортера, журналиста, писателя, поэта, актера. Его называли знатоком московских трущоб и злачных мест, театров и трактиров, свидетелем жизни нищих и отверженных, а также великосветских аристократов.
Современники отзывались о Владимире Гиляровском как о человеке неукротимой энергии, деятельном, очень обаятельном и общительном. Он был несказанно хорош собой – атлетического телосложения, с милой улыбкой, с усами, как у Тараса Бульбы. Рассказывают, что в молодости он запросто мог свернуть железную кочергу в узел. Будучи уже пожилым человеком, он гнул двугривенные, закручивал серебряные ложки штопором, любил поиграть своими мускулами. В нем кипела непреодолимая сила, которую, казалось, ему некуда было деть. Кстати, с Гиляровского создавал Тараса Бульбу в барельефе на памятнике Гоголю знаменитый скульптор Андреев. И. Репин писал с него одного из своих персонажей в знаменитой картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» – столь колоритной внешностью обладал самый популярный криминальный корреспондент Москвы.
Восемнадцати лет от роду вологодский гимназист Владимир Гиляровский сбежал из-под отцовской опеки на Волгу и подался в бурлаки. Бурлацкая «аравушка» с радостью приняла его. Назвался он именем и отчеством своего отца – Алексеем Ивановичем, а прозвище ему дали бурлаки «Бешеный» за то, что к концу работы «совершенно пришел в силу и на отдыхе то на какую-нибудь сосну влезу, то вскарабкаюсь на обрыв, то за Волгу сплаваю, на руках пройду или тешу ватагу, откалывая сальто-мортале…»
Бродяжничество стало только началом скитальческой жизни Гиляровского. Кем он только не был! Где только не носило его по российским неоглядным просторам! Был вольноопределяющимся Нежинского пехотного полка, был юнкером в Москве, потом ушел со службы и подался в Астрахань, опять без паспорта, и быстро докатился до зимогора. Так в верхневолжских городах звали золоторотцев – опустившихся, обнищавших людей.
Обгорал на пожарах, замерзал до полусмерти на дальних проселках, объезжал лошадей в калмыцких степях, работал на белильном заводе, где люди гибли от свинцовой отравы, работал в цирке – всё хотел узнать, никто не толкал его на этот тяжкий путь, сам шел, своей волей брал у жизни суровые уроки, которые потом пригодились писателю, журналисту Владимиру Гиляровскому.
В 1875 году 22-летний Гиляровский стал актером. На сцене он звался сперва Луганским, а потом для большего щегольства стал именоваться Сологубом.
Талантливый человек во всем талантлив. По свидетельству товарищей по сцене, Владимир Сологуб, он же Владимир Гиляровский, был хорошим, разносторонним актером и имел немалый успех у публики.
В разгар актерской деятельности пришлось побывать ему на Турецкой войне, куда он отправился добровольцем и, благодаря беспокойному и авантюрному характеру, оказался на Кавказе среди охотников-пластунов (подразделения в Русской императорской армии для выполнения отдельных поручений, соединенных с опасностью и требующих личной находчивости), был во многих отчаянных переделках, за что и получил Георгиевский крест.
Навестив после окончания военных действий отца, 25-летний Гиляровский снова вернулся на сцену, на этот раз в Пензу, по приглашению самого Далматова, известнейшего в ту пору актера и антрепренера.
1881 год положил конец бродяжнической жизни Владимира Гиляровского. Он приехал в Москву для ангажемента, бродил по ее улицам, любовался Кремлем, получил службу в театре Бренко и решил, как отрезал, что Москва – лучшее место на земле.
Гиляровский обладал превосходным свойством быстро сходиться с самыми разнообразными людьми. Всюду у него были приятели и друзья. По свидетельству А. Куприна, он со всей Москвой общался на «ты». Был своим человеком среди обитателей знаменитого Хитрова рынка, которые видели в нем защитника и покровителя. Он запросто являлся в самые зловещие притоны, и никто не смел тронуть его пальцем. Он был желанным гостем в рабочих казармах, где его встречали как верного друга. Среди пожарных Гиляровский слыл первым храбрецом, ибо принимал деятельное участие в тушении пожаров. Про него говорили, что о происшествиях он знает раньше, чем они произойдут, и это было почти правдой, ибо личная агентура у него была огромная. Все помогали дяде Гиляю, и он помогал всем – сильный, радушный, добрый человек, у которого, как говорят, душа нараспашку.
Десятилетняя бродяжническая жизнь многое дала Гиляровскому. Как и Горький, он с полным правом мог сказать: вот мои университеты. Он увидел жизнь во всех ее проявлениях, познакомился со множеством людей во всех слоях общества, постиг душу народа. На самом дне он находил замечательные характеры, сильных умом и духом людей, из которых вышли бы прекрасные деятели в разных областях жизни, живи они в других социальных и общественных условиях.
Гиляровский В. А. начал печататься еще во время своих скитаний, но профессиональным литератором стал, поселившись в Москве. Около года писал статьи для различных периодических изданий. Гиляровский стал одним из лучших репортеров столичной прессы, его «коньком» были уголовная хроника и репортажи, он писал о самых заметных и нашумевших событиях, по праву заслужив звание «короля репортеров». Вершиной его журналистской деятельности стал очерк о Ходынской катастрофе 1896 г, где во время коронации Николая II в давке погибло множество людей.
О своей журналистской работе Гиляровский писал так: «Излюбленному газетному делу я отдал лучшие свои силы, лучшую часть своей жизни и самую длительную. Я увлекался работой живой, интересной, требующей сметки, смелости и неутомимости. Эта работа была как раз по мне. Бродячая жизнь, полная приключений, выработала во мне все необходимые качества для репортера. Я не знал страха, опасности, усталости. На мой взгляд, для такой работы у человека должно быть особенное призвание».
Глава первая
Детство
Ушкуйник и запорожец. Мать и бабушка. Азбука. В лесах дремучих. Вологда в 60-х годах. Политическая ссылка. Нигилисты и народники. Губернские власти. Аристократическое воспитание. Охота на медведя. Матрос Китаев. Гимназия. Цирк и театр. «Идиот». Учителя и сальто-мортале.
Бесконечные дремучие, девственные леса вологодские сливаются на севере с тундрой, берегом Ледовитого океана, на востоке, через Уральский хребет, с сибирской тайгой, которой, кажется, и конца-края нет, а на западе до моря тянутся леса да болота, болота да леса.
И одна главная дорога с юга на север, до Белого моря, до Архангельска – это Северная Двина. Дорога летняя. Зимняя дорога, по которой из Архангельска зимой рыбу возят, шла вдоль Двины, через села и деревни. Народ селился, конечно, ближе к пути, к рекам, а там, дальше глушь беспросветная да болота непролазные, диким зверем населенные… Да и народ такой же дикий блудился от рождения до веку в этих лесах… Недаром говорили:
– Вологжане в трех соснах заблудились.
И отвечали на это вологжане:
– Всяк заблудится! Сосна от сосны верст со сто, а меж соснами лесок строевой.
Родился я в лесном хуторе за Кубенским озером и часть детства своего провел в дремучих домшинских лесах, где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки стаями волочатся.
В Домшине пробегала через леса дремучие быстрая речонка Тошня, а за ней, среди вековых лесов, болота. А за этими болотами скиты раскольничьи[1]1
Люди древнего благочестия — звали они себя. (Все подстрочные примечания принадлежат автору.)
[Закрыть], куда доступ был только зимой, по тайным нарубкам на деревьях, которые чужому и не приметить, а летом на шестах пробираться приходилось, да и то в знакомых местах, а то попадешь в болотное окно, сразу провалишься – и конец. А то чуть с кочки оступишься – тина засосет, не выпустит кверху человека и затянет.
На шестах пробирались. Подойдешь к болоту в сопровождении своего, знаемого человека, а он откуда-то из-под кореньев шесты трехсаженные несет.
Возьмешь два шеста, просунешь по пути следования по болоту один шест, а потом параллельно ему, на аршин расстояния – другой, станешь на четвереньки – ногами на одном шесте, а руками на другом – и ползешь боком вперед, передвигаешь ноги по одному шесту и руки, иногда по локоть в воде, по другому. Дойдешь до конца шестов – на одном стоишь, а другой вперед двигаешь. И это был единственный путь в раскольничьи скиты, где уж очень хорошими пряниками горячими с сотовым медом угощала меня мать Манефа.
Разбросаны эти скиты были за болотами на высоких местах, красной сосной поросших. Когда они появились – никто и не помнил, а старики и старухи были в них здесь родившиеся и никуда больше не ходившие… В белых рубахах, в лаптях. Волосы подстрижены спереди челкой, а на затылке круглые проплешины до кожи выстрижены – «гуменышко» – называли они это остриженное место. Бороды у них косматые, никогда их ножницы не касались – и ногти на ногах и руках черные да заскорузлые, вокруг пальцев закрюченные, отроду не стриглись.
А потому, что они веровали, что рай находится на высокой горе и после смерти надо карабкаться вверх, чтобы до него добраться, – а тут ногти-то и нужны[2]2
Легенды искания рая с 12-го века.
[Закрыть].
Так все веровали, и никто не стриг ногтей.
Чистота в избах была удивительная. Освещение – лучина в светце. По вечерам женщины сидят на лавках, прядут «куделю» и поют духовные стихи. Посуда своей работы, деревянная и глиняная. Но чашка и ложка была у каждого своя, и если кто-нибудь посторонний, не их веры, поел из чашки или попил от ковша, то она считалась поганой, «обмирщенной» и пряталась отдельно.
Я раза три был у матери Манефы – ее сын Трефилий Спиридоньевич был другом моего «дядьки», беглого матроса, старика Китаева, который и водил меня в этот скит…
– Смотаемся в поморский волок, – скажет, бывало, он мне, и я радовался.
Волок – другого слова у древних раскольников для леса не было. Лес – они называли бревна да доски.
Да и вообще в те времена и крестьяне так говорили. Бывало, спросишь:
– Далеко ли до Ватланова?
– Волок да волок – да Ватланово.
– Волок да волок – да Вологда.
Это значит, надо пройти лес, потом поле и деревушку, а за ней опять лес, опять волок.
Откуда это слово – а это слово самое что ни на есть древнее. В древней Руси назывались так сухие пути, соединяющие две водные системы, где товары, а иногда и лодки переволакивали от реки до реки.
Но в Вологодской губернии тогда каждый лес звался волоком. Да и верно: взять хоть поморский этот скит, куда ни на какой телеге не проедешь, а через болота всякий груз приходилось на себе волочь или на волокушах – нечто вроде саней, без полозьев, из мелких деревьев. Нарубят, свяжут за комли, а на верхушки, которые не затонут, груз кладут. Вот это и волок.
– Не бегай в волок, волк в волоке, – говорят ребятишкам.
Вологда. Корень этого слова, думаю, волок и только волок.
Вологда существовала еще до основания Москвы – это известно по истории. Она была основана выходцами из Новгорода. А почему названа Вологда – рисуется мне так.
Было на месте настоящего города тогда поселеньице, где жили новгородцы, которое, может быть, и названия не имело. И вернулся непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец и рассказывает, как туда добраться.
– Волок да волок, волок да волок, а там и жилье.
И невольно останется в памяти слушающего музыка слов, и безымянное жилье стало: – Вологда.
– Волок да волок…
* * *
Родился я в глухих Сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса семинарии был помощником управляющего лесным имением графа Олсуфьева, а управляющим был черноморский казак Петро Иванович Усатый, в 40-х годах променявший кубанские плавни на леса севера и одновременно фамилию Усатый на Мусатов, так, по крайней мере, адресовали ему письма из барской конторы, между тем как на письмах с Кубани значилось Усатому. Его отец, запорожец, после разгрома Сечи в 1775 г. Екатериной ушел на Кубань, где обзавелся семейством и где вырос Петр Иванович, участвовавший в покорении Кавказа. С Кубани сюда он прибыл с женой и малолетней дочкой к Олсуфьеву, тоже участнику кавказских войн. Отец мой, новгородец с Белоозера, через год после службы в имении женился на шестнадцатилетней дочери его Надежде Петровне.
Наша семья жила очень дружно. Отец и дед были завзятые охотники и рыболовы, первые медвежатники на всю округу, в одиночку с рогатиной ходили на медведя. Дед чуть не саженного роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисьей, домоткацкого сукна чамарки[3]3
старинная одежда типа сюртука или казакина (ред.).
[Закрыть] и грубой свитки, которая была так широка, что ею можно было покрыть лошадь с ногами и головой.
Моя бабушка, Прасковья Борисовна, и моя мать, Надежда Петровна, сидя по вечерам за работой, причем мама вышивала, а бабушка плела кружева, пели казачьи песни, а мама иногда читала вслух Пушкина и Лермонтова. Она и сама писала стихи. У нее была сафьянная тетрадка со стихами, которую после ее кончины так и не нашли, а при жизни она ее никому не показывала и читала только, когда мы были втроем. Может быть, она сожгла ее во время болезни? Я хорошо помню одно из стихотворений про звездочку, которая упала с неба и погибла на земле.
Дед мой любил слушать Пушкина и особенно Рылеева, тетрадка со стихами которого, тогда запрещенными, была у отца с семинарских времен. Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говаривал, что Димитрий Самозванец был действительно запорожский казак и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков.
Бежал в сечь запорожскую,
Владеть конем и саблей научился…
Бывало, читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, всю ее закроет ладонью и скажет:
– Верно! – И начнет свой рассказ о запорожцах. Много лет спустя, будучи на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов, я слыхал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи Лжедимитрия: когда на коронацию Димитрия, рассказывали старики кубанцы, прибыли наши запорожцы почетными гостями, то их расположили возле самого Красного крыльца, откуда выходил царь. Ему подвели коня, а рядом поставили скамейку, с которой царь, поддерживаемый боярами, должен был садиться.
– Вышел царь. Мы глядим на него и шепчемся, – рассказывали депутаты своим детям.
– Знакомое лицо и ухватка. Где-то мы его видали…
Спустился царь с крыльца, отмахнул рукой бояр, пнул скамейку, положил руку на холку да прямо, без стремени, прыг в седло – и как врос.
И все разом:
– Це наш Грицко!
А он мигнул нам: помалкивай, мол. Да и поехал.
И вспомнил я тогда на войне моего деда, и вспоминаю я сейчас слова старого казака и привожу их дословно. Впоследствии этот рассказ подтвердил мне знаменитый кубанец Степан Кухаренко.
* * *
Учиться читать я начал лет пяти. Дед добыл откуда-то азбуку, которую я помню и сейчас до мелочей. Каждая буква была с рисунком во всю страницу, и каждый рисунок изображал непременно разносчика: А (тогда написано было «аз») – апельсины. Стоит малый в поддевке с лотком апельсинов на голове. Буки – торговец блинами, Веди – ветчина, мужик с окороком, и т. д. На некоторых страницах три буквы на одной. Например: У, Ферт и Хер – изображен торговец в шляпе гречневиком с корзиной и подпись: «У меня Французские Хлебы». Далее следуют страницы складов: Буки-Аз – ба, Веди-Аз – ва, Глаголь-Аз – га. А еще далее нравоучительное изречение вроде следующего:
«Перед особами высшего нас состояния должно показывать, что чувствуешь к ним почтение, а с низшими надо обходиться особенно кротко и дружелюбно, ибо ничто так не отвращает от нас других, как грубое обхождение».
В конце книги молитвы, заповеди и краткая священная история с картинками. Особенно эффектен дьявол с рогами, копытами и козлиной бородой, летящий вверх тормашками с горы в преисподнюю.
Вскоре купил мне дед на сельской ярмарке другую азбуку которая была еще интереснее. У первой буквы А изображен мужик, ведущий на веревке козу, и подпись: «Аз. Антон козу ведет».
Дальше под буквой Д изображено дерево, в ствол которого вставлен желоб, и по желобу течет струей в бочку жидкость. Подписано: «Добро. Деревянное масло».
Под буквой С – пальмовый лес, луна, показывающая, что дело происходит ночью, и на переднем плане спит стоя, прислонясь к дереву, огромный слон, с хоботом и клыками, как и быть должно слону, а внизу два голых негра ручной пилой подпиливают пальму у корня, а за ними десяток негров с веревками и крючьями. Под картиной объяснение: «Слово. Слон, величайшее из животных, но столь неуклюжее, что не может ложиться и спит стоя, прислонясь к дереву, отчего и называется слон. Этим пользуются дикие люди, которые подпиливают дерево, слон падает и не может встать, тут дикари связывают его веревками и берут».
Дальше в этой книге, обильной картинками, также священная история.
На горе Арарат стоит ковчег в виде огромной барки, из которой Ной выгоняет длинной палкой всевозможных животных от верблюда до обезьян.
Помнится еще картинка: облака, а по ним на паре рысаков в развевающихся одеждах мчится, стоя на колеснице, Илья пророк… Далее берег моря, наполовину из воды высунулся кит, а из его пасти весело вылезает пророк Иона.
Хорошо помню, что одна из этих азбук была напечатана в Москве, имела синюю обложку, а вторая – красную с изображением восходящего солнца.
Потом меня стала учить читать мать по хрестоматии Галахова, заучивать стихотворения и писать с прописи, тоже нравоучительного содержания.
Других азбук тогда не было, и надо полагать, что Лев Толстой, Тургенев и Чернышевский учились тоже по этим азбукам.
* * *
Отец вскоре получил место чиновника в губернском правлении, пришлось переезжать в Вологду, а бабушка и дед не захотели жить в лесу одни и тоже переехали с нами. У деда были скоплены небольшие средства. Это было за год до объявления воли во время крепостного права. Крестьяне устроили нам трогательные проводы, потому что дед и отец пользовались особенной любовью. За все время управления дедом глухим лесным имением, где даже барского дома не было, никто не был телесно наказан, никто не был обижен, хотя кругом свистали розги, и управляющими, особенно из немцев, без очереди сдавались люди в солдаты, а то и в Сибирь ссылались. Здесь в нашу глушь не показывались даже местные власти, а сами помещики ограничивались получением оброка да съестных припасов и дичи к рождеству, а сами и в глаза не видали своего имения, в котором дед был полным властелином и, воспитанный волей казачьей, не признавал крепостного права: жили по-казачьи, запросто и без чинов.
В Вологде мы жили на Калашной улице в доме купца Крылова, которого звали Василием Ивановичем. И это я помню только потому, что он бывал именинник под новый год и в первый раз рождественскую елку я увидел у него. На лето мы уезжали с матерью и дедом в имение «Светелки», принадлежащее Наталии Александровне Назимовой.
Она была, как все говорили в Вологде, нигилистка, ходила стриженая и дружила с нигилистами. «Светелки» – крохотное именьице в домшинских непроходимых лесах, тянущихся чуть ли не до Белого моря, стояло на берегу лесной речки Тошни, за которой ютились раскольничьи скиты, куда добраться можно только было по затесам, меткам на деревьях.
Назимова, дочь генерала, была родственница исправника Беляева и родственница Разнатовских, родовитых дворян, отец которых был когда-то другом и сослуживцем Сперанского и занимал важное место в Петербурге. Он за несколько лет до моего рождения умер, а семья переселилась в Вологду, где у них было имение. Несмотря на родственные связи, все-таки Назимовой пришлось эмигрировать в Швейцарию вместе с доктором Коробовым, жившим в Вологде под строжайшим надзором властей. С тех пор ни она, ни Коробов в Вологде не бывали. В это время умерла моя бабка, а вскоре затем, когда мне минуло восемь лет, и моя мать, после сильной простуды.
Мы продолжали жить в той же квартире с дедом и отцом, а на лето опять уезжали в «Светелки», где я и дед пропадали на охоте, где дичи всякой было невероятное количество, а подальше, к скитам, медведи, как говорил дед, пешком ходили. В «Светелках» у нас жил тогда и беглый матрос Китаев, мой воспитатель, знаменитый охотник, друг отца и деда с давних времен. Еще при жизни матери отец подарил мне настоящее небольшое ружье мелкого калибра заграничной фабрики с золотой насечкой, дальнобойное и верное. Отец получил ружье для меня от Н. Д. Неелова, старика, постоянно жившего в Вологде в своем большом барском доме, наискось от нашей квартиры. Я бывал у него с отцом и хорошо помню его кабинет в антресолях с библиотечными шкафами красного дерева, наполненными иностранными книгами, о которых я после уже узнал, что все они были масонские и что сам Неелов, долго живший за границей, был масон. Он умер в конце 60-х годов столетним стариком, ни у кого не бывал и никого, кроме моего отца и помещика Межакова, своего друга, охотника и собачника, не принимал у себя, и все время читал старые книги, сидя в своем кресле в кабинете.
На охоту в «Светелки» приезжал и родственник Назимовой, Николай Разнатовский, отставной гусар, удалец и страстный охотник. Он меня обучал верховой езде и возил в имение своей жены, помнится, «Несвойское», где были прекрасные конюшни и много собак. Его жена, Наталья Васильевна, урожденная Буланина, тоже любила охоту и была наездницей. Носились мы как безумные по полям да лугам – плетень не плетень, ров не ров – вдвоем с тетенькой, лихо сидевшей на казачьем седле – дамских седел не признавала, – она на своем арабе Неджеде, а я на дядином стиплере Огоньке. Николай Ильич еще приезжал в город на день или на два, а Наталья Васильевна никогда: уж слишком большое внимание всего города привлекала она. Красавица в полном смысле этого слова, стройная, с энергичными движениями и глубокими карими глазами, иногда сверкавшими блеском изумруда. На левой щеке, пониже глаза на матово-бронзовой коже темнело правильно очерченное в виде мышки, небольшое пятнышко, покрытое серенькой шерсткой.
Но главной причиной городских разговоров было ее правое ухо, раздвоенное в верхней части, будто кусочек его аккуратно вырезан. Историю этого уха знала вся Вологда и знал Петербург.
Николай Ильич Разнатовский поссорился с женой при гостях, в числе которых была тетка моей мачехи, только кончившая институт и собиравшаяся уезжать из Петербурга в Вологду.
Она так рассказывала об этом.
– После обеда мы пили кофе в кабинете. Коля вспылил на Натали, вскочил из-за стола, выхватил пистолет и показал жене.
– Стреляй! Ну, стреляй! – поднялась со стула Натали, сверкая глазами, и застыла в выжидательной позе.
Грянул выстрел. Звякнула разбитая ваза, мы замерли от страшной неожиданности. Кто-то в испуге крикнул «доктора», входивший лакей что-то уронил и выбежал из двери…
– Не надо доктора! Я только ухо поцарапал, – и Коля бросился к жене, подавая ей со стола салфетку.
А она, весело улыбаясь, зажала окровавленное ухо салфеткой, а другой рукой обняла мужа и сказала:
– Я, милый Коля, больше не буду! – И супруги расцеловались.
Что значило это «не буду», так до сих пор никто и не знает. Дело разбиралось в Петербургском окружном суде, пускали по билетам. Натали показала, что она, веря в искусство мужа, сама предложила стрелять в нее, и Коля заявил, что стрелял наверняка, именно желая отстрелить кончик уха.
Защитник потребовал, чтобы суд проверил искусство подсудимого, и действительно был сделан перерыв, назначена экспертиза, и Коля на расстоянии десяти шагов всадил четыре пули в четырех тузов, которые держать в руках вызвалась Натали, но ее предложение было отклонено. Такая легенда ходила в городе.
Суд оправдал дядю, он вышел в отставку, супруги поселились в вологодском имении, вот тогда-то я у них и бывал.
Когда отец мой женился на Марье Ильиничне Разнатовской, жизнь моя перевернулась. Умер мой дед, и по летам я жил в Деревеньке, небольшой усадьбе моей новой бабушки Марфы Яковлевны Разнатовской, добродушнейшей полной старушки, совсем непохожей на важную помещицу-барыню. Она любила хорошо поесть и целое лето проводила со своими дворовыми, еще так недавно бывшими крепостными, варила варенья, соленья и разные вкусные заготовки на зиму. Воза банок отправлялись в Вологду. Бывшие крепостные не желали оставлять старую барыню, и всех их ей пришлось одевать и кормить до самой смерти. Туда же после смерти моего деда поселился и Китаев. Это был мой дядька, развивавший меня физически. Он учил меня лазить по деревьям, обучал плаванию, гимнастике и тем стремительным приемам, которыми я побеждал не только сверстников, а и великовозрастных.
– Храни тайно. Никому не показывай приемов, а то они силу потеряют, – наставлял меня Китаев, и я слушал его.
Но о нем будет речь особо.
* * *
Итак, со смертью моей матери перевернулась моя жизнь. Моя мачеха, добрая, воспитанная и ласковая, полюбила меня действительно как сына и занялась моим воспитанием, отучая меня от дикости первобытных привычек. С первых же дней посадила меня за французский учебник, кормя в это время конфетами. Я скоро осилил эту премудрость и, подготовленный, поступил в первый класс гимназии, но «светские» манеры после моего гувернера Китаева долго мне не давались, хотя я уже говорил по-французски. Особенно это почувствовалось в то время, когда отец с матерью уехали года на два в город Никольск на новую службу по судебному ведомству, а я переселился в семью Разнатовских. Вот тут-то мне досталось от двух сестер матери, институток: и сел не так, и встал не так, и ешь, как мужик! Допекали меня милые тетеньки. Как-то летом, у бабушки в усадьбе, младшая Разнатовская, Катя, которую все звали красавицей, оставила меня без последнего блюда. Обедаем. Сама бабушка Марфа Яковлевна, две тетеньки, я и призреваемая дама, важная и деревянная, Матильда Ивановна, сидевшая справа от меня, а слева красавица Катя. По обыкновению та и другая то и дело пияли меня: не ешь с ножа, и не ломай хлеб на скатерть, и ложку не держи, как мужик… За столом прислуживал бывший крепостной, одновременно и повар, и столовый лакей, плешивый Афраф. Какое это имя и было ли у него другое – я не знаю. В кухне его звали Афрафий Петрович. Афраф, стройный, с седыми баками, в коломенковой ливрее, чистый и вылощенный, никогда ни слова не говорил за столом, а только мастерски подавал кушанья и убирал из-под носу тарелки иногда с недоеденным вкусным куском, так что я при приближении бесшумного Афрафа оглядывался и запихивал в рот огромный последний кусок, что вызывало шипение тетенек и сравнение меня то с собакой, то с крокодилом. Бабушка была глуховата, не слышала их замечания, а когда слышала, заступалась за меня и увещевала по-французски тетенек.
Вот съели суп. Подали отбивные телячьи котлеты с зеленым горошком… Поставили огромное блюдо душистой малины, мелкий сахар в вазах и два хрустальных кувшина с взбитыми сливками – мое самое любимое лакомство. Я старался около котлеты, отрезая от кости кусочки мяса, так как глодать кость за столом не полагалось. Я не заметил, как бесшумный Афраф стал убирать тарелки, и его рука в нитяной перчатке уже потянулась за моей, а горошек я еще не трогал, оставив его, как лакомство, и когда рука Афрафа простерлась над тарелкой, я ухватил десертную ложку, приготовленную для малины, помог пальцами захватить в нее горошек и благополучно отправил его в рот, уронив два стручка на скатерть. Ловко убрав упавший стручок, Афраф поставил передо мной глубокую расписанную тарелку для малины, а тетенька ему:
– Афраф, переверните тарелку Владимиру Алексеевичу, он оставлен без сладкого блюда, – и рука Афрафа перевернула вверх дном тарелку, а ложку, только что положенную мной на скатерть, он убрал.
Я замер на минуту, затем вскочил со стула, перевернулся задом к столу и с размаха хлюпнул на перевернутую тарелку, которая разлетелась вдребезги, и под вопли и крики тетенек выскочил через балкон в сад и убежал в малинник, где досыта наелся душистой малины под крики звавших меня тетенек… Я вернулся поздно ночью, а наутро надо мной тетеньки затеяли экзекуцию и присутствовали при порке, которую совершали надо мной, надо сказать, очень нежно, старый Афраф и мой друг – кучер Ванька Брязгин.
Защитником моим был Николай Разнатовский, иногда наезжавший из имения, да живший вместе с нами его брат, Семен Ильич, служивший на телеграфе, простой, милый человек, а во время каникул – третий брат, Саша Разнатовский, студент Петербургского университета; тот прямо подружился со мной, гимназистом 2-го класса.
С гимназией иногда у меня бывали нелады: все хорошо, да математика давалась плохо, из-за нее приходилось оставаться на второй год в классах. Еще со второго класса я увлекся цирком и за две зимы стал недурным акробатом и наездником. Конечно, и это отозвалось на занятиях, но уследить за мной было некому. Во время приезда Саши Разнатовского, он репетировал меня, но в конце концов исчез бесследно. Было известно, что он тоже замешан в политику и в один прекрасный день он уехал в Петербург и провалился как сквозь землю – никакие розыски не помогли. В семье Разнатовских, по крайней мере при мне, с тех пор не упоминали имени Саши, а ссыльный Николай Михайлович Васильев, мой репетитор, говорил, что Саша бежал за границу и переменил имя. И до сих пор я не знаю, куда девался Саша Разнатовский.
* * *
В это время Вологда была полна политическими ссыльными. Здесь были и по делу Чернышевского, и «Молодой России», и нигилисты, и народники. Всех их звали обыватели одним словом «нигилисты». Были здесь тогда П. Л. Лавров и Н. В. Шелгунов, первого, впрочем, скоро выслали из Вологды в уездный городишко Грязовец, откуда ему при помощи богатого помещика Н. А. Кудрявого был устроен благополучный побег в Швейцарию. Дом Кудрявого был как раз против окон гимназии, и во флигеле этого дома жили ссыльные, к которым очень благоволила семья Кудрявых, а жена Кудрявого, Мария Федоровна, покровительствовала им открыто, и на ее вечерах, среди губернской знати, обязательно присутствовали важнейшие из ссыльных.
Вообще тогда отношение к политическим во всех слоях общества было самое дружественное, а ссыльным полякам, которых после польского восстания 1863 года было наслано много, покровительствовал сам губернатор, заядлый поляк Станислав Фомич Хоминский. Ради них ему приходилось волей-неволей покровительствовать и русским политическим.
Ходили нигилисты в пледах, очках обязательно и широкополых шляпах, а народники – в красных рубахах, поддевках, смазных сапогах, также носили очки синие или дымчатые, и тоже длинные, по плечам, волосы. И те и другие были обязательно вооружены самодельными дубинами – лучшими считались можжевеловые, которые добывали в дремучих домшинских лесах. Нигилистки коротко стриглись, носили такие же очки, красные рубахи-косоворотки, короткие черные юбки и черные маленькие шляпки, вроде кучерских.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?