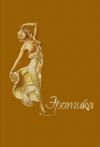Текст книги "Дело об инженерском городе (сборник)"

Автор книги: Владислав Отрошенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Поп Васёк был совсем не таким попом, какие служили в Войсковом соборе. Там они были важными, грозными, с длинными плоскими бородами по живот. У попа Васька борода была маленькая и такая же круглая, как и весь он сам. Он не то что охотно, а даже азартно играл в айданы со мной и Володей – сыном бабушки Наты, моим двоюродным дядей, который был старше меня всего на два года, – и с нашими друзьями Родей и Андреем. Иногда Васёк выигрывал у нас подчистую все айданы – такие маленькие квадратные косточки из коленки овцы. Их нужно ставить рядком на кон – в прямоугольник, начерченный на земле, – и сбивать с расстояния десяти шагов байбаком – точно такой же косточкой, но покрупнее. Если байбак после удара становится на бок, – это называется арцо, – то можно повторить удар с гораздо меньшего расстояния, оттуда, где выпало арцо. У попа Васька байбак беспрестанно арчил, и поэтому он не метил им в кон, а просто гнался – подбрасывал байбак вплотную к кону, а потом сбивал им все айданы, закрутив его пальцами, запустив по земле волчком. Обыгрывал нас и уходил, очень довольный, улыбающийся. Да еще поучал: «Вот так надо играть в игру ваших пращуров, отроки никчемные!»
Говорить с попом Васьком можно было о чем угодно: о рыбках, о марках, о телескопе, о луне, о Боге – существует Он или нет?
– Существует, существует, – отвечал поп Васёк очень буднично (гораздо торжественней он объявлял: «Гонюсь!» – подбрасывая к кону непобедимый айдан). – И Бог существует, и Его Сын, и Богоматерь, и апостолы… У меня арцо, отроки!
– А попадья? – спрашивал кто-нибудь.
– Что попадья?
– Попадья существует?
– Я вот те дам попадью, сукин сын! Я вот те холку сейчас так обрею!
Только про попадью и нельзя было говорить с попом Васьком.
Попадью никто никогда не видел, и поэтому ее воображали, какой угодно. Одни говорили, что она старая, уродливая: все лицо в бородавках и жестких волосьях. Другие утверждали, что она страшно юная, тонкая и лицом необыкновенно красивая, но есть у нее острый горб на спине.
– Да, красивая, но не тонкая и не горбатая, а огромная… Задница у нее вот такая! – возражал на это Володя, возражал и больше не вступал в спор; молча смотрел куда-то перед собою, остановив у пухлой румяной щеки раскуренную сигаретку, и видно было, как в его светлых, мечтательно умных глазах все разрастается и разрастается эта выдуманная им задница: одна половинка – как весь поп Васёк.
Вот об этом-то – существует попадья или нет – я и думал в тот день, когда мне удалось проникнуть незамеченным за чугунную ограду, которая охватывала скобой Александровскую церковь. Само это пространство за оградой, застывшее, сумрачное, пропитанное запахом плесневеющих кирпичей и затопленное сонной тишиной, манило меня своей непричастностью к окрестному подвижному миру. Меня манило там все – и гранитные плиты у церковной стены, покрытые длинными надписями на неведомом мне языке; и низкий, кое-как заколоченный гнилыми досками дверной проем в стене, через который можно было забраться в церковный подвал; и валявшиеся под деревьями, вросшие в землю колокола; и дом попа Васька, узкий, длинный, в тяжелой лепнине над окнами, закрытыми наглухо днем и ночью, зимой и летом деревянными ставнями, которые притягивали мой взгляд так же властно, как закрытые выпуклые глаза и желтое лицо деда Корнея, когда того однажды вынесли на улицу в глубоком гробу… Но больше всего меня манила огромная тютина, что росла за оградой у самой церкви, дотягиваясь верхними ветвями до высокого арочного окна, где в железной раме еще торчали осколки разноцветных стекол. Ни на одной тютине в округе нельзя было найти таких ягод – белого налива, – как на этой. Они были сочными, нестерпимо сладкими, тучными – некоторые не уступали величиною грецкому ореху. Но добраться до этих вожделенных ягод было почти невозможно. Нет, конечно, пролезть через ограду, аккуратно просунув голову, а потом и все тело между двух чугунных пик, не составляло труда. И я это делал не раз. А потом шел к тютине – крался к ней, ощущая, как каменеют от осторожных движений все мои сухожилия. Прежде чем забраться на дерево, нужно было наступить на толстую гранитную плиту под ним: она помогала подняться повыше и ухватиться за нижнюю ветку. Но я не торопился. Я стоял под тютиной, скованный точно такой же выжидательной неподвижностью, какую хранили серые ящерицы, гревшиеся на плите среди высеченных букв. Ящерицы смотрели на меня; я же присматривался к дому попа Васька. Там все тихо и слепо. Нет ни единой щели между ставнями. Дверь, покрытая пылью и шелушащейся краской неясного цвета, выглядит так, как будто ее не открывали уже много лет, как будто дом мертвый, заброшенный. Я наступаю на плиту – и дом оживает. Дверь распахивается, из нее вылетает поп Васёк и, радуясь удавшемуся коварству, кричит: «Куда, твою мать, по могиле протоиерея!»
Так было всегда.
Но так не могло быть в тот день, когда я забрался-таки на тютину, тревожно спрашивая взглядом – у слепых окон, у запыленной двери, – существует ли попадья? Попа Васька дома не было. В тот день, я это видел, он вышел из церковного двора, чем-то сильно озабоченный, и вместе с двумя другими попами, чьи розовые гладкие лица над плоскими бородами излучали спокойную строгость, отправился через Атаманский сад в сторону Дворцовой площади, одетый, как и эти попы, в черную рясу…
Целый день я смело разгуливал по церковному двору, уже не желая даже смотреть на дерево, накормившее меня своими плодами до сонного головокружения. К вечеру я обследовал во дворе все, кроме древнего, похожего на карету, автомобиля, который стоял возле дома, в нескольких шагах от дверей, утопленный по толстые стекла, сплошь закрашенные белой масляной краской, в лопухи и бурьян.
Было уже темно, когда я решил забраться в автомобиль. Я с силой дернул дверцу и она, опережая мое усилие, быстро и широко открылась. Из автомобиля с грохотом покатились, повалились наружу пустые бочки, ведра, тазы. Они еще продолжали шевелиться и греметь, когда под железным козырьком, висевшим на цепях над дверью, зажглась тусклая, грязная лампочка. Я успел спрятаться за угол дома прежде, чем дверь распахнулась и на крыльцо, составленное из двух каменных плит, осторожно вышла попадья.
«Вот она, существует!» – мысленно воскликнул я, разглядывая ее. Худощавая, длиннорукая, затянутая в черное платье от голых ступней до шеи, она какое-то время стояла неподвижно и, казалось, всем лицом вслушивалась в темноту, повернув его в мою сторону. Такого лица я никогда еще в жизни не видел! Глубокий шрам, тянувшийся наискось по правой щеке и задиравший край верхней губы так высоко, что из под нее виднелись два зуба вместе с деснами, делал это лицо не просто уродливым, а уродливым до отвращения. Но с этим нечаянным, нахально торжествующим уродством отважно боролась врожденная красота всех черт юного лица попадьи. И эта борьба, не проигранная и не выигранная, но живая, продолжающаяся, обладала такой завораживающей силой, что мне захотелось сию же минуту выйти из укрытия и сказать попадье, что красивее ее нет никого на свете, и даже поцеловать ее в обезображенные губы. Но вместо этого я затаился еще надежнее – лег в лопухи, – потому что попадья вдруг шагнула с крыльца в темноту и, продвигаясь ощупью вдоль стены к углу дома, прямо на меня, испуганно спросила:
– Кто здесь?.. Васенька, ты?..
– Я… я… Иди в дом, Анюта! – услышал я в то же мгновение сердитый голос попа Васька.
Его круглую фигуру в черной рясе я сразу же различил в темноте, как только Анюта, быстро скрывшись в доме, погасила электрический свет, озарявший крыльцо.
Поп Васёк стоял посреди церковного двора спиной к дому и, запрокинув голову, смотрел на центральный, могучий, чуть приплюснутый купол церкви, под которым блестели в лунном свете стекла крохотных арочных окон, разделенных тонкими колоннами.
– Планетарием будешь, матушка… Планетарий из тебя постановили сделать в горкоме! – проговорил он, не опуская головы. Потом развернулся и, злобно шатаясь из стороны в сторону, направился к дому – исчез там, звучно захлопнув за собою дверь.
Я уже был в безопасности – за церковной оградой, – когда снова увидел попадью Анюту. Извиваясь и спотыкаясь, повторяя на ходу: «Не надо, Васенька… пожалуйста… пожалуйста…», она выскочила из дома вслед за попом Васьком. Он уже был без рясы – стоял среди могильных плит в одной только длинной белой рубахе.
– Ах вы ж стервы блестящие!.. Планетарий!.. Я вам покажу планетарий, мать вашу коромыслом!! – грозно кричал он куда-то в ночное небо, в звезды…
Восьмой пароходДом у Трони был. Но что это был за дом! Это была такая круглая башенка при воротах, от которых уцелела только одна створка из толстых железных прутьев, сплетенных в узор. Когда-то давно, когда в двухэтажном доме с плоскими колоннами между окон, что стоял за воротами в глубине двора, жил один дед Корней Манилов, у которого, говорила бабушка Анна, «было семь пароходов в Азове и миллион рублей серебром», в этой тесной башенке, сменяя друг друга, сидели маниловские сторожа, охранявшие дом. Как и когда в башенке поселился Троня, в округе никто не помнил. Не помнил этого и сам Троня. Иногда он и вовсе забывал, что сторожевая башенка – его дом.
– Иди, Тлоня, домой! – бывало, командовал ему мимоходом Лёсик, заметив, что Троня бодрствует поздним вечером, забравшись с ногами на холодный валун у колонки. И Троня шел. Но не в башню, а мимо нее – по улице. Или вдруг говорил Лёсику, не двигаясь с места:
– Не хочу домой. Хочу в башенке пожить.
– Да ты сто, Тлоня, дулак! Ты там и зывёс! – отвечал ему Лёсик взволнованно, стараясь Троню обрадовать.
После такого сообщения Троня, случалось, несколько дней никого не подпускал к башне – кричал с ехидной гордостью, с лютым задором всякому, кто пытался приблизится к ней, что это его дом! что ему Лёсик сказал! Но проходило еще несколько дней, и Троне наскучивала эта забота, мешавшая другой его заботе – быстро шагать туда-сюда по всему городу, не расставаясь с явью ни днем ни ночью.
Он снова куда-то шел – то по одной, то по другой улице, пересекал площади, спешил к собору, спускался к Аксаю, выходил в степь, возвращался в город. Башенку в разгар такого бодрствования он даже не замечал, а если и заходил в нее, то так, как заходят в чужое жилище, – со сдержанным любопытством и вежливой осторожностью.
В башенке у Трони, в круглой каменной комнате, где едва помещались табуретка и стол (на нем Троня спал), я был много раз. Мне нравилось сидеть там, среди ясного жаркого дня, в полумраке и смотреть на улицу через узкие – шириной в две ладони – окна без стекол. Все от сюда выглядело иначе. Все казалось далеким, неузнаваемым и вместе с тем необыкновенно отчетливым, словно я смотрел с обратной стороны в телескоп, пользуясь его подспудной, удаляющей силой. Даже бабушкин дом представлялся мне незнакомым, оттого что он виделся весь целиком в ярком и плотном свете, сдавленном глубокими оконными проемами. Чем дольше я смотрел сквозь них на улицу, тем неподвижней становился мой взгляд, равномерно рассеиваясь на всех предметах – и дальних, и ближних. Предметы сначала теряли свою отчетливость, потом раздельность; потом превращались в сплошную пеструю пелену. А вслед за этим во мне поселялось странное состояние, которому невозможно было сопротивляться в силу его чужеродности. Оно как будто бы не принадлежало мне; оно наплывало со стороны, извне, вытесняя мое «я». Не я, а совершенно бездумное и бесформенное существо, вдруг завладевшее моим зрением, смотрело из башенки и наслаждалось этим свойственным для него состоянием, в котором соединялись одновременно и упоительное оцепенение, и радостная завороженность, и обморочное безразличие ко всему, что происходит перед глазами, на улице, в округе, за толстыми стенами башенки, в башенке – где бы то ни было. Мне не то чтобы не хотелось крикнуть незнакомому велосипедисту, который быстро и беззвучно катился по улице, по травяной кромке вдоль мостовой, что он – вот сейчас – упадет в глубокую яму (обросшую по краям высокой лебедой и потому для него не заметную); я просто не в силах был этого сделать: я мог только наблюдать – без сочувствия, без насмешки, и даже без любопытства, – как он падает; как исчезают с поверхности земли переднее колесо, хромированный руль, сгорбленная спина, а потом и заднее колесо, сверкнувшее напоследок спицами. Мне было вовсе не обидно, что Родя лежит в нашем палисаднике и, запрокинув голову на ладони (делая вид, что спит), подглядывает за нашей Заирой, которая собирает сливы в кастрюлю, забравшись в цветастой юбке на дерево и широко расставив ноги на ветках прямо над Родиной головой. Я не испытывал горячечного азарта, видя, что на улице появляется, вывернув из-за угла спуска Разина, долгожданный старьевщик в обвислой шляпе, запряженный вместо коня в разрисованную арбу: ему можно было принести любую дрянь, хотя бы и поломанный бабушкин веер, который она прятала в горке среди посуды, и взамен получить губную гармошку, глиняную свистульку, или даже перочинный нож. Но я и не думал бежать за веером. В эти минуты я вообще не мог о чем-либо думать, в чем-либо участвовать действием или мыслью, чего-либо хотеть или не хотеть. Моя воля, словно испорченный оптический прибор, из которого нельзя извлечь искомую резкость, не настраивалась ни на какое событие в окрестном мире. Заира, старьевщик, Родя, проворный велосипедист, блестящий темно-зеленый жук на каменном подоконнике в башенке, печные трубы на отдаленных крышах, макушки пирамидальных тополей на нижних улицах – все это я видел одновременно и в то же время не видел ничего. Мир не воздействовал на мои чувства; я даже не осознавал в эти минуты, что мир существует и что я существую в нем. Это была особая форма небытия, возникавшая по недоразумению – от чрезмерной рассеянности взгляда – в недрах самой жизни. Почему-то именно в Трониной башенке мой взгляд заражался этой мертвящей и блаженной рассеянностью. Иногда, конечно, случалось, что и вдали от башенки, например, на террасе за летним обедом, когда Ангелина разливала дымящийся суп по тарелкам (обедами на террасе всегда распоряжалась она, а не бабушка Анна), меня вдруг охватывало точно такое же состояние. Но длиться долго оно не могло. «Засмотрелся!» – тут же говорила Ангелина, словно уличая меня в чем-то опасном или вредном. «Ну-ка, очнись! – приказывала она. – Немедленно! Слышишь?» Я машинально кивал в ответ, хотя слышал одни только звуки, а не сами слова, составленные из них, и, кивая, продолжал смотреть в никуда – в глубину туманного разноцветного кома. И тогда Ангелина, утопив в бокастой фарфоровой супнице тяжелый половник, принималась махать освободившейся ладонью перед моими глазами с такой же заботливой энергичностью, с какой растирают обмороженные щеки. И делала она это до тех пор пока глаза мои – вместе с чувствами и мыслями – ни начинали двигаться, схватывая предметы в их привычном, раздельном и ясном, виде. После чего Ангелина строго объясняла мне, что так засматриваться нельзя; что от такого засматривания можно нечаянно ослепнуть; можно даже незаметно умереть.
– Или сделаться дурачком, – подхватывала Ната.
– Как Троня? – спрашивал я, зная, что Ната и Ангелина не посмеют в присутствии бабушки Анны согласиться со мной, а лишь промолчат в ответ и на том прекратят разговор, уже обещающий превратиться в дружное назидание о том, как правильно нужно смотреть, чтобы уберечь и зрение, и жизнь, и ум; и о том, как вообще следует вести себя воспитанному мальчику.
В башенке у Трони я мог засматриваться сколько угодно. И этому никто не мог помешать, кроме самого Трони. Однажды он очутился у меня за спиной, когда я смотрел в то окно, из которого виден был дед Корней, спавший стоя с пустым ведром на мостовой – всегда на одном месте, на перекрестке Кавказкой и спуска Разина, недалеко от колонки, – видны были сама колонка и густая ива рядом с ней, похожая на пышный фонтан. Троня осторожно ткнул меня твердым острым пальцем в плечо и негромко проговорил:
– Что, нравится смотреть из башенки?.. Она хорошая.
Он сказал это как-то так (мечтательно? понимающе? – не знаю), что я на мгновение усомнился в том, что он дурачок. Но в то же мгновение сомнения мои рассеялись. Глянув в окно, а затем просунув в него голову, Троня вдруг заорал резким противным голосом, который был знаком всем в округе и в котором слышались одновременно ноты воинственной обиды и отчаянного, кривляющегося веселья:
– Корней! Корней! Где твой пароход?! Просыпайся! Вон твой пароход плывет!
«Пароход… пароход… А я-то думаю, что за пароход?..» – приговаривала два дня спустя не то радостно, не то сокрушенно бабка Манилиха, стоя вместе со всеми в толпе возле своего дома и глядя, как выплывает, покачиваясь на руках, из распахнутых настежь дверей, из стойкого сумрака на яркий полуденный свет огромный, с высокими бортами гроб. Дед Корней, сделавшийся очень плоским, одетый в пиджак, какого он никогда не носил, лежал в нем с желтым лицом, без фуражки, и, казалось, что-то усердно рассматривал в мыслях под голым лбом.
ТамНи с кем мне не хотелось целоваться – ни с Майей, ни с Сашей, ни с Олимпиадой – после того, как я увидел попадью Анюту. Поздними вечерами, засыпая в одиночестве на топчане под вишней или в компании с Володей на открытой, выходившей во двор деревянной террасе, я думал только о попадье Анюте. Мне даже не хотелось говорить с Володей о том, о чем мы обычно говорили в сладкие предсонные минуты, кутаясь в верблюжьи одеяла (я у стены на грузной оттоманке, он на легкой кушетке у края террасы, под самыми перилами), – о покойниках, об айданах, о том, что завтра нам надо наконец-таки разыскать на Аксайской улице Енота и выменять у него или выиграть в карты всех моих негров – четырнадцать серебристых марок родом из Бурунди, скитающихся по округе с тех пор, как я променял их на негодную (чвирк-пырк) зажигалку; об отдаленности Венеры, сияющей в обманчивой близости, над кроной старого абрикоса; о пылком злодействе деда Корнея Манилова, который будто бы взял и отрубил длинной шашкой головы двум молодым актерам и своей первой бабке, то есть, конечно, не бабке, а тоже юной актерке, за то, что она очутилась с актерами голой в садовой беседке («Тсс, видишь?!» – «Что?» – «Кто-то идет… Они идут! Все трое – без голов!» – «Ты врешь… перестань, Володя…» – «Смотри! Смотри! И дед Корней идет! С шашкой идет… видишь, блестит?..» – «Ничего не блестит: деда Корнея похоронили». – «Ну да, похоронили. А он идет!»); о том, что Лёсик, хоть он и добрый, а тоже, наверное, отрубил бы чем-нибудь голову своей Заире, если б узнал нашу тайну; и, наконец, об этой заманчивой тайне – о голой Заире.
Голой ее видел я. Но мне почему-то всегда было интереснее слушать Володю, слушать, как он рассказывает мне о моем приключении – о том, как беззвучным, томительно жарким полднем я забрался в сарай, надеясь отыскать (на будущее) вещицы, подходящие для старьевщика: искать их в доме я уже не решался, с тех пор как отдал старьевщику за две раскрашенные свистульки бабушкин веер, который, как выяснилось потом, когда бабушка целый день ругала старьевщика «шаромыжником», а меня «безмозглым анчуткой», был ей «дороже всех свистулек на свете».
Зайдя в сарай, я плотно закрыл за собою высокую, обитую железом дверь. Из крохотных окошек под крышей сюда проникали мутные лучи, в которых медленно двигалась пыль. Они слабо освещали только переднюю часть сарая, где хранились аккуратно сложенные дрова, колотый уголь, бочонки с керосином, инструменты, всевозможные стулья, столы и кресла, сосланные сюда из дома по дряхлости или по увечности; задняя же часть сарая, отделенная высокими загородками, за которыми когда-то, как говорила бабушка Анна, стояли лошади, была совершенно темной. Но именно там, за этими дощатыми загородками с уцелевшими кое-где дверцами, и можно было найти такие вещи (сбрую, седло, железный поднос, подсвечник), которые зажигали в веселых глазах старьевщика беспокойные огоньки.
Сидя за загородкой, я неспешно перебирал разнообразный хлам, как вдруг дверь в сарай приоткрылась, потом захлопнулась, перекусив широкий луч света. И в то же мгновение я услышал голос Заиры.
– Боже мой!.. Ну и пусть! Ну и пусть! – испуганно говорила она кому-то.
Бесшумно наступив на ящик, лежавший возле загородки, я осторожно выглянул в широкую щель между верхними досками. Заира была одна. Она стояла возле изорванного кожаного кресла и вид у нее был такой, будто она только что очнулась от кошмарного сна. Какое-то время она ерошила короткие кучерявые волосы, быстро двигая растопыренными пальцами вверх от висков. Такими же быстрыми движениями она вдруг стала расстегивать пуговицы блузки, потом широкий лакированный пояс на юбке. Я видел, как юбка упала на земляной утрамбованный пол рядом с блузкой, как Заира, перешагнув через юбку, наклонилась, подняла к груди сначала одно, потом другое колено, и тут же выпрямилась. Я не сразу понял, что она была теперь голой: ее кожа на ягодицах светилась такой же яркой белизной, как и трусы, которые она, скомкав, швырнула в кресло.
– Входи! – сказала она, глянув в сторону железной двери. Дверь тут же открылась и в сарай вошел Рюмкин. Это был худощавый, длинноволосый, с подвижным острым кадыком студент, который три раза в неделю занимался математикой с Ангелиной и который очень смешил меня и Володю тем, что называл Ангелину, будто мужчину, профессором («профессор сказала»; «профессор пообещала»; «профессор разрешила мне у вас пообедать»).
Увидев Рюмкина, Заира нисколько не испугалась. Напротив, с веселой и злой отвагой она повернулась к нему лицом и, запрокинув вверх подбородок так резко, будто кто-то ее дернул сзади за волосы, проговорила:
– Ну вот, Рюмочка, смотри! Где у меня шерсть?
Рюмкин осторожным движением, каким он это делал всегда, когда собирался во время урока что-нибудь возразить Ангелине, снял круглые толстые очки, медленно протащив их вниз по носу, и виновато отвернулся в сторону.
– Я думаю… то есть я совсем не то хотел сказать, когда говорил… – начал он было что-то объяснять Заире.
Но она его не слушала.
– Смотри, смотри! – повторяла она, поворачиваясь на месте и качая руками над головой, словно в танце.
– Я уже посмотрел… мне очень нравится… но только я пошутил, – бормотал Рюмкин, не глядя на Заиру.
– Ах пошутил?! А я не шучу! – Она сердито, но не сильно шлепнула Рюмкина ладонью по щеке.
И в эту минуту перевернутый ящик из тонких дощечек, на котором я стоял за загородкой, с громким треском проломился под моей ногой. Из сарая Рюмкин успел выскочить прежде, чем Заира, подхватив с пола юбку, воскликнула:
– Кто здесь?
Я молча вышел из своего укрытия. Заира стояла в пыльных янтарных лучах, прикрывая юбкой грудь и согнувшись всем телом так, словно она собиралась прыгнуть.
Не зная, что делать, я не двигался с места.
– Это ты?.. Ты подглядывал! Подглядывал! Сволочь, шалава! – Взгляд Заиры горел такой ненавистью и злобой, каких я никогда еще не видел в ее глазах – даже в те минуты, когда она ругалась с Лёсиком.
Ноги у меня сделались ватными от страха; мне казалось, что Заира сейчас бросится на меня и задушит крепкими темными пальцами в серебряных кольцах. Но вдруг лицо ее переменилось. Какое-то странное выражение – не то умиления, не то озорства – проступило на нем. Она быстро подошла ко мне и села на корточки, взяв мою голову в ладони.
– Прости меня, ну прости, прости, – произнесла она ласковой скороговоркой. – Знаешь, он меня обидел, этот Рюмкин, обидел! Он сказал, что я противная волосатая ведьма, что у меня везде шерсть, как у нашего латыша, только черная, а у мня нет никакой шерсти, ты видел… видишь… Ты никому не скажешь? – внезапно спросила она, отодвинув назад мою голову, чтоб заглянуть в глаза. Я покорно кивнул. Она снова притянула мою голову к своему лицу и еще долго что-то говорила мне, то улыбаясь, то плача, то требуя от меня страшных клятв, которые я произносил монотонно и бесчувственно, потому что чувствовал только одно – как больно вдавливаются ее прохладные кольца в мои горящие уши…
Потом, когда эту историю мне пересказывал Володя (так запальчиво и подробно, как будто он, а не я был ее участником), я охотно верил, что в ту минуту, когда Заира сидела передо мной на корточках, я чувствовал и видел очень многое – видел вблизи ее плечи, колени, живот, качающиеся груди, внимательно рассматривал ее сплющенные соски в центре больших темно-коричневых кругов, чувствовал мягкое, ароматное тепло, исходившее от ее шеи… О голой Заире мы обычно говорили с Володей до поздней ночи, радостно свидетельствуя друг перед другом, что шерсти у Заиры нет нигде – только под мышками и там. И это заповедное там, эта вертикальная выпуклая полоска черных волос (короткая полоска, а вовсе не размашистый треугольник, как рисовало грубое воображение Володи) то и дело проникала в мои сны, где Заира, голая и огромная, выше Платовской ротонды, стояла, раскинув ноги, на средине спуска Разина, покрытого льдом, и в то время, как я пролетал по льду на санях под ее ногами, словно под аркой, грозно кричала мне: «Смотри! Смотри!»
Но все это было раньше, до того, как я увидел попадью Анюту, до того, как влюбился в ее узкое бледное лицо, изуродованное безжалостным шрамом; влюбился в сам этот шрам, который, как мне казалось, возник на ее непобедимо красивом лице не от будничного несчастья, а силою сказочной злой ворожбы; влюбился в ее черное полотняное платье, которое скрывало всю ее тонкую высокую фигуру от щиколоток до шеи и которое даже смутно, даже краешком мысли не позволяло представлять никакого там. Мое воображение, за которым бдительно следила душа, возвышенно и нежно тоскующая о попадье Анюте, только тогда и получало свободу и обретало способность рисовать отчетливые картины, когда оно уносилось прочь от всего, что могло скрываться под черным платьем.
Ночами, на террасе, дождавшись той минуты, когда Володя засыпал, думая, что и я уснул под его оживленный говор, я откидывал одеяло и, глядя сквозь крону старого абрикоса на звезды, представлял, что вот попадью Анюту схватили пираты, вроде тех, что делят сокровища под скалой у берега моря на красочном гобелене, который висит над кроватью в спальне бабушки Анны. Попадья Анюта беспомощно стонет. Пираты заламывают ей руки, рвут на ней платье, надменно хохочут. А один из них, тот, что по пояс голый, в фиолетовых шароварах и красном платке, завязанном на затылке, уже выдернул из-за пояса нож и занес его над лицом попадьи Анюты, чтоб оставить еще один шрам, на другой щеке. Но тут появляюсь я, одетый во что-то черное и очень красивое. У меня в руках пистолеты. «Негодяи!» – кричу я пиратам, и тут же стреляю – они падают мертвыми. Попадья Анюта растерянно плачет. Она еще не верит в свое счастливое освобождение. Ее платье разорвано на груди. Она закрывает локтями голые груди. Но я вовсе и не думаю разглядывать ее, как разглядывал в сарае Заиру. Я гордо и благородно смотрю куда-то в сторону и вверх. «Ты хочешь поцеловать меня?» – говорит Анюта, глядя с покорной нежностью. «Нет, ничего этого не надо!» – великодушно отвечаю я; на моем лице выражение мужественной грусти… Или все ж таки я целую ее – но не там, под скалой, внутри гобелена, а в жарко натопленной хижине посреди заснеженных гор, где я спас ее от других злодеев… Или нет: весь израненный и измученный, после долгого боя с бесчестным соперником, который тоже любил попадью Анюту, но был мною убит, я говорю ей: «Прости! Я победил его!» – и устало уезжаю верхом на коне. А она кричит мне вдогонку: «Вернись, вернись! У меня нет никого, кроме тебя!» Попа Васька я, разумеется, не брал в расчет; ему не было места в этих картинах, и он, словно зная об этом, сразу же исчезал из моей головы вместе со своим нелюдимым домом, Александровской церковью, круглой бородкой, перепачканной рясой и подвижными глазами, полными веселого сверкающего коварства, как только моя фантазия, поставленная на службу печальной и одинокой любви, принималась за свою утешительную работу.
Я засыпал лишь под утро, не замечая, как мои послушные грезы превращаются в своевольные сны, где все происходит совсем не так, как мне хочется, где я убегаю и никак не могу убежать (потому что воздух вокруг меня слишком плотный) от попа Васька, который гонится за мной по улице, возглавляя недобрую толпу, ощетинившуюся ножами и палками. «В степь его! Выгоняйте в степь! Там он не полетит!» – кричит поп Васёк, и я радостно вспоминаю, что могу полететь. Я машу руками. Плотный воздух уже не мешает мне, а, наоборот помогает. Я отталкиваюсь от него раскинутыми руками и медленно поднимаюсь вверх; потом переворачиваюсь горизонтально и лечу над толпой вниз лицом. Толпа страшно злится на это чудо, тычет в воздух ножами и палками, но достать до меня уже не может. Я очень высоко. Мне хочется подняться еще выше. Я сильнее машу руками и с ужасом ощущаю, что начинаю падать – воздух не держит меня. Я падаю все быстрей и быстрей и с нарастающим страхом жду того мига, когда ударюсь о землю. Но вдруг какая-то сила все меняет вокруг меня – я оказываюсь на чердаке нашего дома и вижу: возле печной трубы стоит попадья Анюта. Она нетерпеливо стучит кулаками в трубу и просит там кого-то: «Пустите меня! Пустите! Спрячьте!» Потом оглядывается на меня и говорит: «Ну что же ты стоишь, помогай мне!» Я подхожу к трубе и тоже стучу. Но мне не хочется, чтоб попадью Анюту пустили туда, и поэтому я стучу тихонько – только делаю вид, что стучу. Она замечает это. «Не так! Не так! Стучи громче!» – выкрикивает она, и голос у нее такой же злой, как у Заиры. И тут я только вижу, что и блузка на ней такая же, как у Заиры, и кроме блузки больше нет ничего. Я бью кулаками в трубу изо всех сил, чтоб не смотреть на попадью Анюту, но взгляд мои сам устремляется к ее голым, белым, как мел, ногам. И в тот миг, когда я уже должен увидеть, что у нее там, труба с грохотом рушится.
Бум-бум-бум! Там-там-там! – слышу я оглушительные звуки. Но они уже принадлежат утренней, солнечной яви, где Володя катается по террасе на самокате, сильно ударяя в пол ногой, чтоб разбудить меня.