Текст книги "Емельян Пугачев, т.1"
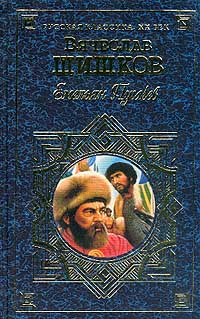
Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 75 страниц)
Главная ставка Апраксина – целый поселок: большие и маленькие палатки для адъютантов и прислуги, походная церковь, склады, кухня, канцелярия, парикмахерская, баня.
В круглой палатке фельдмаршала начался военный совет. Большой овальный стол накрыт красною скатертью с золотыми кистями (граф любил во всем пышность), горело в шандалах и канделябрах сорок восемь свечей, за столом сам Апраксин и генералитет в походной форме. По правую руку Апраксина – генерал Веймарн (он все время войны «водил» Апраксина, как бычка на веревочке), по левую – молодой, но очень талантливый генерал Вильбуа, который частенько говаривал своим приятелям: «При нынешних порядках у меня пропадает всякая охота воевать. Черт их возьми!.. Здесь надо притворяться таким же дураком, как и все... Иначе всех сделаешь себе врагами». На столе хорошая немецкая карта, гусиные перья, карандаши, бумага; на коленях Апраксина черный мопс, такой же пучеглазый и тупорылый, как хозяин. Земля прикрыта коврами. Накурено. Тикают бронзовые часы. Два лакея снимают щипцами нагар со свечей, подают кофе, разливают по бокалам и рюмкам вино и ликеры.
Пыхтя и посапывая, Апраксин говорит ленивым, надтреснутым тенорком:
– По всему видимому, неприятель не хочет нам дать открытой баталии, он боится высунуть из лесу свой нос и выйти в поле. По всему видимому, он пытается, заняв самую тесную дефилею, заградить нам путь к дальнейшему продвижению нашей армии вперед и всем тем воспрепятствовать, чтоб мы его не обошли и не вышли прямо к Кенигсбергу. Таково мое мнение после зрелых размышлений. А вы как мыслите, молодежь? Граф Румянцев, вы? Генерал Вильбуа?
Курносый, толстощекий, быстрый взглядом, Румянцев повел плечом и командирским, слегка осипшим басом с горячностью сказал:
– Мой сказ короток, ваше сиятельство. Нам надлежит немедля идти врагу навстречу, принудить дать баталию и разбить его в пух и в прах.
«Баталия, баталия!» – крикнул из клетки попугай тоже командирским басом и почесал лапкой за ухом.
Генералитет улыбнулся. Вильбуа и Румянцев громко захохотали. Мопс не то с завистью, не то с презрением покосился на чертову птичку и с чувством собачьего достоинства лизнул хозяина в дряблый подбородок.
Апраксин поцеловал мопса в шиворот (граф Захар Чернышев сделал брезгливую гримасу). Обведя присутствующих ленивым взором, фельдмаршал спросил:
– Но куда и каким местом к нему идти? Ежели прямо через Эггерсдорфское поле – идти не можно: враг стоит за большим лесом, а сквозь оный только одна узкая дорога, да и та пруссаками занята. Как вы, господа, сей тактический вопрос желали бы разрешить?
После коротких рассуждений решено вести войска через поле, обходить лес с левой стороны и опрокинуться на врага всей силой.
– А главное: не мешкать, действовать быстро, – сказали в один голос Румянцев и Чернышев.
– Совершенно согласен с вами, господа генералы, – кивнул им Апраксин. – Мы и впрямь во всем поспешаем слишком... медленно... И так уж канцлер Бестужев, Алексей Петрович, то и дело пишет мне: «Поспешай, поспешай, про тебя небылицы по Питеру плетут». Да и матушка Елизавета недовольна, апробацией не жалует – долго, мол, в Польше позадержались вы. А как тут поспешать?.. Поспешишь – людей насмешишь.
– А не поспешишь, врага упустишь, ваше сиятельство, – ядовито заговорил Петр Панин и незаметно переглянулся с Румянцевым. – И кто с умом спешит, тот всегда и во всем успевает. Возьмем генерала Фермора. Он в Либаве присоединил к себе подвезенные морем наши полки, восемнадцатого июня вступил в Пруссию, двадцатого обложил Мемель, а уже двадцать четвертого эту крепость взял. А мы полгода пропировали в Польше и до сих пор не унюхали, чем пахнет вражий порох... Государыня императрица за столь сугубое поспешание вряд ли по головке погладит нас.
Апраксин сидел весь красный, будто Панин не словами стегал его, а парил в жаркой бане веником. Маскируя свое смущение, он стал сонливо зевать и закрещивать гнилозубый рот, потом, ища хоть в ком-нибудь поддержки и не находя ее, обиженно сказал:
– Ау, ау... Плохой я главнокомандующий. Я фельдмаршал мирный, а не военный. Я так и государыне молвил. Ну что ж, господа, назначайте вместо меня Фермора, он генерал боевой. Сменяйте, сменяйте меня... ежели дана вам на то власть. А ежели этой власти за вами нет, то... повелеваю!.. – Апраксин сбросил с колен мопса и встал. Весь генералитет точно так же поднялся. – Повелеваю: завтра чем свет по вестовой моей пушке выступать в поход. А вам, Петр Иванович, – выпучив глаза, обратился он к злословному Панину, – зная вас за отважного воина, я предоставляю случай особо отличиться. Для сего определяю вас в самое жаркое дело.
«Ах ты, старый кабан», – подумал Панин и – вслух:
– Я жары не боюсь, ваше сиятельство. Но не терплю тех, кто тщится нагнать на меня холоду. Я не труслив, но горд. А пруссаков бояться – на войну не ходить. Весь к услугам вашего сиятельства!
Генералитет отпущен.
Апраксин устал. Ленивый и нерасторопный, он не подумал о разработке диспозиции войск на завтрашний день, он только успел набросать коротенький приказ по армии и прилег часок-другой всхрапнуть. А там видно будет, ночь-то длинна.
Выходя из палатки, Панин шепнул Румянцеву:
– Не смею утверждать категорически, но мнится мне, что этот безмозглый баран не побрезгует положить в карман от прусского командования кое-какой куртаж.
– О да, – живо согласился Румянцев. – Его медлительность припахивает изменой.
– Во всяком случае, она равносильна измене, – подхватил Панин.
По армии объявлен приказ: всех солдат снабдить на трое суток провизией, вывести «перед фрунт», всем ночевать «в ружье».
Каким-то случаем прусское командование сведало о предстоящем наступлении русских. И пока граф Апраксин спал себе и почивал спокойно, проворный враг плел хитроумные сети, чтобы погубить нас.
Пред утром 19 августа густой туман рассеялся. Лошади, опустив головы, дремали. На траве, на палатках и всюду лежала роса.
Ударила вестовая пушка, лагерь пришел в движение. Вместо обычной зори стали бить генеральный марш. Значит, готовься к походу. Вскоре прозвучал сигнал: «На воза!», и войска тотчас стали снимать все палатки, мазать колеса дегтем, впрягать в повозки лошадей, грузить имущество. Фурлейты спрашивали: «Брать ли рогатки?» Приказ: «Брать, брать». (Деревянных рогаток – тысячи, целый лес. Они большая обуза. Их возят в особых телегах за каждым полком для прикрытия фронта от неприятельской конницы.)
Через двадцать минут обозы тронулись в путь. Было еще темно.
Равнина – где лагерь – как дно муравейника. Все копошилось, серело, алело, чернело, двигалось взад и вперед, вправо и влево. Люди сползались в живые кучки, эти кучки росли, то вытягиваясь в линию, то сжимаясь в квадрат. Кучек все больше и больше. Вот они ощетинились сталью. По всем направлениям засновали всадники. С тысячи мест сизыми киверами потянулись к небу дымки догорающих костров.
Емельян Пугачев кой-как, вразвалку, сидит в седле вблизи палатки атамана Денисова. Конь под ним высокий, белый. Емельян привел его из ночной разведки: смахнул башку прусскому драгуну-барину, а коня его увел. Коню этому сегодня хватит работки: Пугачев за свою особую расторопность назначен был вчера ординарцем полковника-атамана Денисова.
Донцы еще прохлаждаются, наскоро пьют кипяток с солью и хлебом. Грузный, заспанный Денисов выходит из палатки, вестовой подает ему умываться. За рекой по далекому горизонту медленно растекалась заря. В лесу куковала ранняя кукушка.
В противоположной стороне, почти за две версты от Пугачева, там, где темный выход в Эггерсдорфское поле, – сплошное огромное месиво, оттуда доносились невообразимый шум, треск, скрип, выкрики. Денисов, вытираясь рушником, спросил Пугачева:
– Что там такое?
– А это, надо полагать, обозы сбились в кучу... Порядку нет, ваше высокородие.
– А ну, слетай!
Пугачев гикнул и умчался.
У выхода в поле действительно творилось нечто ужасное. Впереди тесной дефилеи, через которую тянулись бесчисленные обозы, растекалась ручьевина по заболоченной местности. Непролазным киселем густела грязища. Передние повозки завязли, задние стали напирать на них, обгонять их и – по грудь коням – увязали сами, на них надвигались задние. Тут же, вперемежку с повозками, шли побатальонно воинские части.
В конце концов лавина не в одну тысячу повозок закупорила весь проход – пушкой не пробьешь. Здесь все перемешалось: артиллерия с ящиками и снарядами, солдатские обозы, генеральские экипажи, многие сотни телег с рогатками, офицерские повозки.
А сзади на это месиво из лошадей, солдат, повозок напирали двинувшиеся полки. Всюду крики: «Дорогу, дорогу!» – но дороги не было.
И в момент такой бестолковщины, в момент отчаянных, но безуспешных попыток освободить проход, по войску и обозам покатилась сначала тихая молва: «Пруссаки наступают, они уже близко»; затем разговоры – все крепче и крепче, вот послышались отдельные панические выкрики: «Неприятель, неприятель!» Но путем никто ничего не знал еще.
Тем временем 2-й Московский полк, уже выведенный в Эггерсдорфское поле, вдруг увидел перед собой грозные шеренги спешившего к нему врага. Полк стоял как раз у выхода с забитой обозами прогалины и прикрывал доступ в лагерь. Командиры и солдаты диву дались: каким манером враг, никем не замеченный, мог пройти версты четыре полем и почти сесть на шею нашим? А где ж была разведка? И о чем думало главное командование?
Небольшая колонна артиллерии, находящаяся при Московском полку, тотчас открыла по неприятелю огонь.
Этот близкий гром пушек произвел в обозной толпе смятение. Люди сразу как бы посходили с ума. Поднялись вопли.
В одном месте командиры кричали: «Сюда! Сюда! Артиллерию сюда!» В другом раздавалось: «Конницу скорей, конницу!» Но яростней всех был вопль: «Обозы прочь, назад!.. Прочь, прочь! Обозы назад, назад, назад!..» Возницы и фурманы с гиком и руганью в три кнута полосовали лошадей. Генералы, полковники и простые офицеры потеряли всякий разум, они совались возле обозов без памяти, не зная, что им делать.
Почти все полки еще находились за обозом, в лагере, а пробраться на поле с амуницией, с пушками сквозь густейший непролазный лес было невозможно. «Просеки, просеки рубить!» – бестолково раздавалась запоздалая команда. Но тут уже не до просек. Полки дожидались, пока расчистят от обоза злосчастную прогалину. Успел вывести свою дивизию на бранное поле лишь генерал-аншеф Лопухин.
А пушки гремели и гремели. Неприятельские ядра, проносясь со свистом, уже стали шуркать по обозам.
Часть донцов умудрилась пробраться меж обозами и опушкой леса и, спешившись, выстроилась на отдаленном пригорке в левой стороне поля. Пригорок прикрыт с тыла болотом и кустарником. Тут же была и батарея со старым бомбардиром Павлом Носовым. Вскоре подошел еще армейский полк.
Емельян Пугачев сидел на коне, ждал поручений атамана, во все стороны вертел головой. Справа и вперед от него видно было все Эггерсдорфское поле, на нем – прусская армия как на ладони. А за полем, верстах в пяти, зеленел огромный лес. Атаман Денисов то и дело прикладывал к глазу подзорную трубу.
Начинало светать. Вставало солнце.
Пруссаки вытянулись двумя длинными линиями на том самом месте, где вчера стояли две развернутых линии русских. И снова – возмущенные наши голоса:
– Каким это способом пруссаки подкрались к нам? Этакое позорище! Проспать врага... С потрохами продают нас.
Гросс-Эггерсдорфская битва началась ровно в восемь часов утра.
Наши немногие гренадерские полки только еще выстраивались вдоль опушки леса. Между тем первая линия пруссаков быстрым шагом уже двинулась в атаку и, приблизясь, дала по нашим залп. Русские не отвечали. «Почему наши молчат?» – заговорили между собой люди на пригорке, где Пугачев. Но русские молчали, потому что продолжали строиться, вытягиваться в линию, да и пули неприятеля пока не долетали.
Пруссаки, заряжая на ходу ружья, продвинулись еще на несколько сажен и дали второй залп. Русские опять смолчали. Они все еще вытягивали боевую свою линию. «Бегом, бегом!» – покрикивали там офицеры. Петр Панин скакал на коне, поощряя солдат: «Поспешай, братцы, да в лоб его, в лоб!» Второй залп кой-кого из гренадеров зацепил, человек десять упало. Зарядив на ходу ружья, пруссаки дали третий дружный залп. Их фронт стал помаленьку заволакиваться дымом.
Тем временем русские полки уже успели развернуть свой фронт больше чем на версту. Генерал Лопухин, бесстрашно проносясь на коне вдоль фронта, командовал: «Стрелять метко, в три шеренги, залпами!» И сразу треснул дружный залп. Загремели русские пушки. Началась жаркая, врассыпную, перестрелка.
Все затянуло дымом.
Через поле отдельными частями перебегали подкрепления из второй линии пруссаков, подвозились порох и снаряды, прыгали по кочкам пушки, скакали взад и вперед вражеские ординарцы.
Враг упорную атаку направил в два места: против главного входа в лагерь, где кипела перестрелка, и против второго входа с левой стороны. Но там стойко держался 1-й Гренадерский полк под командою полковника Языкова. Враг всюду действовал по заранее составленной диспозиции, а русские валили «наобум святых» как Бог на душу положит.
Враг измышлял запереть русских в лагере и всех, кто там был, передушить.
Главнокомандующий Апраксин, окруженный свитой, громоздился на коне в значительном отдалении от битвы. Он не отрывал от глаз трубу, но плохо видел и мало понимал в происходящем. Он почти не отдавал никаких приказов, только покрикивал: «Валяй, валяй!»
Пугачев первый заметил кавалерию, показавшуюся на правом фланге врага. Заметил ее и Панин. Он подскакал к графу Апраксину.
– Ваше сиятельство! Прикажите казакам атаковать неприятельскую конницу.
– Валяй, валяй, голубчик, валяй! Ах, это вы, Петр Иваныч? – замахал трубой и заохал Апраксин.
Панин полетел стрелой на пригорок к атаману Денисову. Пугачев стрелой с пригорка от Денисова к Апраксину.
– Стой, казак! – на всем скаку крикнул Панин. Оба коня враз остановились. Приседая на задние ноги, они пахали землю передними.
– Куда?
– К главнокомандующему... Конница вражья объявилась.
– Передай приказ атаману Денисову – взять вражью конницу в пики!
Кругом пахло порохом. Сизо-голубыми клочьями тянулись струи дыма. Всюду задирчивый треск ружейных выстрелов и то близкие, то далекие раскаты пушечной пальбы.
Пугачев подкатил к своим. Полторы тысячи донцов уже успели сесть на коней. Раздалась команда. Туча казаков – пики наперевес – с пронзительным гиканьем стремительно мчалась на врага. Прусская конница поджидала атаку недвижно. Подпустив донцов поближе, пруссаки дали по ним уверенный залп. Донцы опешили, ряды их смешались, гиканье смолкло, многие упали с коней. Пальнули в пруссаков беглым огнем. Пруссаки вновь ответили залпом. Донцы повернули коней и марш-марш назад. Прусские кирасиры и драгуны – палаши наголо – помчались за ними. Обскакивая болото с кустарником, они гнали казаков к русскому фронту и, настигнув, стали их рубить. Казакам некуда деваться. Тогда левый наш фланг расступился, пропустил лавину донцов. Первый эскадрон прусских кирасиров успел прорваться на хвосте донцов за русский фронт и там рубил направо и налево, кого придется. В нашем тылу – вой, крик, паника. Меж тем полки неприятельской конницы в полном порядке поэскадронно неудержимо текли быстрой рекой чрез поле на передовую линию русских. Казалось, враги презирали страх, смерть и нашу пехоту, угрожая стоптать ее.
Атаман Денисов наблюдал с возвышения, бесновался: «Ах, черти, ах, черти!» И крикнул стоявшему рядом с ним Пугачеву: «Лети на батарею... Огонь картечью! Разини, дьяволы!» Пугачев, весь дрожа, поскакал. Бомбардиры уже успели повернуть батарею в сторону мчавшейся конницы врага, забивали пушки картечью.
Пугачев вместе с бомбардиром Носовым стал наводить в сторону неприятеля медную пушку. Прусские эскадроны, взвивая густейшую пыль, один за другим четко скакали. Наша пехота овладела собой, стала отстреливаться, пытаясь сомкнуть разорванный фронт.
«Пли!» И вдруг ахнули сразу пять пушек. Залп был удачен, картечь сражала пруссаков десятками, сотнями. Фронт пехоты сомкнулся. С правого фланга скакали три сотни чугуевцев. А сзади них мчался Панин. «Пли!» И снова оглушительный залп. Вражеские эскадроны смешались, повернули назад, в беспорядке поскакали полем обратно к лесу. Донцы оправились, вместе с чугуевцами бросились преследовать врага, рубили, сажали на пики. Эскадрон, прорвавшийся за русский фронт, был весь уничтожен.
Пугачев так увлекся баталией, что забыл свою обязанность ординарца. Вольной птицей перелетал он теперь с места на место, куда его тянула удаль.
А над фронтом, где разгорался жестокий бой, стояло густейшее облако дыма: с той и другой стороны продолжалась неумолчная ружейная перестрелка, пальба из пушек и гаубиц.
Перевес был целиком на стороне неприятеля. Мы были очень малочисленны, у нас дралось всего одиннадцать полков. И резерв в нужном количестве к нам не поступал: от своих главных сил, от лагеря, мы были отрезаны.
Апраксин вконец растерялся. Все шло самотеком, вразброд, каждый военачальник действовал на свой страх и риск. Сильная артиллерия пруссаков работала отлично, тогда как большая часть русской завязла в болотах, застряла среди обоза в лагере и, лишь постепенно выпрастываясь, орудие за орудием, медленно выходила на позиции. Хотя обозы в нашем лагере, двигаясь назад, постепенно освобождали выход в поле и казалось, что теперь можно кой-как выводить из лагеря войска и подвозить снаряды, но сметливый враг в оба выхода из лагеря направил свою силу артиллерийского огня, а затем двинул в бой свежие полки.
Пугачев, рискуя жизнью, проник на коне в запертый со всех сторон русский лагерь. Там был видимый порядок: полки стояли под ружьем, артиллерия в упряжке. Но вместе с тем – всеобщая какая-то выжидательная напряженность и тупое уныние среди людей. Прислушиваясь к канонаде, к долетавшим чрез лес глухим звукам битвы и не в силах помочь своим братьям, многие солдаты горестно трясли головами, крадучись утирали мокрые глаза, а иные плакали в открытую, справедливо ожесточаясь на погибельные распорядки командования.
Пугачев увидел: от лагеря чрез лес ведут к бранному полю две просеки, но топоров мало, работы хватит на неделю. «Эх, черти генералы... Вразумить вас некому», – подумал он и спросил бородатого лесоруба:
– Пошто войско не посылают на фрунт?
– Два полка прутся лесом на выручку, – ответил бородач. – С пушками было тронулись да со снарядами. Только, вишь, побросали все, куда тут... Вон она, пушка-то, вон другая... Несподручно. Ради этого и просеку ведем, понял?
– Кто спослал полки-то?
– Сам Румянцев. Эвот-эвот он сидит рядом с графом Чернышевым... Курносый такой, толсторожий... А нет ли у тя покурить, казак?
Но Пугачев, ничтоже сумняшеся, уже подлетел к двум молодым графам, сидевшим друг против друга на барабанах. Подъехал, спрыгнул с коня, вытянулся во фрунт и, охваченный жаром битвы, бесстрашно обратился к быстроглазому Румянцеву:
– Ваше превосходительство! Треба солдат на фрунт поболе... Двух полков маловато. Наших дюже колотят...
– Откуда ты?
– От графа Апраксина, – соврал Пугачев. – Вам приказ велено отдать...
Глаза Румянцева под высоко вскинутыми бровями сердито запрыгали, он вскочил и крикнул:
– Пошли его, старого мопса, ко всем чертям!.. – Румянцев знал, что фельдмаршал Апраксин в немилости у царицы Елизаветы, и в выражениях по его адресу не церемонился. Апраксина и прочих генералов он стал пушить сплеча по матушке. (Пугачев приятно улыбнулся.) Обращаясь к Чернышеву, Румянцев возбужденно заговорил: – Чрез каждые десять минут шлют ко мне гонцов, даже Панин был: «Выводи, выводи...» А как я выведу, раз мы, по милости Апраксина, заперты?.. Я давно послал Рязанский полк тем местом, где обозы захрясли, а много ли из полка на фрунт явилось? Две роты... А ребята – молодец к молодцу. – Румянцев вздохнул, передернул плечами и, выколачивая короткую трубку о барабан, сердито добавил: – Беда, ежели львами командует баран.
– Н-да-а... – протянул Чернышев. – Пожалуй, лучше, когда баранами командует лев.
– В сто раз лучше!
Помедля и ничуть не стесняясь присутствия Пугачева, граф Захар Чернышев сказал:
– Он до крайности ленив и труслив, наш Апраксин. В третьем году пьяный гетман Разумовский едва морду не набил ему. Граф только покряхтел, и – никакого отпора... Трус!
Румянцев вынул изо рта трубку, сплюнул и с желчностью проговорил:
– Этот толстобрюхий бегемот выписал себе из Петербурга двенадцать пар шикарного обмундирования, надеясь в Риге да в Варшаве сражаться с дамами. Вот скотина!.. С таким фельдмаршалом не до побед.
Из лесу выводили под руки раненых с забинтованными лбами, окровавленными лицами, вытекшими глазами, с руками на перевязи, некоторые, шатаясь, шли самостоятельно, некоторые со стоном ползли на четвереньках. Это – изувеченные на Эггерсдорфском поле гренадеры, каким-то чудом пробравшиеся сквозь лес, чрез который трудно пройти даже медведю. Все тянулись к полевому лазарету, что расположился в трех больших палатках. Оттуда доносились вопли и проклятья. Пугачев, косясь на лазарет, спросил Румянцева:
– Прикажете ехать?
Румянцев в ответ махнул рукой, подозвал к себе кого-то из раненых. Пугачев призадержался сесть в седло, его одолевало мальчишеское любопытство.
– Где ранен?
– На левом фланге, ваше-ство...
– Сядь, – и Румянцев подкатил пожилому гренадеру свой барабан. – Ну что, жарко в бою?
– Жарко... А ен все лезет да лезет. Наших много полегло, к лесу подаваться стали, а он знай лезет, знай лезет... Распорядок добрый у него, а у нас порядку ни синь-пороху. Только генерал Лопухин за всех орудует...
Генерал-аншеф В. А. Лопухин, видя, как обессилевшие солдаты его дивизии шаг за шагом стали отходить назад, то скакал на коне перед отступавшими, то, бросив раненую лошадь, бежал по рядам войск, чуть не плача, умолял:
– Братцы, ребятушки... Стойте, не рушьте фрунта! За честь России! Братцы, за мной!.. – Изнемогший, он сам истекал кровью, перебитая рука болталась, в сапоге жмыхала кровь.
Летали, рвались неприятельские бомбы, стегала картечь, пули с визгом вырывали обреченных. Мужественные гренадеры и прочие потрепанные неприятелем полки все еще держались, как непреоборимая стена.
Однако от минуты к минуте русскому фронту становилось тяжелей. Вот уже два часа отстреливались от ретивого врага, но были на исходе порох и свинец. Некоторые смельчаки с отчаянием бросались вперед, выхватывали из сумки убитого противника порох, патроны и посылали во врага его же пули. Иные, раненые, окровавленные, прижавшись спиной к дереву, бессильно оборонялись штыками, били врага прикладами. Иные, в припадке безумия, остервенело кидались в толпу неприятеля, мысля поразить их всех, и, растерзанные, гибли.
Наши ряды сильно поредели, офицеры побиты и поранены, фронт дрогнул, круто подался вспять, ближе к лесу. Неприятель, заметив эту ретираду, с удвоенным ожесточением бросился на отступавших.
Завязался дьявольский рукопашный бой.
Того, кто обессилел, кололи, топтали, как падаль, резали, душили. Русских осталось немного; неприятель подавлял числом и натиском свежих сил. Изнемогающий генерал Лопухин поощрял своих. Кричал безумным голосом:
– Вперед! Коли! Коли!..
Вот его схватили и, залитого кровью, волокли по земле в полон. Трое наших гренадеров, забыв, что сами погибали, разъяренными волками бросились выручать своего генерала и, уже мертвого, растерзанного, перетащили на свою сторону.
Вся опушка леса оглашалась воплем, стоном, криками убиваемых. Кровь текла ручьями. Прижатые к лесу, богатыри-гренадеры все еще продолжали обороняться с яростью. Но враг уже врезался в обоз и победоносно бежал дальше, в самый лагерь. Полное поражение русских было очевидно. Враг торжествовал.









































