Текст книги "Из недавнего прошлого одной усадьбы"
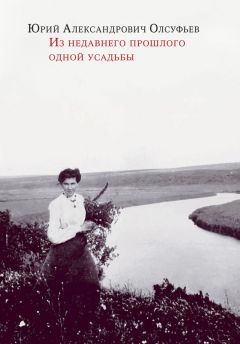
Автор книги: Юрий Олсуфьев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Рядом с витриной, и тоже на подоконнике, был привинчен железный ларчик, в который запирались деньги. В простенке между окном и юго-западным углом стоял несгораемый шкаф с различными документами; в нем хранилась и старая вотчинная железная печать Буец – Олсуфьевский герб с графскою короною и с надписью кругом: «Село Красное Буйцы тож с деревнями». Прежде этот несгораемый шкаф помещался в нижней кладовой на Фонтанке. На шкафу стоял тяжелый железный ларь со сложной системой секретных замков; он сооружен был в слесарной мастерской моего отца, устроенной им в Никольском, когда он, состоя уже адъютантом цесаревича, был вольнослушателем Технологического института и увлекался прикладною техникой. В этом ларе хранились буецкие планы начиная с XVIII столетия с торжественными титулами владельцев, выписанных полностью, вроде: Его Высокопревосходительства генерал-аншефа и таких-то орденов кавалера и т. д. Ларь этот прежде, во времена столь памятного для Буец управляющего Василия Феодоровича Гана, находился в конторе, которая раньше, кажется еще в крепостное время, помещалась в кухонном флигеле, затем была перенесена в западный флигель, сохранивший название Ганского от жившего в нем при конторе управляющего Гана и, в конце концов, – в так называемый «Большой» дом, построенный в начале 80-х годов.
Василий Феодорович Ган был управляющим в Буйцах в мое раннее детство. Жена его Юлия Карловна, конечно, занималась молочным хозяйством. Василий Феодорович считался хорошим хозяином и хорошим строителем, в чем они особенно сходились с моим отцом, таким же любителем строительного дела. При нем, должно быть еще в конце 70-х годов, было введено в Буйцах девятипольное хозяйство, была приобретена паровая молотилка английского завода Маршалла, чуть ли не первая в уезде, были заведены различные сельскохозяйственные машины, а старые здания перестраивались и покрывались железом. Я еще помню в детстве эти огромные риги с широкими растворами и узкими калитками, сложенные из белого известкового камня, иногда с топчаками, с высокими соломенными крышами, в которых жили сычи и из которых выглядывали остроконечные окошечки; как уютны и домовиты были эти риги, в которых с давних времен под протяжную песнь и мерные удары цепа слагался тот мирный крепостной уклад, который сохранил свои тихие образы на полотнах Венецианова.
Василий Феодорович называл мою мать «грефиня», рожь – «аржа», а картофель был у него неизменно женского рода – «картофель она»; по утрам, бывало, он приходил к бабушке графине Марии Николаевне пить кофе, следы которого уносил на своей длинной седой бороде и усах. Раньше он служил у дяди моего графа Алексия Васильевича в его орловском имении Голубеях[55]55
Голубеи, как и Буйцы, были родовой вотчиной, доставшейся от Голицыных через тетушку княгиню Ек. Ал. Долгорукову.
[Закрыть] и любил вспоминать и рассказывать про дядю. Несмотря на то, что он был лютеранином, он состоял у моего отца помощником церковного старосты и, стоя за свечным ящиком, ревностно исполнял свои обязанности. Затем Василий Феодорович уходил и был снова приглашен управлять Буйцами уже в годы моего отрочества, когда он и умер; он похоронен был в церковной ограде Буецкой церкви.
Прислоненной к этому ларю и обращенной к письменному столу стояла в тонкой белой рамке гравюра с портрета Зарянки цесаревича Александра Александровича. Мой отец особенно любил этот портрет, который напоминал ему время его назначения к великому князю адъютантом. Цесаревич без бороды (впрочем, бороды были тогда запрещены), с небольшими усиками, с приятным, мужественным выражением лица. После кончины государя мой отец просил императрицу дать ему портрет Зарянки, но государыня пожелала его оставить у себя.

Глебовы, Толстые и Олсуфьевы у памятника на Куликовом поле. Начало XX века. Частное собрание, Москва
На том же несгораемом шкафу лежало большое конское тавро кованого железа с инициалами моего прапрадеда князя Александра Михайловича Голицына и с княжеской короною; оно сохранилось со времен буецкого конного завода прапрадеда, о котором до сих пор свидетельствуют варки и старинные просторные конюшни Буецкой усадьбы. Над шкафом и железным ларем висела копия маслом с портрета Крюгера моего деда Василия Дмитриевича, сделанная Цехановским; он в придворной форме и в Александро-Невской ленте; портрет был заключен в широкую черную раму; раньше он висел в кабинете моего отца на Фонтанке.
Вдоль восточной стены стоял длинный дубовый ларь немецкой работы XVII века[56]56
Ларь был издан в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с.19 вверху и 31].
[Закрыть]; на его стенках были изображены тонкой рельефной резьбой сцены из Священного Писания. Этот ларь прежде стоял у моего отца в Петербурге и, кажется, привезен им был из Дании. Между ларем и дверью в чердачную комнатку стоял стол, сделанный по заказу моей матери из шлюзного дуба по образцу крестьянских; под ним был продолговатый ящик с отделениями, в которых хранились письма: моих родителей ко мне, дяди Алексея Васильевича на английском языке, которым любил блеснуть дядюшка, моей няни Александры Алексеевны, друзей моего детства и т. д.
На дубовом ларе стояла фотография государя Александра III в рамке красного дерева с золоченой короной, пожалованная моему отцу императрицей после кончины государя и снятая незадолго перед тем; я хорошо помню государя именно таким в Крыму в начале 90-х годов, когда мне мальчиком случилось быть при моем отце в Севастополе во время царского смотра флота; я был при отце и за высочайшим завтраком, который имел место на одном из броненосцев; вдруг, во время закуски, государь, обратившись ко мне, предложил мне выпить чарку водки за его здоровье, что я и исполнил с восторгом; в это же, кажется, пребывание в Крыму государь добродушно во время прогулки в Гурзуфе вымазал меня и великого князя М<ихаила> А<лександровича> известью; кажется, за год до этого и тоже в Крыму я красил яйца с в<еликим> к<нязем> М<иха илом> А<лександро вичем> в Ливадии и был одет в английской курточке с толстыми шерстяными чулками, которые склонны были спускаться, а государь, заметив это и подкрадываясь сзади, зацеплял их крючком своей палки, чем, конечно, ускорял их падение; затем – пройденная акварелью фотография моей матери, кажется, невестой, в бархатной рамке темно-бордового цвета; фотография моего двоюродного брата графа Дмитрия Адамовича Олсуфьева, маленькая фотография моей матери девушкой с собакой King Charles Рико и небольшая фотография в стеклянном пресс-папье старушки няни моей матери Дарьи Ивановны Ярцевой. Я хорошо помню няню древней старушкой, которая, бывало, присматривала и за мной в моем раннем детстве и говорила про себя и меня: «старый да малый». Няню очень любила моя мать, при которой она пробыла несколько десятков лет. Она отличалась прямотой, и когда обрадованная бабушка привезла к ней моего отца женихом и спросила ее: «Ну, каков жених?», то няня отвечала: «Поживем – увидим». Впоследствии она очень полюби ла моего отца, который платил ей тем же. Няня умерла у нас на Фонтанке в 80-х годах; на ее памяти было нашествие Наполеона, которого она даже, кажется, видела где-то под Москвою.

Граф Дмитрий Адамович Олсуфьев. Начало XX века. Частное собрание, Москва

С. К. Зарянко. Портрет великого князя Александра Александровича. 1867. Государственный Русский музей, Петербург
Тут же были: портрет моего деда Василия Дмитриевича – круп ная миниатюра на кости, вставленная в широкую квадратную белую рамку, заменившую бронзовую, современную пор трету в духе Louis Philippe; большой серебряный ковш, украшенный частью старого Олсуфьевского герба (лев с колесом), с медалью в память закладки храма Спасителя, поднесенный моему деду Василию Дмитриевичу как московскому губернатору в то время; наконец, небольшой золоченый Будда, подаренный моим родителям бароном Андреем Николаевичем Корф<ом>, генерал-губернатором в Восточной Сибири в царствование Александра III, женатым на двоюродной сестре моей матери, на Софье Алексеевне Свистуновой – Sophie Korff. Софья Алексеевна была дочерью моей grand-tante [двоюродной бабушки] Надежды Львовны Свистуновой, рожденной графини Соллогуб, сестры моего деда графа Льва Львовича. Я помню тетушку Надежду Львовну в старости; она часто бывала у нас на Фонтанке и однажды приезжала в Буйцы со своей незамужней дочерью Марианною. Помню, как однажды в «нижней» гостиной при звуках вальса (играл Mr. Cobb) у старушки показались слезы: она вспомнила былое… В молодости она была красавицей, за ней ухаживал весь двор, Лермонтов писал в ее альбом стихи. У тетушки Надежды Львовны я видал акварель Гагарина – бал у Барятинских в Петербурге, в их доме на углу Миллионной и Машкова переулка; тетушка в воздушном красном платье участвует в grand rond [бальный танец], среди молодых кавалергардов – сын <хозяина> дома, будущий фельдмаршал князь Барятинский.
На том же ларе вспоминаю: кожаный бумажник алжирской работы; пепельницу, подаренную моему отцу императрицей Марией Феодоровной, – в виде горшочка для сметаны, но серебряного, облитого синей и коричневой эмалью; потом небольшую коробочку, искусно выточенную из черного дерева князем Алексеем Ивановичем Шаховским для моего отца и с его серебряными инициалами. Князь Алексей Иванович был женат на двоюродной сестре моего отца, на Софье Александровне Олсуфьевой, но давно овдовел. Был когда-то флигель-адъютан том государя Александра Николаевича, в турецкую кампанию командовал корпусом, впрочем, кажется, не совсем удачно; считался, да и был большим оригиналом; так, например, когда при Александре II был обычай целовать государя в плечо, то дядюшка не соглашался это делать, говоря, что целуют только женщин. Я его помню у нас на Фонтанке важным старым генералом; он был значительно старше моего отца, но любил его и любил бывать у него[57]57
В автографе «но любил и его и бывать у него». Исправлено О. в копии.
[Закрыть]. Он терпеть не мог давать руку, особенно молодежи, говорил чрезвычайно лаконично, любил вспоминать старое время, прекрасно представлял, как в старину входили в гостиную, держа в одной руке высокую трость, а в другой – шляпу. У него было две страсти: хороший, тонкий стол и токарный станок, на котором он был мастер по точке дерева и слоновой кости. Князь Алексей Иванович владел старым Олсуфьевским имением Вазерками Пензенской губернии, принадлежавшим некогда моему прапрадеду Адаму Васильевичу; оно было променено дяде Шаховскому Дмитрием Александровичем Олсуфьевым[58]58
Дмитрий Александрович Олсуфьев был женат на княжне Ольге Ростиславовне Долгоруковой, но с нею не жил. Они умерли приблизительно в одно время, и их гробы встретились во время похорон в Москве. Ольга Рост<иславовна> умерла в России, а Дмитрий Александрович – во Франции, где он прожил всю жизнь до старости. Он похоронен в Ростове.
[Закрыть], его шурином, на дом на Тверской.
Еще на этом ларе стояли: деревянный ящичек соррентской работы, серебряная кружка с рельефными сценами Куликовской битвы из серебра моего деда и, вероятно, того времени, за исключением крышки, которая, можно думать, была XVIII столетия; затем соррентской же работы шкатулка, в которую клались мною счета по постройке Куликовской церкви[59]59
При Куликовском храме-памятнике С<оня> учредила в 1917 году женский монастырь: «Сергиевскую женскую общину на Куликовом поле», которая была разогнана революцией.
[Закрыть], строившейся по инициативе еще моих родителей под моим председательством и на нашей земле на всероссийские сборы. Ее строил академик А. В. Щусев в духе стилизации древнерусских мотивов. Дмитрий Семенович Стеллецкий и В. Комаровский писали иконостас и немало противились той нарочитой архаичности, которой так увлекался Щусев; следствием такого воздействия на добрейшего Алексея Викторовича было то, что церковь значительно была упрощена и освобождена от надуманной архаики ее первоначального проекта.
Еще вспоминаю: бронзовые подсвечники – высокие колонки, копии с античных; бронзовую лампочку в виде головы фавна, тоже копию, кажется, с помпейской; наконец – два белых обливных глиняных, соединенных между собой, старорусских судочка, служивших у моего отца в его кабинете на Фонтанке для перьев, которые втыкались в насыпанную в них дробь. На соседнем с ларем дубовом столе лежали копировальные книги, копировальный пресс, портфели с почтовой и конторской бумагой и, в большом кожаном футляре, грамота государя Александра II на графское достоинство моему деду Василию Дмитриевичу.
Дед мой, Василий Дмитриевич, много лет состоял гофмаршалом при цесаревиче Александре Николаевиче и в день его коронации был возведен с нисходящим потомством в графское достоинство.

Церковь Сергия Радонежского на Куликовом поле. 1904–1917. Сооружена по проекту А. В. Щусева. Современная фотография
Василий Дмитриевич был человеком близким к Церкви, любил все родное, любил и проявление этого родного в памятниках старины. Он умел ценить все то, что представляло истинную культуру России, в особенности монастыри, Москву с ея сокровищами прошлого и ту духовную среду, которая могла выдвинуть такую личность, как митрополит Филарет. Последний уважал Василия Дмитриевича и не раз отзывался о нем в своих письмах. Императрица Мария Александровна как-то заметила, что она Василию Дмитриевичу обязана в своем обращении к православию. Мой дед был значительно старше наследника, и я не думаю, чтобы они вполне сходились во взглядах; можно с уверенностью сказать, что Василий Дмитриевич в отношении к наследнику, а затем и молодому государю был «plus royaliste que le roi» [ «большим роялистом, чем сам король»]. Мой отец, между прочим, рассказывал мне, что возвращавшийся однажды под утро с гвардейского кутежа наследник Александр Николаевич в сопровождении своих молодых сверстников подошел к двери кавалерского домика в Петергофе, где жил Василий Дмитриевич, и стал стучаться; вышел камердинер моего деда, его дворовый человек и, преградив дорогу расшумевшейся молодежи, строго заявил наследнику, что Василий Дмитриевич «почивают». Наследник сейчас же удалился и на другой день извинялся перед своим маститым гофмаршалом. Позже Василий Дмитриевич был назначен обер-гофмейстером (должность, первым носителем которой при Петре I был прадед его, тоже Василий Дмитриевич Олсуфьев), а в коронацию государя Александра Николаевича – состоящим при особе императрицы и заведующим делами августейших детей. Он умер в Риме в 1858 году внезапно; при кончине его был только мой отец, которому было лет 14; незадолго до кончины он говел и причащался Святых Тайн. Он похоронен был в Даниловом монастыре, где лежал и его отец – Дмитрий Адамович. Чин погребения совершал митрополит Филарет, о чем он упоминает в одном из своих писем к архимандриту Антонию. Грамота на графское достоинство[60]60
Грамота на графское достоинство содержит апокрифическую грамоту Иоанна Грозного Михаилу Ивановичу Олсуфьеву. Росписями Олсуфьевых между первым Олсуфьевым – Михаилом Ивановичем, жившим, судя по вышеозначенной грамоте ему, во 2-ой половине XVI века, и документально известным Афанасием Даниловичем Олсуфьевым, жившим во второй половине XVI и в начале XVII века, дается три имени: Якова, Тимофея и Даниила, что не может совпадать с действительностью, принимая во внимание столь короткий промежуток времени. Тут одно из двух: или росписями выдуманы лишние имена, или следует признать, что Михаил Иванович жил не позднее половины XV столетия. Недавно открытые данные документально устанавливают личность Тимофея Олсуфьева, причем на основании тех же данных рождение его должно быть отнесено или к концу XV, или к самому началу XVI века (из факта совершеннолетия его внука Михаила Сысоева, сына его дочери Домны, в 1577 году, см.: С. Шумаков. Обзор грамот Кол<лежской> экономии, в <томе> I. М., 1899, стр. 16 и стр. 34). Эти данные, подтверждая правильность Олсуфьевских росписей, позволяют относиться к ним вообще с доверием. В таком случае остается признать, что Михаил Иванович жил не в XVI, а в половине XV века, и что сомнительная и в других отношениях грамота Грозного (см. мои «Матерьялы для истории рода Олсуфьевых». М., 1911 и мою заметку в «Летописи Историко-родословного общества», 1914, вып. 1, 2: «Несколько слов о происхождении рода Олсуфьевых») является вымышленной, причем составитель ее невольно приблизил первого Олсуфьева на сто или полтораста лет(Аквавтографе, а в копии – «старцу».).
[Закрыть] была написана на пергаменте, и в ней был изображен в красках новый Олсуфьевский герб, который содержал кроме эмблем старого, еще герба времен Петра I, эмблемы новые – кресты и орлиное крыло с крестом, с заменою старого девиза «In Deo spes mea» [ «На Бога уповаю»] тоже новым: «Никто как Бог».

Граф Александр Васильевич Олсуфьев. Портрет работы П. И. Нерадовского. 1906. Государственный Русский музей, Петербург

Дмитрий Адамович Олсуфьев. Акварель. Начало XIX века. Частное собрание, Москва

Василий Дмитриевич Олсуфьев. Миниатюра. 40-е годы XIX века. Частное собрание, Москва
Над ларем, почти во всю ширину стены, в тонкой черной рамке висела старая английская гравюра – «Поклонение волхвов»; у Божьей Матери – типично английское выражение. Посередине стены висел поясной портрет моего отца, написанный маслом Петром Ивановичем Нерадовским в Петербурге, за год или за два до кончины отца; отец изображен в натуральную величину в бухарском халате, который он любил надевать по утрам и который был дан ему по какому-то случаю эмиром Бухарским. Другой такой портрет, сделанный одновременно, но на котором отец с несколько иным выражением, был у моего брата графа Дмитрия Адамовича на Фонтанке. У отца – грустное, болезненное выражение; он уже был тогда болен, но выражение это часто бывало у него и раньше. Портрет был в рамке светлого дуба, прямой, с округленными углами.
Под этим портретом висела фотогравюра моего воспитателя горячо любимого Mr. Cobb, снятая в 93-м году в Алжире фотографом Geiser’ом, на вилле которого мы и проводили тогда зиму. Ближе к двери висели небольшие портреты: моего отца, мальчиком, с собакой Бушкой, в костюме, который носили мальчики, игравшие с великими князьями, сыновьями государя Александра Николаевича; фотография моей матери девушкой, в пестром итальянском платье, очень, между прочим, похожая; она была подарена мне по моей просьбе тетушкой Екатериной Константиновной фон Дитмар; фотография моего деда графа Льва Львовича Соллогуба, где он в штатском, снятая, вероятно, на водах за границей, где-ни будь в Баден-Бадене, про который, по рассказам моего дяди Е. В. Энгельгардта, дедушка любил напевать:
Баден-Баден так хорош,
Что на рай земной похож,
Там девицы все гуляют
И мой взор всегда прельщают,
на что бабушка графиня Мария Николаевна укоризненно произносила: «Finissez, Leon!» [ «Левушка, прекрати»]; парный ему портрет бабушки графини Марии Николаевны; фотография моего деда графа Василия Дмитриевича в шубе и меховой шапке, какой тогда не носили и за которую в связи с ношением им серьги в левом ухе (которую носил и мой отец) и с московскими вкусами деда находились люди, которые считали его старовером; на самом деле дед любил старообрядцев за их традиционность, и они долго хранили о нем в Москве благодарную память; фотографии моей бабушки графини Марии Алексеевны: одна – маленькая, пройденная красками, другая, снятая в Ревеле, – бабушка выглядит добродушной бодрой старушкой, она вся в белом: белый чепчик и белое платье; затем – третий портрет бабушки, увеличенная копия с предыдущего, сделанная Нерадовским маслом и вставленная в старинную черепаховую рамку; наконец, фотографии: моей двоюродной сестры Лизы Олсуфьевой, графини Елизаветы Адамовны, и отца Георгия Соболева, обе снятые Нерадовским. Лиза – перед Никольским домом; светлая, радостная, любвеобильная, она умерла в конце 90-х годов, около 30 лет, всеми искренно оплакиваемая; граф Лев Николаевич Толстой написал ее родителям полное самых горячих чувств письмо; на ее похоронах в Никольском сошлось буквально все окружное население, среди которого Лиза провела всю свою жизнь; но это влечение к народу в ней не было «народничеством», этим уродливым проявлением шестидесятничества, нет, это была простая любовь к народу, который ей был милее всего на свете; Лиза, оставаясь преданной Церкви, несмотря на то, что тетушка графиня Анна Михайловна по своему рационализму уклонилась от нее, как-то выразилась: «Люблю я нашу Церковь, бедненькую и потрепанную», какой русскую Церковь делало в глазах общества отношение к ней той университетской среды, в которой любила вращаться тетушка; но не прошло и нескольких десятков лет, как «передовая» мысль эволюционировала в сторону Церкви, далеко теперь идеологически не «бедненькой» и не «потрепанной».
Фотография отца Георгия, или «отца Егора», как все его звали в Буйцах, изображала его на завалинке его ветхого домика, с открытым Евангелием в руках, с волосами, заплетенными в косичку. Отец Егор пробыл настоятелем Буецкой церкви свыше пятидесяти лет, помнил похороны Александр I, тело которого везли через Тулу, и знал еще мою прабабушку княгиню Екатерину Александровну Долгорукову, которой Буйцы принадлежали до начала сороковых годов и где она, между прочим, прожила во время нашествия французов на Москву в грозный 12-й год. Отца Егора очень любили мои родители, и простодушный батюшка, в свою очередь, был глубоко предан нашей семье. Он любил рассказывать про доброе старое время в Буйцах и вспоминать приезды их владельцев, членов нашей семьи, в особенности моего деда Василия Дмитриевича. При моем поступлении в университет отец Георгий благословил меня серебряным старинным крестиком, найденным в Буйцах, который хранится у меня до сих пор; он скончался почти в одно время с моей матерью и похоронен рядом со склепом моих родителей, немного восточнее; памятника над собой он просил не ставить, просто и смиренно говоря: «Пусть по мне ходят».
Первым его крестником в Буйцах был дядька мой Митрофан Николаевич Стуколов, умерший в 8-м году, когда ему было за шестьдесят лет. Я уже, кажется, упоминал о Митрофане, без которого нельзя себе представить не только Буец моего детства и молодости, но и моих родителей, поэтому не могу не воспользоваться здесь случаем и не посвятить ему несколько строк моих воспоминаний.
Прежде всего Митрофан, или «Николаевич», как его звали, не был «лакеем», а неотъемлемо входил в состав нашей семьи. Он был из буецких крепостных, затем служил в Буйцах же у Владимира Александровича Олсуфьева, был взят в солдаты и, проделав всю войну 77-го года с лейб-гвардии Литовским полком, включая Плевну, поступил к нам в дом в год моего рождения в качестве выездного моей матери. Он был довольно высокого роста, худощав, носил небольшие бакенбарды, ходил прямо и ровно и ценил свою походку. Я так и вижу его в серой тужурке с серебряными гербовыми пуговицами, toujours avec un mot pour rire, всегда с готовой пословицей на устах или каким-нибудь экспромтом – рифмою вроде «Роман, худой карман», но всегда кстати и очень метко. Николаевич обычно слегка юродствовал и говорил скороговорками, как, например: «Потерянного ворохами не соберешь корохами», или «О, Господи, без беды разве Бога вспомнишь», или, обращаясь ко мне, которому часто говорил на «ты», – «Не свисти, Святого Духа высвистишь», и т. д. Николаевич страстно любил Буйцы, это «золотое дно», по его выражению; любил вспоминать крепостное время и смешно рассказывал, как он получил розги на конюшне за то, что погубил всех откармливаемых каплунов в лесу «Заказ», которым он не нашел ничего лучшего как протыкать билизу палочкой. Он любил хозяйство и ценил людей хозяйственных. Несмотря на свою самую искреннюю преданность нашей семье, он никогда не забывал своих односельчан, интересы которых он всегда старался согласовать с таковыми своих господ.
Много рассказов существовало про его чудачества; в особеннос ти любила и умела их рассказывать Ольга Алексеевна Сперова, милая «Оля» моего детства, сестра няни Александры Алексеевны. Так, вскоре после поступления Митрофана выездным моя мать велела ему ехать «вместе» с нею «по визитам», и вот Митрофан, в ливрее, не замедлил последовать за моей матерью в карету, оправдываясь на ее удивление ее же приказанием ехать с нею «вместе». Докладывал он не иначе как «наша графиня приехала». Раз как-то карета моей матери внезапно остановилась среди шумной улицы и видно было, как Митрофан жестикулировал и с кем-то оживленно говорил с козел; моя мать озабоченно высунулась из окна кареты, чтобы узнать не задавили ли кого, на что Митрофан преспокойно отвечал: «Земляк вон, Шаталин Василий, вон на бочке-то едет, три года не видались!» Этим объяснилась остановка кареты. Когда Николаевич был уже приставлен ко мне в качестве дядьки, то как-то в Петербурге моя мать вошла в детскую и, почуяв сильный запах лука, недовольно стала наговаривать Николаевичу: «Разве ты не знаешь, что у нас сегодня гости будут обедать, а ты опять ел лук!», на что Николаевич хладнокровно возразил: «А вы-то его нешто не ядите?!» Николаевич любил выпить, даже иногда пивал запоем, и тогда он был «нехорош». После одного такого случая моя мать, желая его припугнуть, рассерженно заявила ему, что она его совсем отправит, на что Николаевич, размахивая руками и крича, как бы отругиваясь, отвечал: «Отправите, отправите, куда отправите, я и так дома!»
Набожным Николаевича нельзя было назвать, как и вообще беззаботный буецкий народ, но последние годы своей жизни, после смерти своей жены Василисы Никифоровны и моих родителей, он сильно тосковал и часто повторял, обращаясь ко мне: «Нет, граф, пора, пора и мне туда, отжил, довольно, наших там больше!», разумея под «нашими» членов своей и нашей семьи. Он умер-уснул в самый день Рождества 908-го года; нам пришли об этом сказать, когда все мы (я с С<оней> и семья Глебовых) готовили елку для сына М<иши> в буецкой столовой.
Николаевич был очень ласков ко мне в детстве, бывало к урокам будил чуть слышно, говоря: «Голубок, а голубок, вставать пора; одеваться не копаться, а выходить погодить». Он будил так тихо, что я сейчас же опять засыпал, и когда его за это укоряли, то он оправдывался, что будил, но что будил тихонько, чтобы не разбудить, причем добавлял: «Мы-то все одни, а их много!» Под «их» подразумевались мои учителя. Честности Николаевич был безукоризненной. Николаевича особенно любила моя тетушка Ольга Васильевна Васильчикова, называла его, как я в детстве, «Ми», вязала ему шарфы и неизменно обнималась с ним при встрече.

Отец Егор (Соболев) – священник церкви Архангела Михаила в Красных Буйцах. 90-е годы XIX века. Частное собрание, Москва
Однако пора продолжить описание моего кабинета, от которого я невольно отвлекся. На белой двери, которая вела в чердачную комнатку, или кладовку, висел рисунок начала 80-х годов Цехановского нашей церкви, затем фотография старого Олсуфьевского дома на Девичьем поле, подаренная мне Т. В. Олсуфье вой, фотография торжественного поезда маленького наследника Алексея Николаевича к святому крещению в Петергофе: его везут в золотой карете, непосредственно за которой едет верхом на своем смирном Сером мой отец в полной генерал-адъютантской форме, которому была оказана честь везти цесаревича к купели; за ним командир конвоя барон Александр Егорович Мейендорф и другие лица, назначенные участвовать в церемониале; потом фотография парада: перед фронтом какой-то пехотной части проходит, здороваясь с нею, государь Николай Александрович, а за ним, в качестве дежурного генерал-адъютанта, идет мой отец. Над дверью висел продолговатый карандашный рисунок того же Р. К. Цехановского – буецкий вид из дома в начале 80-х годов; вещь очень посредственная, но она живо переносила меня в годы раннего детства и почему-то всегда напоминала мне цвет жасмина вдоль дорожки «старого» сада, посыпанной ярким золотистым песком: сияющий июньский день, я в платьице сбегаю по этой дорожке среди гула пчел, жадно собирающих свою душистую ношу, а с балкона доносится ласковый зов няни. Впоследствии эта дорожка была уничтожена, а жасмин был пересажен в так называемый «английский» сад.
На перегородке, отделявшей лестницу, на стенке ее, обращенной к югу, висел большой эскиз Стеллецкого тульской Палаты древностей, несколько в духе иконописных строений; к сожалению, по недостатку средств он не был осуществлен. Под ним, за прибитой планочкой, размещались мои ножи: тут был любимый мой в детстве финский нож «фискарс», подаренный мне моей матерью, и другой «фискарс» с моими инициалами, вырезанными на его рукоятке черного дерева моей гувернанткой Miss Southworth, и другие спутники моего мальчишеского возраста, когда особенно дорожат такими предметами.
Внизу, у стенки этой перегородки, был деревянный приступчик, так же, как и вся перегородка, выкрашенный в белую краску; он повышал собою пролет лестницы; на нем стоял старорусский окованный ларец, подаренный мне на свадьбу моей двоюродной сестрой М. А. Васильчиковой, затем кожаный porte-feuille [бумажник] с многочисленными отделениями – подарок императри цы Марии Феодоровны моему отцу, и кой-какие папки с разными ненужными бумагами, которые хранились на «всякий случай». На ларце стоял глиняный подсвечник для пяти свечей[61]61
Подсвечник издан в «Золотом руне» при ст<атье> А. И. Успенского [Коллекция старинной мебели гр. А. В. Олсуфьева, с. 24 справа и 33].
[Закрыть] – образец русской народной керамики. Другая стенка перегородки, обращенная к востоку, была вся заставлена доверху дубовой этажеркой, сооруженной еще при моем отце его любимым плотником буецким крестьянином Феодором Корбоновым, этим талантливым самоучкою, который был одновременно и слесарем и машинистом и который с сыном своим Степаном, тоже теперь покойным, изобретал машину perpetuum mobile. При этом Корбонов был представителем ультраконсервативной, если применимо такое выражение к крестьянам, части буецких мужиков, выписывал себе «Крестьянский вестник», одно время «ходил» в старшинах, любил говорить о законности, за что и сам был прозван в селе «человеком законным».

Елизавета Адамовна Олсуфьева в усадьбе Никольское Дмитровского уезда Московской губернии. Около 1895. Частное собрание, Москва
На полках этажерки хранились отчеты по имениям, которые я сам ежегодно тщательно сводил, отчеты по мастерской вышивок, по приюту, записные книжки, тетради с записями по хозяйству и записями личными, ружейные футляры, астролябия моего отца, сопровождавшая его, кажется, в Америку, и несколько глиняных кувшинов с медведями из коллекции народной керамики моей матери, составленной ею в начале 80-х годов и стоявшей прежде в старой буецкой столовой, обращенной нами в так называемую «красную» гостиную, о которой речь будет впереди; такие кувшины были поднесены как-то моим отцом государю Александру Александровичу, который пожелал заказать по их образцу серебряные; эти глиняные произведения выделывались преимущественно в соседнем Скопинском уезде.
Кроме того, на полках годами лежали какие-то ящички с давно забытым содержанием, фонари, фотографические пластинки и всякого рода неопределенные вещи, которые трудно описать на память, но которым свойственно заполнять полки давно обжитого дома. Среди записных книжек вспоминается одна небольшая в твердом переплете – это был детский дневник моего отца 50-х годов. Записи велись по дням, и события, по-видимому, относились к жизни его семьи за границей; фигурируют фамилии Столыпиных, Вяземских, семьи поэта. В конце дневных записей неоднократно читается: «Опять Машеньку прибил». Машенька – младшая сестра моего отца, будущая баронесса Мейендорф. Зато на одной из страниц поперек имеется запись и самой Машеньки: «Сашка все врет»[62]62
Отрывок текста, начиная с фразы «Среди записных книжек…» и до конца, в автографе отсутствует, вписан О. на отдельный листок и вложен в копию.
[Закрыть].
С этим кабинетом, с этой «светелкой», как звал эту комнату мой отец, вяжутся в памяти счастливые для меня приезды моего отца в годы моего детства. Каким праздником были для меня эти приезды! Отца ждали с нетерпением не только я и наша семья (моя мать и бабушка), но и вся усадьба: всюду слышалось – «граф едет». В назначенный день я ехал навстречу верхом на своем неизменном Талисмане, в сопровождении милой Miss Southworth верхом на рыжем Магните и конюха Степана Бусагина, разодетого в татарский наряд – черный с золотом, одна из причуд моей матери. Но вот уже за Кащеевским лесочком в пыли жаркого июльского дня показывается ямщицкая тройка (отец почему-то не любил выписывать на станцию своих лошадей); отец в белом кителе и в флигель-адъютантской фуражке; он не один, с ним дорогой друг нашей семьи Эдуард Клепш. Они оба радуются выбраться на простор епифанских полей после придворной сутолоки в Красном Селе; спешим к дому, а там – рассказы отца о государе и его семье, осмотры хозяйства и веселые прогулки по любимым местам красивых Буец.

Поляна в Саликовом лесу. Слева направо представлены П. А. Меглицкий, кучер Павел, Н. П. Богоявленский, бабушка графиня М. Н. Олсуфьева, мистер Кобб, А. В. Олсуфьев, кучер Степан Бусагин, П. А. Яблочкина, Н. П. Богоявленская и Е. Л. Олсуфьева. Около 1890. Частное собрание, Москва
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































