Читать книгу "Жизнь и литература"
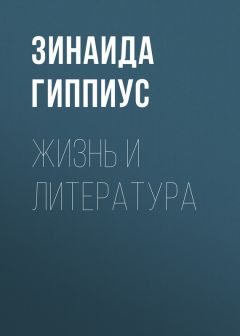
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Зинаида Гиппиус
Жизнь и литература
У нас есть новый герой: обыватель. Это пошла такая мода, чтобы думать прежде всего о русском обывателе, чуть не о петербургском даже, считаться с ним, подлаживаться к нему, поощрять его, стараться заслужить его внимание. Что интеллигенция! Несовременно думать о какой-то интеллигенции. Да и где она? Били по ней достаточно со всех сторон, забили в угол, – сиди смирно, служи, коли можешь, обывателю, притом скромно, без шума. Интеллигенция все-таки «цвет», «избранные», а обыватель – масса и, значит, сила. В старые времена силой казалась масса народная; но с тех пор мы возлюбили «реальность» и утопическими мечтаниями о далеком «народе-сфинксе» нас не проберешь. Обыватель же рядом, а если тоже порою «сфинкс» – разгадывать его загадки легко. «Средний человек» – вот чье внимание надо привлечь. И не забудем, что нынешние обыватели – торжествующие, довольные, капризные, а отнюдь не серая чеховщина, которая вечно тосковала и куда-то бессильно рвалась.
Новая политика с обывателем такова: ничего не требовать сверх его обывательских сил. Пусть он остается, как есть, пусть делает, что делает, ходит в скэтинги и ломится в цыганские концерты, – Боже сохрани его запугивать. Надо помаленьку добиваться, чтобы он изредка почитывал, развивался культурно, подумывал иногда о больших вопросах, воспитывал свою волю и, занимаясь спортом или дежуря ночь около Мариинского театра, делал бы это «под знаком» воспитания воли. Таковы модные, более чем умеренные, надежды на обывательскую массу, преимущественно на обывательскую молодежь.
У меня есть друг, который часто напоминает мне щедринского Глумова. Он без дальних слов стыдит меня: что вы делаете! Время ли писать о книжках? Обыватель сейчас не только мнениями о книжках не интересуется, но и самими книжками нисколько. Обыватель занят, помимо своих дел, – войной. Он газеты читает.
Однако, что же делать литературному критику? Не писать же о войне? Друг советует смириться, переждать.
– О чем и говорить-то? – упорствует он. – Не видите разве, что у самих писателей заминка? «Сезон» начался, а где интересные книги? Не выходят, нету. Даже дряни, и той меньше, чем в обычное время.
Все это убедительно, а я не смиряюсь. Во-первых, если нет сегодняшних интересных книг, то есть вчерашние; а во-вторых, – и это главное, – я принципиально не хочу подчиняться новой моде и подлаживаться под интересы обывателя. Пусть себе он читает газетные корреспонденции, или что хочет. Мне все равно.
По правде сказать, в последнее время и беллетристика пошла обывательская. То ли писатель бессознательно следует моде и «считается» со вкусами обывателя, то ли сам, из прежнего «пророка», выродился в обывателя. Даже фантазия современных романистов бывает похожа на послеобеденное мечтание какого-нибудь чиновника или правоведа… буде правоведы мечтают о «возвышенном». Один Сологуб еще умеет говорить о том, о чем обыватель, ни молодой, ни старый, не домекнется. Ну, за то Сологуб и не «популярен». Известен, но не популярен. Недавние цифры показали, что Сологуба читают во сколько-то раз (в тысячу, кажется, боюсь ошибиться) меньше, чем г-жу Вербицкую. В литературе о ней если говорят, то с улыбкой, я не знаю ни одного «интеллигента», ради собственного удовольствия прочитавшего «Ключи счастья», – а вот обывательская молодежь впивается; питается этими «Ключами». Скажи, кого ты любишь, я скажу, кто ты. Современная молодежь сказала, что любит г-жу Вербицкую; мы, значит, имеем право назвать эту молодежь, в средней массе ее, – обывательской. Потому что г-жа Вербицкая – чистый идеал писательницы-обывательницы, и уж я прошу здесь поверить мне на слово, без доказательств: в критический разбор «Ключей» я пускаться все равно не буду.
Далее статистика нам открывает, что сейчас после Вербицкой (на втором месте) стоит Амфитеатров. Им питаются не так жадно, как «Ключами», но тоже очень жадно.
Признаюсь, это меня удивило. Уж я скорее ждал Андреева или Куприна после Вербицкой – нет, Амфитеатров. Ему, не кому другому, уготовал обыватель трон впереди Льва Толстого. Такова жизнь.
Поговорить об Амфитеатрове не с обывательской, а с литературной точки зрения я считаю полезным; его место в литературе хотя и явно среднее, но еще какое-то неопределенное. Говорят о нем мало и тоже неопределенно.
Это писатель знакомого, по существу неопределенного, типа. Кто он? Беллетрист? Критик? Публицист? Хроникер? Репортер? На каждый вопрос приходится отвечать «нет», а на все вместе – «да». Тут еще нет ни дурного, ни хорошего. Писателей этого типа у нас было много (Глеб Успенский, Щедрин); если не было гениального, то мог быть. Но гений, или высокий талант, никогда не смешивает разные формы творчества; они соединены в его личности, связаны ею одною, главным образом. Щедрин – беллетрист – законченный, действительный беллетрист. Его «Пошехонская Старина» может стать рядом с «Детством и Отрочеством» Толстого, и конечно, она выше сладковатого аксаковского «Багрова внука».
По тому смешению, которое царит в книгах Амфитеатрова, мы угадываем сразу средний талант. Его последние «исторические» романы («Конец Старого века», «Восьмидесятники» и др.) – хаос бесспорный. Собрание анекдотов, повествование, сплетня, репортаж, мемуары, – что это? – Имена вымышленные перепутаны с настоящими, упоминаются люди, до сих пор здравствующие, – я не удивляюсь, что многие читают «роман» с любопытством именно к сплетне, пытаются угадать знакомых и там, где имя скрыто. Помнится даже, что к автору обращались за подобного рода разъяснениями, и он отвечал. Слишком ясно, что «роман» не должен возбуждать таких интересов, примитивное чутье художника не должно бы допускать дешевки. Вот, значит, еще одна определенная черта: Амфитеатрову недостает художественного чутья.
Способности у него, однако, есть, и большие. Он сочен и порою гибок; но та вечная претензия на силу, которая выражается вечной грубостью, смелость, которую мы поневоле должны отметить, как пошлость, – весьма умаляют способности писателя. Амфитеатров – самоуверен, как все, кто искренно принимает плоскость за глубину.
Станет такой человек в канавку, думая, что стал в бездну; глядь – бездна-то ему по колено, ну как же не уверовать в себя? Со стороны немножко смешно, а ему и невдомек. Я случайно пробегал статейки Амфитеатрова в каких-то заграничных газетах; и, право, даже удивлялся. Человек, все-таки, образованный, во всяком случае, начитанный, и под этим – первобытно-грубое миросозерцание, поражающее своей несвоевременностью. Амфитеатров любит повторять, что он «позитивист»; но, к сожалению, это не научный, спокойный, а ликующий позитивизм… ну, хотя бы семинариста, вчера открывшего, что батюшки-преподаватели все врут, «ничего того нет», уверенного притом, что он открыл Америку. Отбросить «всякую чепуху», и тогда все ясно. Меня и удивляет-то в Амфитеатрове не позитивизм, а вот эта стопудовая примитивность и продолжительность ликования; взрослый писатель с большими способностями, наблюдательный, живой, – а мыслью и не обертывается в сторону того же позитивизма, не пытается заново его пересмотреть, подновить как-нибудь. Не пора ли?
В прежнее время у Амфитеатрова попадались остроумные фельетоны и даже бессознательно-глубокие (по замыслу) рассказы. Мне до сих пор помнится какая-то полусказочная повесть его о кучке культурных людей, попавших на пустынный остров, и о том, что из этого вышло. В последние годы, вместо ярких порою фельетонов, Амфитеатров дает нам (в тех случаях, когда пишет о литературе), – грубую ругань «с плеча», непременно подправленную этим своим семинарским «позитивизмом»; а вместо грубоватого, но спокойного рассказа – псевдоисторический, сплетнический роман, полный натянутых приключений. Успех Амфитеатров имеет, однако, теперь; теперь, а не раньше, возлюбил его обыватель; значит, писатель именно в позднейшие времена спустился к обывателю, подошел к нему, забавляя сплетнями и приключениями. «Позитивизмом», каким угодно, обывателя не возьмешь; ему плевать на всякое миросозерцание; Вербицкая может завтра сделаться теософкой, послезавтра буддисткой, затем материалисткой – спрос на ее книги от этого не уменьшится и не увеличится. Лишь бы дешевка была, и даже все равно какая: сплетническая, романтическая, ницшеанская, рокамболевская, – лишь бы дешевка.
Когда пишешь об Амфитеатрове, – невольно и упорно приходит на память другое имя, другого писателя, очень родственного по типу с Амфитеатровым, имеющего или имевшего с ним общие черты. В сфере журналистики, по крайней мере, они стояли близко друг к другу. А сейчас этого последнего писателя и журналистом назвать уже нельзя. Что он такое – Бог знает.
Я говорю, конечно, о Дорошевиче.
Способности и у него были не малые, в стиле амфитеатровских; одно время, говорят, он имел высокий успех среди массы обывательской, газеты почитывающей; доныне осталась «репутация», хотя газетного обывателя он уже не забавляет – надоел. Был, впрочем, только успех – не влияние. Это надо оговорить. Влияния Дорошевич никогда не имел, как не имеет его сейчас и «успешный» Амфитеатров. Да и возможно ли влияние писателя-обывателя на читателя-обывателя? Раз он и они – одно…
Я никогда не видал картины такого полного разорения, какую являет Дорошевич. У Амфитеатрова пусть ломаные, но какие-то есть свои гроши за душою, остались; Дорошевич растратил все, до последнего кодранта. Ему настолько не о чем писать, что он уже потерял связность речи; и как теперь ни вертится – хитрый обыватель и глазом не мигает. Хоть разорвись Дорошевич – на полушку не поверит никто: банкрот. А я до сих пор помню старые-престарые, живые и сильные, сибирские фельетоны молодого Дорошевича; резкие, острые и живописные. Были же способности, был капитал, – такое разорение! Кто виноват – не все ли равно? Я наблюдаю явление и невольно жалею о пропавшей объективной ценности.
Быть может, разность судьбы этих двух писателей с родственными способностями повлияла на разность их положений. Внешне суровая к Амфитеатрову, судьба помогла ему, однако, сохранить свое за душой; коварно улыбаясь Дорошевичу – она обобрала его до последней нитки. Мы еще не знаем, что было бы, очутись в свое время Дорошевич эмигрантом (а это всегда и всякого облагораживает) и будь, напротив, Амфитеатров властным хозяином какой-нибудь большой газеты. Пожалуй, и было бы все наоборот. Уж очень однородны, одностильны способности этих двух, несомненно одаренных людей.
Заговорив о Дорошевиче – я отошел несколько от литературы. Но как было не вспомнить его, разбирая Амфитеатрова? У меня есть старинный приятель (этот уж совсем не типа суетливого Глумова), сам когда-то написавший книгу стихов, тонкий критик, поклонник Тургенева и Мопассана, человек old style[1]1
старый стиль (англ.).
[Закрыть], с нежной, как стебель, душой. Он давно уединился, отошел от современной литературы, не вникает в нее; огулом бранит «модерн», не видя отличий «мелкого беса» от «Анафемы», а притом способен узнать Лермонтова в одной новооткрытой строке. Что же? У него странная слабость к Амфитеатрову и Дорошевичу. Я могу это объяснить лишь физиологическим притяжением противоположностей. Изощренная нежность моего друга тянется туда, где бьют по затылку. Все равно как, лишь бы «крепче». Но меня заинтересовало то, что мой старый поэт к двум любимым именам прибавляет еще одно – третье: беллетриста Будищева. Уж нет ли, подумалось, и у Будищева родственной связи с Дорошевичем и Амфитеатровым? Надо, после долгих лет, обернуться и посмотреть на Будищева. Кстати, он только что издал книгу своих рассказов «С гор вода» (Моск. К-во).
– Посмотрите, посмотрите, – убеждал меня друг мой, – это страстность, и мучительство, и вопросы… Тут Достоевским пахнет.
Я и посмотрел. Прежде всего скажу, что особой родственности с Амфитеатровым и Дорошевичем я в авторе не нашел. Порою кое-что мелькает; прискок растрепанный, что ли; да за душой (как бы сказать – не обидеть) тоже, ломаные несколько, гроши. А соблазн друга моего – опять физиологическое влечение к противоположности. Знаток Мопассана должен тянуться к хаотически разбросанному, расхлябанному языку Будищева; человек изощренного вкуса – радоваться безвкусию Будищева. А именно безвкусие – самая характерная черта этого писателя.
Я, впрочем, хочу быть справедлив. После неудачно-преувеличенной рекомендации это нелегко: потому что какой тут Достоевский! лучше бы его не тревожить! Сравнивая же Будищева кое с кем из современных беллетристов второго и третьего сорта, сравнивая его даже с самим Будищевым лет десять тому назад, – можно сказать о писателе и доброе.
Общее безвкусие не покинуло его; но герои-приказчики все-таки облагородились. Героини остались те же; да, впрочем, у Будищева во веки веков одна и та же героиня. Конечно, обольстительная на взгляд: «…с пышно взбитыми волосами, с большими глазами, словно недоумевающими или испуганными, и приветливо улыбающимися яркими, как лепестки цветов, губами». Это лицо непременно «дразнило героя. Точно что-то обещало и сейчас же отталкивало. Бросало от тоски к радости. Сердцу порою сердито хотелось одолеть ее (т. е. сердцу героя – героиню), стать над ней господином и причинить ей боль… Или пасть пред нею на колени (самому герою или все еще сердцу?), истребить собственную волю и провозгласить над собою светлое главенство женщины». Такова постоянная героиня Будищева, ее наружность, действие ее на лиц мужского пола. Внутренний же свой облик она сама очень верно определяет там, где, по обстоятельствам, должна на мгновение просветляться, например – если герой уже умирает по ее вине. «Часто, часто дышала у его уха и зашептала: прости меня! Я – дрянь! Потаскуха!..» На это герой, «с трудом ворочая языком, так что мышцы лица вздрагивали от усилий, выговорил: Ал-л-л-егория! Ес-стъ!» Он бредил, но, может быть, сбредил тоже верно, хотя чего именно аллегория – такая героиня, покрыто мраком.
Во всяком рассказе Будищева действует эта знакомая «аллегория», упоительная «дрянь», все одна и та же. О стиле и языке, каким она описана, легко судить по приведенным цитатам, да и судить не стоит, слишком ясно. Пусть иным здесь чудится язык «мучительных страстей», на мой же трезвый взгляд это лишь банально-небрежный слог писателя, который не смотрит за собой, как следует.
Героиня, обычная, мелькает даже в лучшем и самом длинном рассказе будищевского сборника – «Благополучие». Это – повесть о разбогатевшем мужике Столбушине, который заболел раком желудка тогда, когда, по-видимому, достиг вершин благополучия. Автор сделал его недурным человеком, и это углубляет рассказ. Есть в нем положительно недурные места. Например, посещение Столбушиным, уже больным, родной деревни. И тут автор перехватил, но прекрасно все начало, мужики – двоюродные братья, ребятишки, черный Назар, который «жестко говорил, точно ругался, жестикулировал узловатыми пальцами» и с тонкой, печальной нежностью вспоминал о своей покойной жене: «Ты знаешь, отчего она у меня померла? От стыда! Болезнь такая с ней приключилась, конешно, насланная с ветром или как. Стыдилась она всего. Не поверишь, пить даже стыдилась, Богу молиться стыдилась. Жить стыдилась! Такая болезнь насланная!.. Жить стыдно! Поверишь этому? Вот какие болезни бывают!»
Неплох у Будищева и «Петруша Рокамболь», – экспроприация, задуманная двумя гимназистами, полуигра, кончающаяся трагически. Взят, впрочем, тон анекдота, и трагический конец производит противное впечатление. Тут опять сказалось непобежденное безвкусие Будищева.
«Вопросы», затрагиваемые писателем, не сложнее, говоря по правде, вопросов, которые могут зародиться в голове обывателя; и если обыватель не возлюбил Будищева так, как Вербицкую, то причина – его индивидуальные свойства. Слишком много таланта; чтобы прибегать к заманивающей дешевке вроде сплетен и приключений, – и слишком мало его, пожалуй, для того, чтобы заставить проглотить себя со всеми наскоками, резкостями, порываниями – их читатель Вербицкой не любит, боится. Эти угловатости, неровности, пятна, – одни только и ценны в Будищеве, но на всех не угодишь. Ожидать от автора особенного роста нельзя с уверенностью, он не начинающий; но требовать более внимательного отношения к своему творчеству мы можем и должны, тем более, что за десять последних лет писатель сумел же кое-что приобрести. И счастье, что обыватель еще не влюблен в Будищева. При его силах – не удержаться бы ему на скользком пути.
Скользкий путь этот опасен для всех. Опасна и новая мода, новая тактика, о которой я говорил в начале статьи: буду, мол, сознательно подлаживаться к обывателю, а когда он ухо ко мне повернет, тут-то я помаленьку и начну его учить, исподволь, не пугая, ему на пользу, себе на утешение. Не верю я в эти фребелевские игры. Откровенная погоня за «успехом» – ну, это понятно, а задаваться педагогическими целями – самообман, ничего все равно не выйдет. Педагогика хороша, когда она непреднамеренна; а недаром и детей на фребелевские игры не поймаешь. Да и унизительна она… как для учителей, так и для учеников. Коли писатель сам такой же обыватель – другое дело; а коли есть за ним свое – говори свое; не слышат тебя – сам виноват: голос, значит, тих. Потому что, в конце концов, я меньше всего виню вот эту «среднюю читательскую массу», среднего русского человека. Он услышит тех, кто сумеет говорить громко.
Уклон к «нисхождению» (беру слово Вяч. Иванова), к стиранию острых углов, к фальшивому, поддельному, теоретизированному… даже не демократизму, а к «великой середине» – очень ясен теперь в литературе. Она хаотична, однако попадаются нити, определенно окрашенные. Интересно просмотреть наши журналы, более заметные, конечно, определить физиономию каждого и данное его положение. Ведь их тоже читают… или не читают.
Но журналами я займусь в следующий раз.









































