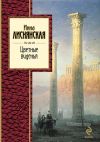Текст книги "Свое время"

Автор книги: Александр Бараш
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Александр Бараш
Свое время
© Бараш А., 2014
© ООО «Новое литературное обозрение», 2014
Город
Когда я в последний раз, в один из приездов в Москву, шел по елисейским Октябрьским полям своего детства, то, уткнувшись, под мелким дождем и с головокружением, в бордовые торцы пятиэтажек со стороны улицы Бирюзова, не увидел на должном месте памятной вешки: голубятни у спортивной площадки… – и на меня слетела неизбежная, как Гимн Советского Союза, цитата «твой фасад темно-синий я впотьмах не найду…» Кружила в голове, будто стая над голубятней в низком сизом небе, и щекотала пыльным, в пухе, пером горло, пока ее не перебила мысль: а почему, собственно, «приду умирать» на Васильевский ли остров, на Октябрьские ль поля? Ты уже здесь умер – когда отсюда уехал. Родной город – это одно из наших тел, «полей»: мозг – комната – дом – город – советская интеллигенция. Покидая их – переселяешь душу в иное тело. Переселения – репетиции физической смерти… Тут я и вышел к своему дому.
Ойкумена жизни на Волоколамском проезде имеет, как оказалось при первом же вспоминательном прощупывании (словно языком – по всей полости рта), довольно четкие границы.
Само слово ойкумена для меня отсюда же: из книги, прочитанной за столом у окна слева от среднего подъезда дома номер семь корпус три кв. 16 (координаты: 55°48ʹ08.9ʹʹс. ш. 37°29ʹ27.2ʹʹ в. д., как рассказывает, чуть раскроешь Википедию, Гугл Мэпс, новый жюль-верновский персонаж, маниакально любознательный геодезист и фотограф, неудержимо энергичный американец). Книга так и называлась: «На краю ойкумены». Это было фэнтези 1949-го советского года, написанное Иваном Ефремовым – известным палеонтологом, любителем дальних странствий, Гумилева и научно-фантастических идей. Правильно-увесистый том про офигительные приключения греческого юноши-скульптора в древнем Средиземноморье. До сих пор первая ассоциация при слове ойкумена – гипнотическое звукосочетание «на краю ойкумены»: светящееся, как волшебный кристалл детского воображения, заигравшего благодаря вдохновенному роману старого профессора-палеонтолога… даром что литературного дара там было чуть выше ватерлинии журнала «Вокруг света»: «Девушка услышала шумный вздох своего спутника, увидела его затуманенный воспоминанием взгляд. – Таким бывает море на юге в ясную погоду, в полдневные часы, – медленно сказал молодой моряк».
С одной стороны ойкумены Волоколамского проезда была окружная железная дорога – как бы широкая пустынная река и мазутный ветер путешествий, приносивший на крапивные берега у доков-гаражей волшебные камешки шарикоподшипников. Мы жили явно в заречье, поскольку метро было тогда только на Соколе, и все автобусы шли оттуда, из-за моста, из «верхнего города»… На нашем берегу, отделяя улицу от «реки», тянулся на целую автобусную остановку «телевизорный завод» (народное название, официальное – радиозавод; там сейчас вроде бы базируется Лаборатория Касперского, доброго доктора Гаспара, прогоняющего злых вирусов).
«Наша» автобусная остановка была между торцом завода и парикмахерской. Главное впечатление от парикмахерской – «Моральный кодекс строителя коммунизма» в рамке на стене в зальчике ожидания. Ждать приходилось дольше, чем занимала солдатско-зековская стрижка «полубокс», главная, да, кажется, и единственная из модного реестра тех лет, если не считать полного «бокса», совсем уже налысо. В процессе ожидания холодного прикосновения маленькой пасти парикмахерской «машинки» к теплому темечку я перечитывал Десять Заповедей для чайников, погружался в черную точку морального кодекса строителя пирамид коммунизма. Результат был не совсем медитативный, скорее прострация по типу одубения. «Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма… Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов… Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку – друг, товарищ и брат. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству. Нетерпимость к врагам коммунизма…» Понять, чтó не так, я не мог, но ощущал какой-то ментальный астигматизм ситуации, безумное смещение контекстов, особенно фатальное ввиду тихой бытовой обыденности – как бы природной естественности. Парикмахерская не самое адекватное место для нетерпимости к врагам коммунизма, если не считать, что целью было дезориентация, одурманивание абсурдностью.
Другая граница ойкумены шла вдоль парка и ограды 52-й больницы. Парк начинался у дальнего конца светлой панельно-стеклянной стены телевизорного завода. По его березовой аллее я впервые полетел во сне, лет в семь. Мне приснилось, что за мной погналась большая собака, типа «московской сторожевой». Я побежал от нее, но она догоняла, силы кончались, она хрипела все ближе, и спасения не было. Но тут у меня в руке оказалась какая-то бумажка, я приложил ее к попе – и полетел. Летел невысоко и с трудом, собака пыталась допрыгнуть до моих ляжек, и это ей почти удавалось, но я уже перешел в иное – безопасное – измерение… Получается, что полеты во сне для меня начались с ужаса, в попытке спастись… с сильным оттенком неловкости, интимности… и иррационального чуда.
Где-то дальше за парком начинались переулки у Покровского-Стрешнева, бывших дачных мест, где Карамзин писал «Историю Государства Российского», куда Лев Толстой приезжал к своей невесте, а в лучшие системообразующие годы нашего, советского, мира был лагерь зэков, строивших канал «Москва – Волга». Вместить это, наследовать цивилизационному интеллектуальному усилию, человеческому шепоту-легкому-дыханью и одновременно ГУЛАГу – и жить с этим без катастрофических последствий для личного мозга и коллективного сознания – возможно ли? Вот наша задача…
52-я больница, продолжение границ ойкумены – место, где умер прадед, в середине шестидесятых годов, а потом его дочь, бабушка с материнской стороны, Бабушка Зина. Белые корпуса среди березок за бетонным забором, их транзитная станция в сторону кладбища. Эти «корпуса» – словно смутная, со смещением масштабов, визуальная репетиция надгробных плит.
Здесь же я лежал и умирал в отдельном боксе в семнадцать лет, заболев неведомой болезнью – пока не выяснилось, что это корь. Несколько дней была температура сорок, шла кровь из носа, без остановки (на что врач, хмыкнув, сказал, глядя в заполняющийся тазик: «Знаешь, сколько у тебя крови? Вся не вытечет, только полезно»). Никаких специальных симптомов не было, никто не знал, что делать, – и ничего не делалось, кроме изоляции в отдельной палате и недопущения родных.
Палата была на высоком первом этаже, окно открыто. Я лежал в полубреду, почти не в силах двигаться и говорить, лицом к двери, окно было в паре метров за головой. Как-то там, за окном, раздался голос мамы, зовущий меня, и я услышал скрежет ногтей по жестяному подоконнику. Она пыталась забраться, но соскальзывала, не могла зацепиться. Один из звездных моментов ее любви ко мне, знавшей и плохие дни.
День на четвертый-пятый пришел старенький доктор – вполне в духе сюжетов советской литературы и кино, по-моему, он даже был с бородкой клинышком – и сказал, что это корь. На следующий день диагноз подтвердился симптомами – сыпью… Одно из последствий – я узнал, как реагирую на приближение смерти. Еще через несколько лет прочитал у какого-то западного средневекового историка описание, как воины разных народов и религий встречают смерть, и увидел, что встречаю – по-русски. Я тогда писал цикл стихов о Смутном времени, который остался в черновиках: что-то было «не то», ложно в общей постановке, диспозиции обращения к такой теме… Может быть, это есть и в стихотворении – вариациях на тему встречи со смертью «по мотивам» средневековой хроники:
Татарин, срубленный с коня,
слепой в крови, как крот,
языческую честь храня,
зубами сталь грызет.
И жадно молит янычар,
выкатывая глаз,
у полумесяца меча
пощады в этот час.
А я лежу в предсмертной мгле
на гаснущей земле,
и ангел в ясной тишине
ладонью светит мне –
Это все были северо-западные края ойкумены. С юго-востока лежал пустырь. Там одной зимой жил беспризорный пес, с которым мы друг другу симпатизировали. (Такая история есть в детстве, вероятно, чуть ли не у каждого, как замученный на даче ежик или покупка гуппи на Птичьем рынке. Вчера двенадцатилетний сын рассказал мне, что по дороге на автобус в школу – на улице Рут в Иерусалиме – у ворот одного из домов его встречает черный кот и провожает метров сто до угла большой улицы, тут кот поворачивает обратно, возвращается в свой сад… – Вы разговариваете? – Да. Немного…)
Вылетая из каре пятиэтажек на открытое пространство пустыря по ледяной дорожке (почему-то именно в этом месте была одна особенно длинная «взлетная полоса»), я приносил своему приблудному другу несколько косточек. Потом он куда-то пропал с пустыря наших встреч, но эмпатическая нота этой случайной связи – вот, осталась, то ли «собачий вальс», то ли щекочущий слизистую оболочку шлягер из «Генералов песчаных карьеров».
От пустыря на восток уходила большая улица, носящая имя маршала бронетанковых сил Рыбалко. (Как я сейчас выяснил, в честь грозного маршала с мирной украинской фамилией назван, среди прочего, и теплоход, совершающий круизы по Днепру. Прогулочный лайнер «Рыбалко» – это было бы и само по себе красиво, даже без чинов… Хотя компания теплоходов для досуга, как сообщает интернет-страничка, посвященная лайнеру (http://www.cruise.liko.ru/ribalko.htm), там собралась высокопоставленная, как в лучшем закрытом санатории Минобороны: «В навигацию круизы совершают 4 теплохода: “Маршал Рыбалко”, “Маршал Кошевой”, “Генерал Ватутин” и “Принцесса Днепра”».)
На улице Рыбалко был книжный магазин, то есть обычный брежневских лет симулякр, аналог продуктовых: консервы – школьная классика, макароны – специальная учебная литература. Но в в глубине и вбок, в дальнем ответвлении, было дупло живое место, даже в своем роде чудесное… по крайней мере в последние дни августа.
Мы только что вернулись с дачи, где в похолодевшем воздухе под посеревшим небом слышнее перестук поездов на железной дороге, будто тиканье часов в опустевшей квартире. Под насыпью, во рву некошенном звенит, тренькает по битым бутылкам и шлепает по использованным презервативам дождик… Конец сезона танцплощадок: сладко-порочное, как портвейн с халвой, уханье местного ВИА со стороны заката над лесом за станцией Поварово, «She’s got it…»
Возвращение в Москву – новые старые запахи, предвкушение отчего-то новой жизни – на класс старше в школе: как изменились одноклассники? может быть, что-то случится – отношения: дружбы, влюбленности? Постричься, погладить галстук (это устойчивое выражение типа «с петлей на шее»; речь идет о пионерском галстуке, носившемся лет до четырнадцати, обязательный атрибут, без него советский школьник немыслим, как корова без колокольчика)…
И – радостное, будоражащее преддверие за мгновение до праздника каких-то счастливых событий: поход за новыми тетрадками, ручками и ластиками в «книжный».
На дальних восточных границах ойкумена омывалась широким серым потоком улицы Народного ополчения. На том берегу стоял замок с обширными угодьями и за высокой стеной, называвшийся окрестными жителями Школой КГБ. На современных картах – Военно-дипломатическая Академия Генштаба… не без армейской дипломатичности, «никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу»… Этот комплекс зданий был виден с моста через железную дорогу, особенно хорошо – из проезжавшего автобуса. Все было имперски-внушительно, «с иголочки»: и несколько зданий среди широких аллей и подстриженных под полубокс газонов, и шеренги елочек, проходящих бессрочную строевую подготовку, и круглые, как глаза честно ждущих невест, клумбы бархоток… Никогда, ни разу не удалось заметить там человека или машину, вообще какое-либо движение. Это явно было пространство иного измерения – то ли из-за сакральности, то ли по долгу службы.
Дорога в школу состояла из двух автобусов с пересадкой. На «пересадке», у остановки автобуса, за оградой – на фронтоне двухэтажного дома (поликлиника?) были часы со стрелками, застывшими на мою вечность – на апокалиптическом раскладе «25 минут девятого». Правда, в кармане школьных брюк (еще мышиного цвета, синие появились в восьмом классе, в 1974 году…) звенит и утишает тревогу добыча с предыдущего автобуса. Он пустел за остановку перед конечной (и пересадкой) – и можно было пройти от передней двери до задней, заглядывая под сиденья, как бы между прочим – а на самом деле в азарте «Острова сокровищ», – и отыскать в катящейся по улице огромной консервной банке-копилке несколько монеток – в масштабах от газировки и чуть ли не до крем-брюле. Главное, конечно, азарт (что-то среднее между собиранием земляники в лесу и игрой в разведчиков), но не менее важно было наскребывание – самостоятельно! – некоей суммы, могущей иметь реальное вкусовое воплощение… Наше финансовое положение было среднестатистическим – и не давало поводов для особой разнузданности. Как в рассказе одной знакомой, которой мама выделяла в школу 20 копеек и имела привычку приговаривать при этом: «Ни в чем себе не отказывай».
Первое воспоминание об автобусе – времени первых полетов человека в космос, начало шестидесятых: рано утром мама, «молодая специалистка», по дороге на завод завозила меня в ясли где-то в районе Лубянки. Первые картинки, возникающие в голове (своего рода линки памяти) – на уровне роста ребенка четырех-пяти лет: бока и животы темных пальто и плащей… слякоть под топчущимися ногами (и, кажется, еще много галош)… слякоть гораздо ближе и звучнее, чем с высоты других возрастов…
Странно, но метро не вызывает такого же острого ощущения неуюта коммунальности, как автобус, – хотя общие качества общественного транспорта те же. Включая и главное – насильственное сокращение естественной дистанции с другими людьми, вламывание в – и разламывание – твоего индивидуального поля, оно «шире» физического тела, скажем, на метр… не меньше… Скорее всего во время формирования дорефлективных еще стереотипов, в достаточно раннем возрасте, на отношение к автобусу повлияло (дополнительно наложилось) то, что он воспринимался как часть более глобального казенного мира: дорога в ясли, в школу… А метро в дошкольном детстве – это либо дорога к бабушке-с-дедушкой (всегда – событие, путешествие… с ласковым пунктом назначения… во всяком случае, нечто оттянутое, внефункциональное…), либо – в сторону дачи (это уже просто затяжной прыжок в свободу, ураган и Алиса-в-Стране-Чудес).
Но неизменен, навсегда впечатан в голову магический ритм, интонация, музыкальная фраза – надписи на стене автобуса:
отсутствие мелкой разменной монеты
не является оправданием
безбилетного проезда.
Ранняя юность прошла неподалеку, на северном краю Октябрьских Ходынских полей: мы переехали на Сокол – в квартиру над надвратной аркой Песчаной улицы.
В правой ноге центральной арки, над проезжавшими машинами, была комната родителей, и сбоку «детская». Окна смотрели на Песчаную улицу и дальше, в перспективу, казавшуюся томительно-волшебной. За коричневыми железными крышами сияли отраженным светом вечерней зари чьи-то окна. Это горнее мерцание исходило от верхних этажей одного из домов на улице Алабяна, где внизу был магазин «Березка», тоже, впрочем, сказочный – по недоступности.
Окно третьей комнаты, где жили бабушка и дедушка, смотрело во двор, где паслись «Москвичи» и «Запорожцы», похлебывая бамперами бензиновую радугу из луж.
Со двора шла еще одна – «черная» – лестница, крутая, с высокими ступеньками, почти винтовая… Кажется, сейчас я осознал подспудную ноту ассоциации, которая несколько раз возникала в путешествиях, – у окон в средневековых надвратных башнях где-то в Англии или Италии, как-то раз довольно сильно в Кентерберри: в исторической тюремной камере на верхнем ярусе башни над въездом в средневековый город… «Вот я и дома…»
Утренники в ЦДЛ
Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.
В. Высоцкий. Братские могилы
Когда я был школьником, мы ходили вдвоем с мамой на поэтические «утренники» в Центральном доме литератора.
Так началось мое знакомство с «литературным миром». Я всегда, лет с семи – восьми, с первых фантазмов о будущем и с первых попыток стихов и прозы, думал только о литературе как предмете своей жизни, как о том, с чем она связана больше всего… но лет до 15-ти, до первых друзей, пишущих стихи и читавших те же книги, не встречал людей «своей антропологии», не видел вживую литературных людей.
В домашнем салоне родителей было много бардов, экстрасенсы и тибетские врачи, но писателей не было. Видимо, они были где-то дальше – выше по социокультурной шкале, хотя, казалось бы, граница между бардами и поэтами была в 60–70-е почти прозрачной… Тем не менее получалось, что писатели были для итээровской среды где-то там же, где «серьезные», «классические» композиторы, в отличие от демократичных бардов-и-менестрелей. Хотя был один литератор… автор известной детской книжки «Баранкин, будь человеком» Валерий Медведев. Бывший актер, пожилой, с бородавками на сером лице, он появлялся в доме в качестве одного из представителей разношерстного отряда маминых поклоников, сидел на родительской тахте немного боком и профессионально, по-актерски, исполнял Вертинского. Познавательности и поучительности в нем было не больше, чем в нашем старом коте.
Выйти из метро на «Баррикадной», подняться по улице мимо сталинской высотки, перейти Садовое кольцо у места его впадения в Площадь Восстания, слева Замок Дракулы – особняк Берии… и по узкому тротуару – к колоннам Дворца Снежной Королевы, то бишь советской литературы, где из осколков разбитого зеркала русской революции, отражающего действительность, данную нам в ощущении отмороженности, бывшие мальчики Каи, украденные у своих ненаписанных настоящих книг, пытаются сложить слово «соцреализм»…
«Утренники» в ЦДЛ – это были коллективные чтения по выходным дням. Попадались и известные имена. Сами по себе стихи не были главным. По жанру это оказывалось, скорее, чем-то вроде публичного официального застолья с регламентированными выступлениями, где важно «отметиться»; в качестве угощения – сцена, микрофон и большой зал. Особенно яркая эстрадность выглядела бы «выпендрежем» за счет остальных участников, как и яркие тексты. Исключения могли быть для пожилых и заслуженных или для юных дарований. И то – до известной степени. Приемлем был артистизм с репризами, в духе телевизионного Ираклия Андроникова, или девичья порывистость.
Артистичен был Павел Антокольский: очень живой глубокий старец с огромными черными кругами вокруг глаз, как будто он разыгрывал Носферату, ожившего персонажа времен своей молодости[1]1
Носферату. Симфония ужаса, 1922. https://archive.org/details/Nosferatu1922
[Закрыть], – Антокольский был режиссером Вахтанговской студии в двадцатых годах. С одной стороны, это выглядело увлекательно, как любая живость и коммуникативность, и в нем была профессиональная театральная харизма. С другой – пританцовывающий старик-юноша, ажитация, воспаленность желания «обаять». Все же это было легендарное имя: юноша Павлик из «Повести о Сонечке» Цветаевой. «Ручной» Носферату…
Студентка Литературного института Олеся Николаева, с ангиной и в шарфе, с «задыхающейся» любовной лирикой, светилась девичьей порывистостью: «…всей багровой щемящей тоской…», «…вспоминается мне, ну такая нелепость, такая, / – та-та-та-та– та-та-та– та-та-та… – изба…» Было неловко и/но трогательно. Впоследствии «цветение пола», по известному выражению Мандельштама, закончилось, а с ним и какая-то живость… осталась номенклатурность, постсоветская, довольно пародийная, поскольку постсоветская культура и номенклатура пересекаются даже меньше, чем советские.
На одном из этих утренников в ЦДЛ выступал Давид Самойлов. Мероприятие вел Гарольд Регистан, тот самый? нет, сын – соавтора Сергея Михалкова по гимну СССР. Вполне в жанре «поэтического застолья», эталонного для этих мероприятий, Регистан, армянин из Ташкента, отрабатывал роль дежурного тамады. И, представляя Давида Самойлова, ласковой скороговорочкой, напоминавшей шакала из мультика про Маугли, сообщил: «А сейчас… автор множества книг… десяти… двадцати…» И обращаясь к уже идущему ко второму микрофону Самойлову: «Сколько точно их у вас, дорогой Давид Самуилович?» Тот уже подошел к микрофону и раздраженно отрезал: «Четыре». Почему-то наибольшее впечатление на меня – школьника из всего выступления Самойлова произвел этот проискривший заряд напряжения, сценка в духе советских бытовых кинокомедий, «Берегись автомобиля» или «Бриллиантовая рука» («Кто купил билетов пачку, тот получит…»… – и тут Мордюкова как рявкнет: «Водокачку!»).
Я любил несколько его стихотворений. Больше других – «Из детства»:
Я – маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег…»
Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке душу,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.
Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над бренностью мира
Я, маленький, глупый, больной.
Точная картина русского детства, и психологически, и по антуражу. – Соотношение уюта и тревоги, тепла и холода, от просто мороза до вселенского холода… похоже на то, что в «Белой гвардии» Булгакова.
Только отчего слезы так уж постыдны и почему «глупый» в одном ряду с «маленьким» и «больным»? Все непросто… «амбивалентно». Аутентичное самонаблюдение над собой и историей. Острое, сладко-болезненное слияние ощущения своей бренности и бренности мира. Элементы мазохизма и солипсизма… и беспрецедентные исторические потрясения вокруг. Боль и своего рода гедонизм. Странное сочетание, сильные ощущения.
Запомнилось не то, что́ Самойлов читал в ЦДЛ тогда, в середине семидесятых, а – что́ он не читал. Отсутствие было значимо и воспринималось однозначно. Правила игры, коды «эзопова языка», касавшиеся не только текстов, но и литературных жестов в публичном пространстве, расшифровывались адресатами в интеллигентском сообществе с легкостью, без зазора с авторской задумкой. За чтение стихов могли посадить и сажали – если это было несанкционированное выступление в публичном месте. За не-чтение никаких репрессий не причиталось. Но оттенок диссидентства, как горчинка в правильно смешанном коктейле, все же возникал.
Не читал Давид Самойлов своей «визитной карточки» из советских школьных хрестоматий: «Сороковые, роковые». Не «Коммунисты, вперед» Межирова, конечно, но из этого контекста: разрешенные, санкционированные стихи о войне.
Там, в «Сороковых, роковых…» – то же, что в «Я – маленький, горло в ангине…»[2]2
Д. Самойлов «Стихи». http://lib.ru/POEZIQ/SAMOJLOW/stihi2.txt.
[Закрыть]: сближение частного и всеобщего, исторического. «Как это было! Как совпало – / Война, беда, мечта и юность!» «Наложение» и слипание зон интимного, человеческого, сентиментального – и эпического, безжалостного, жуткого. «Гудят накатанные рельсы. / Просторно. Холодно. Высоко. / И погорельцы, погорельцы / Кочуют с запада к востоку…» Через запятую – ощущение «высокости» и миллионы погибших. Тут же и веселость, и задорность: «Да, это я на белом свете, / Худой, веселый и задорный. / И у меня табак в кисете, / И у меня мундштук наборный»… Да, известно, скажем, что в конце тридцатых годов, на пике арестов и расстрелов, был пик увлечения дачностью, эскапистской гедонистичностью. «И это все в меня запало / И лишь потом во мне очнулось!..»
На школьной перемене в середине семидесятых, слоняясь по рекреации у кабинета литературы в своей 201-й школе имени Зои и Александра Космодемьянских (они учились там в свое время), я оказывался перед занимавшей все стены выставкой военной поэзии, в лабиринте по-зимнему тусклых стекол… Оттуда смотрели, как из застекленного открытого некрополя, военные фото. И по многу раз перечитывал, рефлекторно шевеля губами, почти в гипнозе, словно последователь некоего культа, эти стихи. И оттуда же: «Война – совсем не фейерверк, а просто – трудная работа…» Кульчицкого, «И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую…» Гудзенко.
В этих стихах советских мальчиков, родившихся во время Гражданской войны и закончивших школу в районе 1937 года, звучала, как боевая флейта, одна нота: в бой во имя империи и за славой! Генезис вроде бы «киплинговский», а в русской поэзии был еще Гумилев, с культом мужественности, с мачоистскими обертонами и с личной храбростью во время Первой мировой войны. Гумилев был расстрелян: новая власть и он, и этот звук, были несовместимы. Ведь у него речь идет о свободном героическом выборе. «А по-моему, ты говно»[3]3
(Писатель стоит несколько минут, потрясенный этой новой идеей, и падает замертво. Его выносят.)»
Д. Хармс «Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного». 1933 г. http://www.klassika.ru/read.html?proza/harms/xarms_prose.txt&page=38.
– А по-моему, ты говно!
Читатель:
– Я писатель!
«Писатель:
[Закрыть].
«Культовый» в советском мире двадцатых-тридцатых годов наследник киплинговско-гумилевской линии – Николай Тихонов. Но его баллады[4]4
Н. Тихонов «Баллады». http://rupoem.ru/tixonov/ballad.aspx.
[Закрыть] вовсе не о героическом личном выборе. Они либо о коллективной жертве – «Баллада о гвоздях», либо о жертвенности верного раба – «Баллада о синем пакете». В «Балладе о гвоздях» гвозди и «винтики» государственной машины – революционная новация – романтики. И даже байронического, точнее, «печоринского» толка. Перед кровавым морским сражением: «…самый дерзкий и молодой / Смотрел на солнце над водой. / Не все ли равно, – сказал он, – где? / Еще спокойней лежать в воде». Завершается все на парадной, как на публичной казни, ноте: «…простукал рассвет: / “Приказ исполнен. Спасенных нет”». Каков же был приказ: чтобы, не дай бог, никто не спасся? «Гвозди б делать из этих людей: / Крепче б не было в мире гвоздей».
По сути это – речевка. Как те, которые мы в качестве советских пионеров вышагивали на парадах в пропахшем подростковой эротикой спортзале, – помню, к первертному смущению, до сих пор: «Ни шагу назад, ни шагу на месте! А только вперед, со всеми вместе!» Песню – запе-вай! «По долинам и по взгорьям…» (как известно, тоже перелицованный марш белогвардейцев…).
И как же далека эта риторика от классического стихотворения «Не бил барабан перед смутным полком…» – одного из ритмических и общеассоциативных источников «гвоздей» в традиции героических баллад. В балладе Чарльза Вольфа «На погребение английского генерала сира Джона Мура» (командовавшего войсками в Португалии в эпоху войн с Наполеоном), в этом похоронном гимне, ставшем русским хрестоматийным стихотворением благодаря переводу Ивана Козлова, все заканчивается словами:
Прости же, товарищ! Здесь нет ничего
На память могилы кровавой;
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.
Имперское не вступает в противоречие с личным, личное не приносится огульно, «в гурьбе и гуртом» в жертву коллективному. Героизм в том, чтобы спасти – если не себя, то других: отечество, сограждан, товарищей… а не в патетической разновидности самоубийства. Горечь от того, что погибшему не возданы достойные его подвига прощальные почести, сглаживается тем, что могилу копали родимые руки боевых товарищей[5]5
И.И. Козлов «Полное собрание стихотворений». http://az.lib.ru/k/kozlow_i_i/text_0110-1.shtml.
[Закрыть]. Но погибшего оставляют один на один с его славой. В этом и одиночество, и единственность. Их невозможно разделить. Экзистенциальная истина, часть европейского опыта.
С начала XIX века и до начала двадцатых годов XX века этот опыт стал и российским.
«Бородино» Лермонтова, ключевой текст о «главной битве» эпохи, которую мы воспринимаем как «свою», а не как отстраненно-древнюю, – это рассказ об эпическом событии из уст рядового солдата. «Скажи-ка, дядя…» Толстовский капитан Тушин – и тот все же офицер, дворянин.
У Гумилева все было романтически-индивидуалистично. Подчеркнуто персонально. В 1921 году расстреляли Гумилева, а в 1922-м появились книги Николая Тихонова «Орда» и «Брага». И можно, с содроганием, увидеть, как патетика коллективного суицида завладевает следующими генерациями.
Заключительные три строчки «визитной карточки» Михаила Кульчицкого, одного из лидеров поколения и круга, к которым принадлежал Давид Самойлов: «Не до ордена / Была бы Родина / с ежедневными Бородино»[6]6
М. Кульчицкий «Стихотворения». http://az.lib.ru/k/kulxchickij_m_w/text_1942_poe.shtml.
[Закрыть]. И фанфарная звукопись, и жертвенность… Эта завороженность риторикой – самоубийственный соблазн сталинского времени. Желать для своей Родины ежедневных Бородино? «Миллионы убитых задешево… Небо крупных оптовых смертей…»[7]7
О. Мандельштам «Стихи о неизвестном солдате». http://rvb.ru/mandelstam/dvuhtomnik/01text/vol_1/04annex/01versions/0599.htm.
[Закрыть]
В «Балладе о синем пакете» герой преодолевает пространства, нечеловеческую боль, перед нами раскрываются роскошные картины авиаполета. И наконец: «…Кремль еще спит, как старший брат, / Но люди в Кремле никогда не спят. / Письмо в грязи и в крови запеклось, / И человек разорвал его вкось. / Прочел – о френч руки обтер, / Скомкал и бросил за ковер: / “Оно опоздало на полчаса, / Не нужно – я все уже знаю сам”».
Эта «революционная баллада» 1922 года – буревестник нового сознания. Рецепт «от Тихонова» соединяет киплинговского героя с рабом из пушкинского «Анчара» в «аравийском месиве-крошеве», по слову Мандельштама. Новость такого сознания была в том, что оно состояло из противоречий, несовместимых с конвенциональной психикой: противоречий между романтическим и циничным, героизмом и рабским самопожертвованием, интимным и публичным, личным удовольствием и общим несчастьем, способностью чувствовать и чувством самосохранения, самосохранением и самоуважением. Они разъедали внутренние связи… и, наверное, самое важное: шанс отрефлектировать происходящее. Но даже если б это произошло – спасительная рефлексия обречена потонуть в окружающем коллективном помрачении: вменяемость оказывается невменяемой, оборачивается неадекватностью, прямо вменяется в вину в этом социуме. «Архетипический» эпизод – возращение Мандельштама в Москву после трехлетней ссылки в 1937 году: «Надежда вернуться в жизнь людей, уже духовно преодоленная, снова подступает к полуживому человеку, чтобы мучить и унижать его, отнимая дорого доставшийся покой отчаяния… Однако новые впечатления были мрачными. – Чего-то он здесь не узнавал, – свидетельствует Э.Г. Герштейн. – И люди изменились… – все какие-то, он шевелил губами в поисках определения, – все какие-то… поруганные»[8]8
С. Аверинцев «Судьба и весть Осипа Мандельштама»: http://rvb.ru/mandelstam/dvuhtomnik/03article/article.htm.
[Закрыть].
Одно стихотворение Давида Самойлова трудно, практически невозможно было не запомнить:
Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.
Замечательный документ времени. В нем чуть ли не камертон социального ощущения подсоветского человека. Состояние блефа, обмана, который инициировал не ты… это общее положение дел, но ты не можешь в нем не участвовать… а спросят – с тебя.
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.
Это же картина поэтических выступлений в ЦДЛ! И тот же знакомый набор элементов, как в праздничном пакете для ветеранов ВОВ: апокалиптическая картинка – и вполне отчетливый, и не без мазохистичности, гедонизм, самолюбование…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?