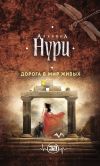Текст книги "Екатерина Воронина"

Автор книги: Анатолий Рыбаков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Рыбаков Анатолий Наумович
Екатерина Воронина
Глава первая
Поселок Кадницы двумя ярусами расположился на правом, высоком, берегу Волги, в сорока километрах от Горького. От пристани к поселку дорога идет лугом, полным комаров и сырых, пьянящих запахов. Меж кустов ежевики, шиповника, черемухи блестят небольшие озера. За лугами темнеют громады приволжских лесов.
Речонка Кудьма, мелкая и несудоходная, с глубокими омутами и придонными холодными родниками, опоясывает гору, на которой стоит село. На берегу разбросаны лодки, висят на кольях сети.
Сразу за шатким деревянным мостиком начинается подъем в гору, вначале отлогий, затем все более крутой. Бревенчатые хибары и двухэтажные каменные дома тесно прижимаются друг к другу, образуя извилистые улочки, разделенные садами и огородами.
С горы, где и сейчас стоит ветхая церковь, открывается широкий вид на Волгу. Здесь она еще не так бескрайна, как за Камским устьем. Но, уже приняв Оку и медленно неся свои синие воды меж правым, высоким, лесистым берегом и левым, луговым, она являет собой могучее и незабываемое зрелище.
Возле церкви – глубокие рвы, поросшие редкой травой и мелким кустарником. В четырнадцатом веке татары казнили здесь русских пленных, что создало жестокую славу этому месту и дало ему название «Казницы».
Много позже тут возникло поселение. Жители его изготовляли из дуба и липы кадки, или, как их тогда называли, кадницы. Однако это занятие, изменившее одну букву в романтическом названии села и навсегда закрепившее за ним новое – Кадницы, было временным и побочным. Главным стало бурлачество. Ярмарки – рядом, сначала Макарьевская, затем Нижегородская, на подходах к ним самые тяжелые для судов перекаты – Голошубинский, Кадницкий, Кирпичный, а под Нижним – знаменитый Телячий Брод.
Весной, великим постом, тысячи бурлаков из ближайших уездов Нижегородской губернии и северных уездов Пензенской приходили сюда на бурлацкий базар. Оброчные крестьяне, городская голытьба, беспаспортные бродяги – нищие, оборванные, голодные люди шумели, волновались, посылали десятников к нанимателю, спорили, не соглашались, хотя все знали, что примут хозяйские условия: нужно отрабатывать прошлогодний долг – кабалу, – и деваться все равно некуда.
Получив увольнительные виды и напившись в последний раз хозяйского вина, бурлаки посуху отправлялись вниз, к стоянкам судов, – в Астрахань, Самару, Хвалынск, присоединяясь по пути к тысячам нижегородских, пензенских, вятских, симбирских, тамбовских, рязанских, ярославских и иных губерний мужиков, которых нужда гнала сюда, на Волгу-матушку, широкую дорогу – долгий путь…
«Нечем платить долгу – ехать на Волгу». Каторжная здесь работа, изнурительна лямка, оставляющая на груди темный рубец, а все же нет ни помещика, ни бурмистра, ни своей постылой нищей избы. Есть простор, и воля, и заунывная бурлацкая песня, и Астрахань – Разбалуй-город. Арбузы и дыни здесь нипочем. И куда прохожий или проезжий ни зайди, везде его принимают, вида не спрашивают, все к его услугам – и вино, и женщины, были бы только деньги.
И не знаешь, с чем отсюда уйдешь – с рублем или с костылем, пробираясь до дому Христовым именем, а то и вовсе не придешь, подохнешь где-нибудь на пустынном волжском берегу – «тянешь лямку, пока не выроют ямку». Зато посмотришь, как перед зеленой громадой Жигулей замирает сердце купчины-хозяина. Кладет он земные поклоны – пронеси, мол, господи, это место, а то налетят молодцы-разбойнички, и отзовутся ему тогда кровомозольные бурлацкие деньги.
Здесь, на Волге, забитый крепостной мужик видел свое государство-державу не в фуражке пьяного урядника, а обнимал все одним взглядом – леса, тверские, костромские, муромские, ярославские, и Оку, проносящую свои воды через всю коренную Россию, и Каму, текущую с самого Урала, и мордву, черемисов, татар, чувашей, и хлебные губернии Нижнего Поволжья, и дороги на Среднюю Азию у Самары и Сызрани, и царицынские смыкающиеся с Доном степи, и персов, и кавказцев в Астрахани. Тысячеверстные просторы, величественные в своей простоте и безыскусственности, где столетиями формировался характер волгаря – человека разгульного и деловитого, непоседливого и работящего, всегда устремленного к новым местам и землям.
Бесчисленные поколения кадницких бурлаков, в течение столетия топтавших бурлацкую тропу – бечевник от Астрахани до Нижнего, – породили знаменитых на Волге кадницких лоцманов, знавших реку и в половодье и в межень как свои пять пальцев. Отправляясь в плавание, лоцманы брали с собой жен и детей – будущий волгарь знакомился со своей кормилицей-рекой с пеленок. Именно из Кадниц произошли наиболее известные на Волге лоцманские, а с развитием пароходства и капитанские семьи: Бармины, Вахтуровы, Сутырины, Неверовы, Лихины, Маметьевы. Со временем появились на Волге и другие села, поставляющие кадровых речников: Доскино, Голошубиха, Шава, Бахмут – лоцманов, Луговой Борок – водоливов и шкиперов, Ундеры и оба Услона, возле Казани, – грузчиков-татар, Сергачи и Брамзино – грузчиков-русских, Козьмодемьянск и Промзино – плотогонов. Но слава родины волгарей осталась за Кадницами.
Среди капитанских семей одной из стариннейших была семья Ворониных. Предки их пришли с тамбовской реки Вороны. Еще подавно были живы старики, помнившие Никифора Воронина – известного в свое время волжского лоцмана, который провел сквозным рейсом от Нижнего до Астрахани один из первых на Волге пароходов.
Отец Никифора до шестидесяти лет ходил «шишкой» – передовым в лямке. Опытный бурлак, он умел выбирать тропку и, не оглядываясь, чувствовал, кто тяги не дотягивает. Всю жизнь ходил в лямке, в лямке и умер.
Шли однажды бечевой в Костычах по тяжелому, обрывистому берегу, утопая в глубокой, вязкой грязи. Верховой ветер – горыч – гнал по воде валы с беляком, сносил судно, бечева тащила за собой бурлаков. Но торопился хозяин, спешил к ярмарке с дорогим рыбным товаром. Перекинув лямки вместо груди на спину, измученные бурлаки поворачивались лицом к уносимому ветром судну и, крепко уцепившись руками за бечеву, наваливаясь всем корпусом на лямку, жалобно пели:
Ох, матушка Волга,
Широка и долга,
Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало.
Расшиву вытянули. Только старик Воронин уже не поднялся. Тут же, на берегу, его и похоронили. А когда пришли в Нижний, хозяин вычел из Никифорова заработка стоимость пути, который не дошел его отец. Никифор знал хозяйские порядки: с одиннадцати лет плавал артельным кашеваром, с пятнадцати впрягся в лямку, а потом за ловкость-повертливость перевели подручным лоцмана. Но не промолчал – характером был отчаянный, рисковый, озорной, не чета другим бурлакам, которые только в плесе буяны, а дома бараны.
Узколицый, рябоватый, с волосами соломенного цвета, перехваченными со лба на затылок черным, блестящим от пота ремешком, он посмотрел на хозяина серыми разбойничьими глазами и, зловеще улыбаясь, спросил:
– Чужой бедой разживиться хочешь?
– Чем недоволен – жалуйся. Есть на то Судоходная расправа, – мирно ответил хозяин. Потом повернулся и громко, чтобы все слышали, добавил: – Чего не скажет бурлак при расчете! Тоже ведь по человечеству надо.
– В вашей-то… расправе богатый не бывает виноватый! – крикнул Никифор, наступая на хозяина.
Эти дерзкие слова, может быть, и простились бы Никифору – время на ярмарке горячее, не до какого-то бурлака здесь. Но, ткнув хозяину в бороду зажатыми в кулаке остаточными деньгами, Никифор добавил:
– Смотри, не подавиться бы тебе этим.
За что и был тут же наказан линьками.
Когда Никифор встал, хозяин жалостливо вздохнул:
– Вот и поддали тебе, малый, ума в задние ворота. Не сладки они, видать, боцманские капли…
Застегивая штаны, Никифор ответил:
– Ничего… Только и мы знаем… Знаем, чему, где и как тому быть надоть.
Хозяин имел право наказывать в плесе, а не на берегу. Но Никифор жаловаться не стал. Только через год, в ярмарку, нашли этого купца в Кунавине возле публичного дома, оглушенного и раздетого до нитки. Следствие по делу вели, но ничего не дознались – место глухое, что ни ночь, то караул кричат. Да и купцу наука: есть на Покровке и поблагороднее заведения, не ищи, где дешево!
Никифор три года где-то пропадал, пока не доставили его в волость из Хвалынска как «бесписьменного». Поговаривали, что разбойничал он в Жигулях, но улик не было. Подержали его в волости и, примерно наказав – теперь уже не линьками, а розгами, – отпустили. А разбойничья слава с ним осталась, хотя ему же и на пользу: не было случая, чтобы тронули его в Жигулях. За лихость и решительность хозяева отличали его перед другими лоцманами, платили по двести пятьдесят рублей серебром за навигацию; когда же пошли по Волге пароходы, Никифор меньше пятисот рублей не брал.
Со временем он стал известен как наилучший на Волге лоцман: знал на реке каждый перекат, каждую обмелину, каждую керчу. Трое его сыновей с малых лет плавали с ним. Никифор их учил:
– Волга – река мудреная. В ину пору – мать, в другую – мачеха. Стрежень меняется что ни весна. Судовой ход нынче здесь, а на будущую весну, смотришь, его повернуло эвон куда, а тут намыло песчаную косу. Так что смотреть надо! Попади только судно на мель, а там уж песок станет крутиться да замывать, так что никакая сила потом не вытащит посудину.
Сам Никифор за всю свою лоцманскую жизнь ни разу не посадил судно на мель: был смел, но осторожен. Хозяев не боялся, был с ними дерзок, в плесе вовсе не признавал. Презрительно говорил о них:
– У хозяина совести да разума мало, а корысти и глупости – этого довольно. Лезет на перекат – протрусь, думает, зачем убыточиться, распауживаться. Смотришь – и сел на мель в самых воротах. Сам нейдет и другим судам загородил дорогу – и низовым и верховым.
Большая путина, от Астрахани до Нижнего, продолжалась обычно шесть недель. Никифор Воронин проходил ее за пять, а то и за четыре. Поэтому и любили с ним ходить бурлаки и судорабочие, хотя и им спуску не давал. Боялись его в плесе и хозяева, и капитаны, и рабочие.
Одевался Никифор чисто. Всегда в новой красной рубахе, синем суконном кафтане, сапогах и фуражке из юфти, сшитой на манер охотничьего картуза. Только и было проку от больших его заработков. Любил вино, женщин, загуливал иной раз почище другого купца, особенно на ярмарке. Тогда угощал всех подряд, все пропивал с себя, ругал и бога и власть, дрался с людьми, потому что в бога не верил, власть ненавидел, слабых и робких презирал. Душа его рвалась куда-то, а куда – он и сам не знал. Порядок был строг и незыблем. Не было дороги ни конному, ни пешему. Вон Михайла Сутырин, тоже кадницкий, изобрел коноводную машину, а как был крепостным графа Шереметева, так им и остался. Воли и той не дождался.
А что проку в ней, в воле этой?! Заместо плетки – мошна, заместо господского дома – лабаз. Стены кирпичные, с железными затворными ставнями. Облепили лабазы всю землю – поди выковыряй!
Да нет уж и тех людей! Тихо стало в Жигулях, присмирел народ. Свистят, гудят пароходы, задушили бурлацкую песню, заглушили лихой, разбойный окрик.
Никифор старел и с годами все больше ожесточался. Душа просится в Понизовье, к Жигулям, в Астрахань. Ан нет! Знай, лоцман, свой участок, тыкайся по нему, как кутенок, из угла в угол. Да и лоцман теперь уже не то. На пароходе первая фигура – капитан. А для того надо грамоте знать и экзамены выдержать. А что в ней, в грамоте! На реке буквами ничего не написано. И с лоцмана экзамен требуют, и хозяин над тобой – лоцманская контора, и все по бумажкам да по картам. Тоска, тоска! Чистая публика на пристанях, и дамы в шляпках, и господа в мундирах, и купцы в котелках, и так же крючники-горбачи таскают кули по девять пудов, и в церквах звонят – рвут душу, точно хоронят кого. Нет уж той Волги! Обмелела, как обмелели люди, перегородилась участками, как огородили мужика запретами, уставилась бакенами, как жизнь чиновниками, запачкали ее нефтью, поразогнали рыбу.
В 1887 году Никифор Воронин вышел в отставку и последние девять лет жизни прожил безвыездно в Кадницах. Был ворчлив, придирчив, с другими стариками не знался. Иных презирал за хвастливость, за вранье, других – за то, что уступили молодым, в собственном дому стали приживальщиками. Маленький, но удивительно легкий и стройный, с седыми насупленными бровями, в картузе и тужурке, аккуратно застегнутой на все пуговицы, выходил он на берег Волги и долго стоял там, вглядываясь в проходящие пароходы, потом шел обратно, энергично постукивая палочкой по каменистой тропке, ведущей к дому.
Жена и оба старших сына умерли, остался младший – Василий. Хотя и учил его Никифор, – понимал: теперь нельзя без этого, – но не любил. Уж больно тих, смирен, безответен. Плавает третьим помощником на пассажирском пароходе, дослужится перед смертью до капитана – что толку!
– Ну как, Василий, – насмешничал Никифор над сыном, – все лижешь хозяйскую задницу?
– Так ведь служить надо, папаша, – почтительно отвечал Василий, – каждый человек, значит, на своем месте.
– Месте? Кто же тебе место указал? Бог? Государь император? Эх вы, люди! Кому служите-то, а? Отвечай!
– Обществу, значит, государству.
– Обществу? Государству? – притворно удивлялся старик. – Так вы его давно по амбарам растащили, государство-то.
Мелко и сильно постукивал маленьким кулачком по столу:
– Думать надо: для чего на свете живете, жилитесь для чего? Спать в тепле, жрать сладко? Так и сверчок за печку лезет, и муха на сахар ползет… Человек все может, а его по рукам, по ногам… Человеку голова дана. Понимаешь? Го-ло-ва! А вы в нее псалтырь вколотили, а самого заместо лошади. Жизнь на хозяйские получки поделили! От субботы до субботы.
– Что ж теперь делать, папаша? – Василий томился разговором с отцом. – Так уж, видно, назначено.
– Назначено! – передразнивал старик. – Дурак ты!
В жены Василию Никифор сосватал шестнадцатилетнюю дочь капитана Мореходова – Екатерину, красивейшую девушку поселка. Хоть не любил старик Мореходовых, новой поросли сорняк, и не по нутру ему было сватовство, – будь Василий молодец, сам бы девку себе добыл, – но ничего не поделаешь: своя кровь. А там пусть смотрит: будет ему костыль или костылем по затылку.
Сосватать сосватал, а на свадьбе учинил скандал: напился пьяным и бросился на свата с палкой. Пришлось Василию с товарищами его связать, хоть и материл его отец из бога в душу, проклинал и грозился убить.
Не по-людски жил человек, не по-людски и умер. Как стал чувствовать смерть, приказал раскрыть все окна-двери и все прислушивался к пароходным гудкам, угадывал, чей такой пароход идет. Дело осеннее, у Екатерины ребенок грудной, плакала она от злости, только ни слова не сказала: хоть и с норовом была, а свекра боялась. Всю ночь чего-то бормотал старик, прислушиваясь к реке, а утром подошла к нему Екатерина, а он мертвый. Вытянулся, бородка задралась, пальцы вцепились в одеяло, лицо судорогой свело, точно кто приходил ночью и душил его, старого.
Глава вторая
Когда Василий приехал, отца уже схоронили. Да и отпустили Василия всего на два дня. Надо было возвращаться на судно.
К тому времени Василий стал уже капитаном. Плавал на судах «Купеческого пароходства», все больше по местным перевозкам, на коротких расстояниях, с заходом почти во все прибрежные селения. Когда пароходство ликвидировалось, перешел в общество «Волга», принадлежавшее крупным нижегородским купцам и промышленникам. Хозяева ценили его за трезвость, команда уважала за тихий, справедливый нрав.
Жизнь его из года в год текла спокойно и размеренно. Летом в плавании, зимой в Жуковском затоне, что против Кадниц, на той стороне Волги, все равно что дома. Нелегко было каждый день зимой отмеривать через реку четыре версты туда да четыре обратно. Василий был хоть не высок, но тучен, со временем стал страдать ревматизмом и одышкой. Но он ходил: привык к дому, к семье, любил жену.
Екатерина Артамоновна – женщина домовитая, не в пример другим кадницким женам не плавала с мужем: вела хозяйство, воспитывала детей. Дом ее был из самых больших в поселке – любила пристраивать и расширять его. Он стоял на косогоре; первый этаж, выложенный из красного кирпича, казался с одного края полуподвалом, на котором несколько неуклюже громоздился второй этаж – продолговатый оштукатуренный сруб с резными наличниками и ставнями. Наружная дверь, выкрашенная в ярко-желтую краску, всегда была заколочена – в дом входили через крытый двор. Шаткая лестница вела наверх, в две парадные комнаты, всегда полутемные: окна были затянуты черными железными сетками от комаров. Только белел кафель громадной, во весь простенок печи, да поблескивали на стенах стекла многочисленных фотографий, в большинстве групповые: команды судов и классы речных училищ. В первом этаже размещались кухня, кладовые и несколько маленьких комнат. В них и жили.
В 1916 году от болезни сердца скончался Василий Никифорович. Екатерина Артамоновна осталась вдовой на сороковом году жизни с пятью детьми-погодками: старшему, Ивану, двадцать три года, младшему, Семену, семнадцать.
Долголетняя привычка самостоятельно управлять домом развила в Екатерине Артамоновне деспотические черты характера. Умная, деятельная, насмешливая, она держала семью в крепких руках, не терпела возражений, все делала по-своему.
Она выдала замуж трех дочерей. Младший сын, Семен, жил при доме. И с некоторым, хотя и затаенным чувством тревоги ожидала возвращения старшего сына, Ивана. С четырнадцатого года служил он в военном флоте, затем до двадцать первого года – у красных, в Волжской военной флотилии. Всех-то теперь жизнь раскидала в разные стороны. Не разберешь, кто правый, кто виноватый. А Иван служит по мобилизации, в партию не записан, придет домой, женится и будет жить так, как жил его отец, той именно жизнью, которую представляла себе Екатерина Артамоновна как настоящую и единственную.
Вернулся Иван домой. Мать приискала ему невесту. Но Иван жениться отказался, хотя девушка была всем хороша; красивая, хозяйственная, из хорошей кадницкой семьи. То, что сын, который всегда был самым тихим и послушным из всех детей, сопротивлялся ее воле, не удивило Екатерину Артамоновну. Сбылись ее тайные опасения, перевернулась жизнь наизнанку, тянет за собой и ее дом, крушит, ломает все.
Но людям она в этом не хотела признаться.
– Чужой, не родственный, – говорила она про Ивана, – набаловался, поди, в разных портах с гулящими девками, вот и страшна ему семья-то.
Иван был в мать: высок, худощав, с несколько мелковатыми, но правильными и красивыми чертами смуглого, обветренного лица. Синие точки порохового ожога придавали этому солдатскому лицу мужественность и суровость. Но уравновешенным характером и немногословием походил на отца.
– Ведь настоящего человека тебе нашла, – уговаривала его Екатерина Артамоновна. – Сам-то ты овца, чистая овца, первая же девка тебя окрутит. Помяни мое слово.
Вышло не так, как предсказывала Екатерина Артамоновна, но и не так, как, должно быть, ожидал сам Иван.
В 1921 году, во время голода в Поволжье, он плавал старшим рулевым на пароходе «Урицкий». На корме, в толпе беженцев, сидела крестьянская девушка в лаптях, толстых онучах и рваном полушубке. Хотя Иван вдоволь нагляделся на голодных людей, измученный и несчастный вид этой девушки тронул его. Она была одна, ни с кем не разговаривала. Когда Иван прошел мимо нее, она подняла глаза и посмотрела на него далеким, отчужденным и разрывающим сердце взглядом, каким смотрят на людей умирающие животные.
С сердечной грубоватостью солдата он положил ей на колени кусок хлеба и воблу, свой суточный паек.
– Ешь давай!
Потом он заговорил с ней. Без родных, без знакомых, она ехала неизвестно куда.
– Все в деревне померли, – повторяла девушка, и по ее широкоскулому, как у мордовки, лицу пробегала судорога ужаса.
Ей было на вид лет семнадцать, и, несмотря на страшные меты, которые наложил на нее голод, в нежных очертаниях шеи, в измученных, но ясных глазах проглядывала беззащитная чистота.
Весь день Иван чувствовал на себе ее взгляд и понимал, что он для нее единственный человек, хотя бы потому, что никто больше не может помочь и посочувствовать ей здесь, где были люди, сами нуждающиеся в помощи и сочувствии.
Мысль о девушке, одиноко сидящей на темной корме, среди вздыхающих, стонущих, ворочающихся людей, не давала Ивану покоя. Этот человек, простым матросом ходивший с Маркиным на «Ване-коммунисте» против Колчака по Каме и Белой, участвовавший в наступлении на Царицын и затем, в двадцатом году, в составе десанта громивший англо-белогвардейские войска в Энзели, – этот мужественный и молчаливый человек вдруг почувствовал себя ответственным за жизнь и судьбу случайно встреченной им голодной незнакомой девушки.
С этим чувством поднялся Воронин на следующий день в рубку и принял вахту.
Начиналось тихое утро. Небо было чистое, только по одному его краю ползли редкие облака. В рубке продувал ветерок, но река была совершенно гладкой. Чуть зеленоватая вода блестела свежим серебром утреннего солнца, местами темнела пятнами разводьев. Далеко впереди берега двумя мысами подходили друг к другу, образуя узкие ворота, окутанные редким туманом, поднимавшимся с дальних гор.
Воронин вглядывался в родные места. Пароход только что прошел Лысково. Сзади еще чернела на берегу лесная биржа, на противоположном берегу белели стены древнего Макарьевского монастыря. Но вот скрылись за поворотом реки и пристань и монастырь, и опять пошли луга, пески и кустарник слева, горы и лес справа. Привычная картина: створы, перевальные столбы, бакены, домишки бакенщиков, деревни, пристанёшки, лодки, сети, встречные пароходы и плоты… Мальчики с удочками в руках, в засученных штанах стоят по щиколотку в воде неподвижно, как маленькие черные столбики. По откосу движется подвода, лошадка идет, дергая головой, бодро помахивая хвостом. Уже появились слепни и мухи, они больно жалят, но лошади приятно идти по раннему холодку, и она, всю зиму жевавшая сено, уже чувствует запах молодой зеленой травы.
С детства знакомый, просторный и могучий волжский пейзаж. Чистый, ясный, пронизанный сияющим солнечным светом. Он не вязался с тем, что видел Иван несколько дней назад там, внизу, откуда вывозили они голодающих. Не соответствовал тому, что творилось сейчас на корме и палубах, где лежали полумертвые люди. Противоречил ощущению беспомощности, которое испытывал Воронин при мысли об этой девчонке. И у него возникло самое неожиданное, но у таких людей, как он, бесповоротное решение. Это было то мгновенное движение души, когда человек, подчиняясь только голосу совести, совершает нелепые на первый взгляд поступки. Когда пароход подошел к Кадницам, оп отвел Настю (так звали девушку) в дом, к матери.
– Пусть поживет. На обратном рейсе заберу, – сказал он Екатерине Артамоновне и оставил ей деньги, какие имел, и паек, выпрошенный у боцмана за месяц вперед.
Раньше Екатерина Артамоновна не потерпела бы подобного своеволия, но после отказа Ивана жениться на присватанной ею невесте она с выражением насмешливой покорности относилась ко всему, что делал старший сын. Она говорила о нем и разговаривала с ним не иначе, как с иронически-испуганной улыбкой, зловещей на этом лице, каждая черта которого выражала властность и нетерпимость.
Она бросила на Настю быстрый взгляд. В нем смешались презрение к этой побирушке, злорадство по отношению к непокорному сыну и гордое сознание правильности собственных предсказаний. Потом насмешливо поклонилась Ивану и кротко произнесла:
– Слушаюсь, сынок-батюшка, слушаюсь, милостивый.
За Иваном захлопнулась дверь. Екатерина Артамоновна выпрямилась и несколько минут молча разглядывала Настю. Та стояла перед ней с безучастным видом человека, которого голод лишил даже способности пугаться.
– Доигрался парень…
Эти слова положили начало семейной драме, одной из тех, которые нередко разыгрываются под сенью мирных и безмятежных с виду домов.
Беспощадная к людям, которых она не любила, Екатерина Артамоновна сразу подмечала их слабые стороны и делала предметом своих злых насмешек. К Насте она прониклась неистребимым презрением и не замедлила превратить ее неразвитость, забитость в предмет своего упорного и жестокого издевательства.
Екатерина Артамоновна ничем не попрекала Настю, не сказала ей ни одного грубого слова. Но величала ее не иначе, как «пассажирка-барыня».
– Ну как, госпожа пассажирка-барыня, – обращалась она к Насте, – дала корове-то аль нет еще?
Когда все садились обедать, она, как бы не видя приткнувшуюся в углу Настю, обводила всех деланно-испуганным взглядом и спрашивала:
– А где же наша пассажирка-барыня? Что-то к столу не идут, не прогневались ли? – И потом, будто только заметив ее, облегченно вздыхала: – Ах, здесь! Ну и слава богу!
Если заходила соседка, она, бесцеремонно указывая на Настю, говорила:
– Вот и у нас новый человек в доме. Не знаю только, как звать по нонешнему-то времени: жена, невеста или полюбовница?.. Мы-то ведь люди темные, дальше Пьяной просеки от села не хаживали, а они («они» – это был Иван) по заграницам плавали, все насквозь прошли, все знают.
Мелочное издевательство было непонятно в Екатерине Артамоновне, женщине умной, рассудительной и по-своему справедливой. По-видимому, иногда она сама сознавала это. Тогда она оставляла Настю в покое, несколько дней не разговаривала с ней, не замечала, будто той и не существовало. Встречаясь с Настей, смотрела прямо, точно сквозь нее, отсутствующим взглядом. Но так продолжалось три-четыре дня, а затем она снова принималась за прежнее с еще большим ожесточением.
Какой бы трудной жизнью ни жили кадничане, они выделялись из общей массы полуголодных грузчиков, бурлаков и матросов купеческой Волги. Относительное материальное благополучие капитанских семей, грамотность, связи с торговым и промышленным миром Волги – все это проводило заметную грань между жителями Кадниц и окрестным населением, изнывавшим от малоземелья, податей и неурожаев. Это были мещане, живущие на селе и тем более проникнутые кастовыми, цеховыми предрассудками. В их власти и была Екатерина Артамоновна.
Революция сломала привычный уклад жизни, перевернула старые представления и понятия. Матрос из Голошубихи, ставший начальником госпароходства, или крестьянин-бедняк из Шавы в роли председателя уездного ревкома олицетворяли для Екатерины Артамоновны крушение старого мира больше, чем что-либо другое. Люди кругом тоже жили этим новым порядком. Что же, их дело! Но чем сильнее стучалась жизнь в ее дом, тем крепче запирала Екатерина Артамоновна двери. Для нее Настя по прежнему была голь, нищенка, ни кола ни двора, ни ложки ни плошки. Невесть откуда появилась эта «мордовка» и, кто знает, может стать такой же, как она, хозяйкой добра, накопленного ее собственными трудами. Она была уверена, что Настя, не вытерпев издевательств, сама уйдет. И в то же время хотела увидеть Ивана мужем этой деревенщины – пусть накажет себя за непослушание.
Но Насте некуда было уходить. Лучше такая жизнь, чем голод. Она понимала, что Воронин ее жалеет и что он единственный человек на свете, которого надо держаться. Может быть, он женится на ней?
Иван вернулся по окончании навигации домой, вовсе не думая о женитьбе. Но когда он увидел, как мать обращается с Настей, в нем пробудилось унаследованное от нее же упрямство, хотя и скрытое под внешней невозмутимостью.
– Хватит, помилостивились, – сказала ему Екатерина Артамоновна, – всех-то беженцев не перекормишь, да и самим жрать нечего. Отправляй свою кралю.
Иван молчал.
– Не было еще такого, чтобы у всех на глазах мамзелей содержать. Не купцы мы, не Кашины и не Бакшировы. Время не то, тебе не к лицу, хватит и с меня сраму на старости лет. Или отправляй, или женись, – добавила она с усмешкой.
Тогда он объявил, что женится на Насте.
– Женись, дело твое, не мне с ней жить, тебе, – спокойно ответила она тоном человека, заранее знавшего, что именно так и случится.
Невеселая была свадьба. Екатерина Артамоновна даже вина не пригубила. Сидела с окаменевшим лицом, на котором точно было написано: «Против я или не против, а долг свой исполняю. И свадьбу справила, и, почитай, полдома отделила, и белья постельного дала. Ведь не то что простыни – рубашки своей нет. Голь! Так что меня люди ничем попрекнуть не могут. А вот встанем из-за стола – и живите, голуби, как хотите. Я вас не знаю, и вы меня не знаете».
Так они и стали жить. Мать с младшим сыном Семеном – на одной половине, Иван с женой – на другой. Екатерина Артамоновна во дворе и то поставила заборчик: это, мол, ваше, а это мое.
Заборчик был ни к чему: через два месяца Иван отправился в плавание шкипером баржи и забрал с собой жену. Она проплавала с ним навигацию, зиму они прожили в затоне.
– Богато живут – с плота воду пьют, – насмешливо говорила Екатерина Артамоновна. – Ну да ничего, не научила мамка, так научит лямка.
Так, может быть, и не вернулся бы Иван в Кадницы. Но осенью 1923 года ночью, на барже, Настя почти за месяц до срока родила дочь.
Роды были тяжелые. Шторм рвал баржу с якорей. Ко всеобщему удивлению, и мать и дочь остались живы. Девочку назвали Екатериной, в честь бабушки. Пришлось вернуться в Кадницы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?