Текст книги "Лермонтов и Пушкин. Две дуэли (сборник)"
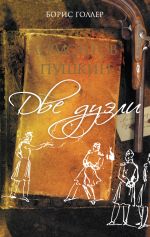
Автор книги: Борис Голлер
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Борис Александрович Голлер
Лермонтов и Пушкин. Две дуэли
© Борис Голлер, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
В книге приведены рисунки и акварели Лермонтова (В. А. Лопухина, А. А. Столыпин-Монго в костюме курда), а также портреты А. С. Пушкина. М. Ю. Лермонтова, П. А. Вяземского, Э. К. Мусиной-Пушкиной, Н. Н. Пушкиной, Е. Н. Гончаровой, А. Н. Гончаровой, Ж.-К. Дантеса-Геккерна, Н. С. Мартынова. Вид Эоловой арфы (Пятигорск, фотография)
От автора
В моем отношении к Лермонтову всегда было нечто мистическое. В Сибири, в эвакуации, в 1942-м я тяжело заболел. Ко мне привязалась «терциана» – малярия-трехдневка. Неизвестно как добредшая со мной до этих мест. До городка Старо-Кузнецка в Сибири, на реке Томь. В этих местах не было отроду ни хинина, ни акрихина. Может, здесь и не слышали о такой болезни жарких краев. А я погибал – мне было 11 лет. Каждые несколько дней меня трясла лихорадка. Три дня. И каждые три были трудней предыдущих. Длилось это месяцы. И моя тетка Мария, видный военный врач в блокадном Ленинграде, получив письмо матери, не знаю, каким способом, добилась разрешения послать посылку «на волю». Опять же не знаю, как посылка дошла из осажденного города через всю страну. (Наверное, это было уже после первого прорыва блокадного кольца.) Но до меня дошли в целости и сохранности, лишь обертка пострадала, – три книги: двухтомник Лермонтова 1941 года, под редакцией Б. Эйхенбаума (два первых тома: издание оборвала война) и детгизовский однотомник, тоже предвоенный, для старшего возраста: там был «Герой нашего времени». И во всех трех книгах между листами были порошки с хинином. Я стал выздоравливать.
Я увлекся Лермонтовым, как можно увлечься только в детстве и в отрочестве. В начале жизни. И когда нас приводили в госпиталя к умирающим или воскресающим здесь солдатам войны – тогда часто водили в госпиталя школьников: считалось, что раненым солдатам так легче, видеть детей, – я читал солдатам «Бородино», «Бой с барсом» из «Мцыри» и еще что-то… До «Валерика» я не дошел тогда – верно, не дорос. Да и как можно было прочесть солдатам Отечественной:
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем…
Каждому стиху – свое время и своя аудитория. Кстати, именно там, в госпитале, во время одного такого концерта перед праздником, я услышал весть – не весть, а крик, «победы торжество». Влетел кто-то с улицы: «Товарищи! Город Киева взяли!» Так и слышу сейчас – в родительном падеже! Потом все показывали молодого франтоватого лейтенанта, с одной рукой, которого недавно выписали из госпиталя. За ним бегали решительно все местные девушки. (У них были в моде ребята с фронта, которым не нужно уже возвращаться на фронт.) Он получил Звезду Героя за то, что при наступлении, раненый, со знаменем переплыл Днепр.
Для меня самое сильное и нестерпимое – личное воспоминание о войне – железнодорожная станция в тылу с двумя поездами на путях. Пришедшими навстречу друг другу. И один – поезд теплушек, двери раздвинуты, и в дверях, за ограничительным брусом – словно упершись в него, молодые солдаты. Они молча глядят на тот, другой состав… Из спальных вагонов. Окна скрыты занавесками, но в окне все ж мелькают там и сям загипсованные ноги, забинтованные головы… Госпиталь. Это направляется в тыл отработанный человеческий материал великой войны. А те молодые, здоровые, со встречного поезда, – молча глядятся в этот состав, как в зеркало.
Так получилось, что Лермонтов вошел в мою жизнь в войну и в общем-то никуда не ушел из этой темы… Я только много после понял, что он принес ее с собой в нашу литературу, и не только в нашу – в том виде, в каком она разовьется после – у Толстого, Хемингуэя, Ремарка, Кондратьева, Быкова… Что он создал «Бородино», «Валерик», «Завещание» как первые произведения «окопной правды» – истинной «лейтенантской прозы», сильно отличающейся от «прозы Генштаба».
Так получилось, что в 15 лет я начал писать о нем роман. В 33 года пьесу, которая так и осталась в набросках. Потом в 43 года – драму «Плач по Лермонтову, или Белые олени». Она вошла в цикл моих «драм истории», посвященных пушкинско-лермонтовской поре: «Сто братьев Бестужевых» (трилогия), «Венок Грибоедову, или Театр для одного драматурга». Кажется, я всегда думал о нем – даже тогда, когда писал роман о Пушкине. После я открыл для себя тему тайного спора Лермонтова с Пушкиным – после смерти Пушкина. Я впервые обратился к этой теме в работе «Пейзаж с фигурами на заднем плане» («Вопросы литературы», 1998). А много позже это стало книгой (эссе) – «Лермонтов и Пушкин» в двух частях (2011–2012). И мне давно хотелось соединить эту книгу с пьесой.
Первое, что я ощутил в Лермонтове еще в юности, не зная как назвать, – само дыхание трагедии. Полной, неизбывной, настоящей. Такова была его жизнь и его гибель. Лермонтов, в сущности, первый на Руси трагический художник, хотя, в отличие от Пушкина, не написал ничего в жанре трагедии, кроме юношеских «Испанцев».
Признаемся, мы мало занимались нашими классиками не как адептами тех или иных социальных или политических доктрин, но самим мировоззрением писателя. Его отношением к жизни, к смерти. К примеру, Пушкина не назовешь художником трагическим. Он искал «истину всеобщей жизни». Для него всегда существовал некий «поколенческий взгляд» на мир:
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!
Слышите? «В добрый час»! Это именно Пушкин. Поколение позади, поколение впереди. А нынешнее – лишь звено в цепи… «И пусть у гробового входа // Младая будет жизнь играть…» Ощущение Пушкина!
Как разнится оно с лермонтовским: «Бог знает, будет ли существовать это „я“ после жизни! Страшно подумать, что наступит день и не сможешь сказать: Я! При этой мысли вселенная есть только комок грязи!» (Из письма к М. А. Лопухиной. 2 сентября 1832.) Ему лишь 18 лет. Только что он написал «на берегу моря» «Белеет парус одинокий…» – то же письмо.
Лермонтов и Пушкин. Печорин и Онегин… Но если фамилия Онегин могла родиться в сущности как угодно, да и просто случайно, то фамилия Печорин несла уже определенный смысл. Это был откровенный вызов совсем еще юного автора «Княгини Лиговской» великому роману Пушкина. «Онега» и «Печора» – названия двух рек, но и два разных русла, по которым устремилась далее вся наша словесность. Тайный код нашей литературы. Эту связь «между Онегою и Печорою» и различие между ними отметил еще Белинский. «История души человеческой, даже самой мелкой души» – вот что занимало Лермонтова. Человек для него был «штучный товар». Уникальный случай. Единственный в своем роде. Это и позволило ему создать в русской литературе первый психологический роман.
Лермонтов – как творец и как человеческая судьба – одно из самых ярких выражений трагичности самого бытия человека с его смертным финалом. А трагедия есть драма, повернутая к общим законам бытия – Природы или Бога. Великий французский драматург уже XX века Жан Ануй в пьесе «Антигона» сказал устами Хора (что тоже важно для нашей темы): «Трагедия – дело чистое, верное, она успокаивает… В драме смерть похожа на несчастный случай… В трагедии чувствуешь себя спокойно.
В сущности, ведь никто не виноват… Не важно, что один убивает, другой убит. Кому что выпадет… И остается только кричать – не стонать, не сетовать, а вопить во всю глотку то, что хотел сказать, что прежде не было сказано… В драме борются потому, что есть надежда выпутаться…»
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом…
Лермонтов и прокричал в замолкшую эпоху то, «что прежде не было сказано». Прекрасно понимая, что нет «надежды выпутаться». Ему, как никому другому до него, была близка Аристотелева мысль о катарсисе, который имел в тысячелетиях много определений, но в «наш жестокий век», похоже, сохранил одно: «возвышение и очищение страданием».
«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б ее, она бы произвела прежнее действие, Ее певала мне покойная мать…»
Из немногих автобиографических заметок Лермонтова.
От него осталось очень мало писем. Да он и не обладал великолепным пушкинским эпистолярным даром. К тому ж… в письмах он практически не говорит о литературе. Очень мало. Мы почти не знаем его литературных мнений: ни одной критической статьи. Да и другие – общественные, политические суждения его никто не отмечал, не фиксировал за ним. Просто не успели, пожалуй. Слава его только начиналась – соответственно, и интерес к нему. (Тоже – какая разница с Пушкиным!) И в поведении своем внешнем он, кажется, делал все, чтоб общество как можно меньше видело в нем поэта. Ему было свойственно скрывать от мира Главного себя…
В последний его проезд через Москву на Кавказ – в Пятигорск, на смерть, в будущем известный славянофил Самарин записал его слова: «Хуже всего не то, что известное количество людей страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого». Формула простая – и суровая по-лермонтовски.
«В нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи-Филиппа. Второй раз не дают промаха», – констатировал Вяземский, когда он погиб.
Наверное, можно заподозрить Божественное присутствие в том факте, что он родился в 1814-м, за столетие до первой страшной войны, перешедшей в Гражданскую, а погиб в 1841-м, ровно за столетие – до войны еще более страшной…
Автор этих строк написал когда-то о Грибоедове: «В том нет ничего обидного, что художник уходит куда-то, после возвращается. Что его отношения с потомством, с движущимся временем развиваются по сложной кривой: из подъемов и спадов, уходов и возвратов».
В наш постмодернистский век есть ощущение, что начинают забывать Лермонтова.
Но он возвращается снова и снова. Стоит только вспомнить, какое увлечение им царило перед Первой мировой, после Гражданской и в преддверии Великой Отечественной. Два полных издания подряд: 1940, 1941! Второе осталось незавершенным…
Трагический писатель Лермонтов возвращается в эпохи посттрагедийные или в предчувствии трагедии.
Это не исследование в прямом смысле слова. Только эссе, «опыт». «Метод читательской критики», как говаривал Л. Выготский. – Между прочим, очень точное определение! – А я – всего лишь пишущий, волнуемый текстами или историей этих текстов, или историей тех, кто эти тексты создавал. Чаще – и то, и другое, и третье, вместе взятое. Хотя следует признать, в последнее время сам термин – эссе стал как-то тускнеть или слишком мелькать – и, больше, у поверхности. Просто когда-то, когда жанр лишь родился, – его отличал, прежде всего, интерес к предмету разговора. В наши дни эссеистика нередко начинает с предмета – но после почему-то забывает о нем, ибо автор сосредотачивается на самом себе. В этом случае жанр невольно обезоруживает сам себя…
Часть 1
По направлению к «внутреннему человеку»
«Рассказ начат как будто по старинке: автор едет как бы навстречу Пушкину – не из Ставрополя в Тифлис, а из Тифлиса к Ставрополю. Они могли бы встретиться на Крестовой горе или на станции Коби…»[1]1
Эйхенбаум Б. М. Герой нашего времени // Статьи о Лермонтове. М.-Л., 1961. С. 270.
[Закрыть] Б. Эйхенбаум отмечает некий параллелизм описаний Военно-Грузинской дороги Лермонтовым («Бэла») и Пушкиным («Путешествие в Арзрум») – и удивляется тому, что «автор „Бэлы“ пишет так, как будто он не читал пушкинского „Путешествия“»[2]2
Там же. С. 271.
[Закрыть]. Он считает, что на основании этих совпадений «можно и надо сделать один существенный историко-литературный вывод: эти страницы „Бэлы“ и „Максим Максимыча“ написаны Лермонтовым так, чтобы они напомнили о „Путешествии в Арзрум“, как дань памяти великого писателя»[3]3
Там же. С. 273.
[Закрыть].
Те же совпадения двух текстов наблюдал и В. Виноградов, говоря о «стиле Лермонтова», – только делал из этого полярный – и так же «существенный историко-литературный вывод»: «туристский характер кавказских впечатлений и описаний Пушкина разоблачает лермонтовский Максим Максимыч с его знанием кавказского быта». И далее: «В лермонтовском описании с беспощадным реализмом разоблачен иронический гиперболизм пушкинского стиля, прикрывающий, мы бы сказали, незнание функциональной семантики быта…»[4]4
Виноградов В. В. Стиль прозы Лермонтова // Литературное наследие. М.-Л., 1941. Т. 43–44. С. 580.
[Закрыть]
Бедный Пушкин! Он и слов таких не знал – «функциональная семантика»! А что бы сказал он – да и Лермонтов – про «беспощадный реализм»?.. И уж если чье «незнание функциональной семантики кавказского быта» и «разоблачает лермонтовский Максим Максимыч» – так это незнание ее самим Автором-рассказчиком. Ко времени создания повести и сам Лермонтов был на Кавказе, в достаточной степени, новичком.
А с другой стороны… Иногда можно пожалеть – честное слово! – что ты лишен от природы такого дара к созданию идиллии, каким обладал Б. Эйхенбаум. Только… Кто бросает вызов Богу – а так невольно поступает в искусстве всякий истинный творец (и Лермонтов принадлежал к их числу), – кто пытается создать другую действительность – и тем, что дерзает постичь первую, и тем, что присваивает себе право судить ее, – редко при создании собственных текстов способен действовать из чистого альтруизма по отношению к текстам чужим.
Впрямь есть ощущение, хотя и неявное, что пушкинское «Путешествие в Арзрум» как бы стелет путь – тому самому «путевому очерку», из которого на наших глазах родится «Бэла», а вместе с ней и вся «длинная цепь повестей» – лермонтовский роман. Только сдается… если крупный писатель включает в свой текст цитату (или цитаты) из других авторов, он что-то хочет этим сказать, он подает нам какой-то знак. Это подозрение, в данном случае, вело и нас – к «длинной цепи» размышлений… Часто грустных – ибо, следуя прилежно вдоль этой цепи, в случае с Лермонтовым мы могли наблюдать странное, но поучительнее явление – как не один, а даже несколько крупных исследователей подходили, один за другим, близко-близко к решению – почти к самому краю и… В последний момент, невесть почему, вдруг делали шаг в сторону. Отскакивали с поспешностью – как отшатываются от края пропасти…

Глава первая
Спор
1В середине января 1838-го Лермонтов наконец воротился в Петербург – «после долгих странствований и многих плясок в Москве» – как вскоре, несколько витиевато, будет сообщать он об этом в Ставрополь – в письме к дяде, генералу Петрову («…благословил, во-первых, всемогущего Аллаха, разостлал ковер отдохновения, закурил чубук удовольствия и взял в руки перо благодарности и приятных воспоминаний»)[5]5
Лермонтов М. Собр. соч. В 4 т. 1979–1981. Т. 4. С. 404. Письмо 30. Здесь и далее все тексты Лермонтова приводятся по этому изданию. Вне специально оговоренных случаев – курсив и подчеркивания мои. – Б. Г.
[Закрыть]. Приехал еще не насовсем – еще только проездом в «гродненские гусары»… Во всяком случае, ссылка за стихи на смерть Пушкина осталась позади.
(Заметим в скобках, время этой ссылки – самый смутный период в смутной биографии Лермонтова. – Б. Г.)
«Первые дни после приезда прошли в беспрерывной беготне: представления, парадные визиты… да еще каждый день ездил в театр…» И лишь где-то совсем с краешку этой суеты, как часто у Лермонтова – примостилось нечто важное:
«Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, „Тамбовскую казначейшу“: он повез ее Вяземскому, чтоб прочесть вместе; сие им очень понравилось – и сие будет напечатано в ближайшем номере „Современника“…» Это из письма к Марии Александровне Лопухиной.[6]6
Там же. Т. 4. С. 405. Письмо 31 от 15 февраля 1838.
[Закрыть]
С некоторых пор письма в дом Лопухиных – кому бы то ни было – всегда имеют в виду, втайне, и даже, вероятно, в первую очередь, еще одного адресата: Варвару Александровну, сестру Алексиса и Мари – ту самую Вареньку Лопухину, что в 35-м вышла замуж за тамбовского помещика Бахметева. Кстати, именно из письма, о котором речь, мы и узнали в итоге, где же происходит действие поэмы. (Поэма вышла в свет без поименования места: просто «Казначейша» – без «Тамбовской».)
Вообще к письмам Лермонтова нужно подходить с осторожностью! Ему трудно верить на слово. Его письма приходится дешифровывать сперва – а потом уж комментировать. Ими трудно располагать как чистым документом. Но данное письмо…
«В заключение посылаю вам стихотворение, которое я случайно (!) нашел в моих дорожных бумагах и которое мне даже понравилось именно потому, что я забыл его (!)…» (Восклицательные знаки, конечно, расставлены нами. – Б. Г.)
Молитва странника
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного…
Когда «вручают» чью-то душу «теплой заступнице мира холодного» – не лгут в соседних строках: сам контекст стихов служит порукой достоверности эпистолярной прозы.
И тут мы временно свернем с тропы сюжета о несчастной любви и ступим на другую, чисто литературную.
Пока оставим в покое саму поэму про «тамбовскую казначейшу». Место ее в лермонтовской «игре стеклянных бус» неопределенно по сей день. Возможно, здесь «магистр игры» сделал ход, непонятный до конца и ему самому… Поэму с самого появления на свет без прекословий отнесли к аналогам таких же «шутейных поэм» Пушкина (с местом которых, правда, и в пушкинском литературном ряду тоже понятно не все).
Но история литературы – еще и история психологии времени, историческая психология и много чего еще. История контекстов, в частности. И мы должны отдать дань последней. Или последним.
Следует обратить внимание на почти ритуальность первого лермонтовского шага в Петербурге: молодой поэт, который впервые заявил о себе в обществе стихами на смерть Пушкина и пострадал за них, по возвращении из ссылки первым долгом почтительно несет новую вещь, написанную им, не куда-нибудь, а в журнал Пушкина: Жуковскому и Вяземскому… Тем, кто, конечно, с полным основанием могут считать себя – и считают – прямыми душеприказчиками Пушкина на земле. (Правда, непосредственно журнал ведет Плетнев. А другие, как сказали б в наше время – лишь входят в редколлегию.)
Поэма Лермонтова начиналась словами:
Пускай слыву я старовером,
Мне все равно – я даже рад:
Пишу Онегина размером,
Пою, друзья, на старый лад…
Это звучало почти как присяга на верность. Как целование знамени…
В последнем по времени «академическом» комментарии к поэме читаем:
«„Тамбовская казначейша“ по жанру продолжает традицию шутливых реалистических поэм Пушкина – „Граф Нулин“ и „Домик в Коломне“. В стихах заключительной строфы содержится не только декларация Лермонтова об отходе его от эстетических норм романтической поэзии, но, возможно, полемика с „Северной пчелой“. Ведь именно Булгарин, возражая Гоголю, прямо призывал: „Давайте действия, давайте страстей“ и утверждал, что тогда-то „поэзия воскреснет“. Лермонтов иронически откликнулся в своей поэме на эти слова Булгарина. Так поэт продолжал литературную борьбу, начатую Пушкиным, за реалистическое, лишенное экзотики и мелодраматизма изображение повседневной действительности»[7]7
Лермонтов М. Ю. Указ. издание. Vanue. Т. 2. С. 559. Комментарий.
[Закрыть].
Не забудем, что Лермонтову еще предстоит создать или издать «Мцыри», «Демона», «Бэлу» и много еще чего – в этом самом не «лишенном вовсе экзотики и мелодраматизма» и осмеиваемом автором комментария «романтическом» духе. Потому я б не стал так быстро отлучать его от романтизма. Будем считать, что «это позволяет говорить о существовании в творческом методе Лермонтова романтических и реалистических начал»[8]8
Лермонтовская энциклопедия (далее ЛЭ). Советская энциклопедия. М., 1981. С. 561. Ст. «Тамбовская казначейша».
[Закрыть]. Бог с ним!
Однако… в этом месте истории и возникает «панаевский эпизод» биографии Лермонтова – вообще-то небогатой событиями именно чисто литературными. Или связанными с литературной средой и «литературным бытом».
Поэма вышла в свет где-то в июле 1838-го – цензурное разрешение от 1-го числа – в журнале «Современник», том 11, № 3 – и сильно потерпела в цензуре (якобы в цензуре) – начиная с названия: город Тамбов стал просто Т., а безликие черточки там и сям заменяли выброшенные строки.
«…я застал Лермонтова у Краевского в сильном волнении. Он был взбешен за напечатание без его спроса „Казначейши“ в „Современнике“, издававшемся Плетневым. Он держал тоненькую розовую книжечку „Современника“ в руке и покушался было разодрать ее, но Краевский не допустил его до этого.
– Это черт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! – говорил Лермонтов, размахивая книжечкою… – Это ни на что не похоже!
Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке „Современника“, где была напечатана его „Казначейша“, набросал какую-то карикатуру…»[9]9
Панаев И. Из литературных воспоминаний // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964. С. 241.
[Закрыть]
Сегодня, больше 170 лет спустя, как тогда Панаеву, – гнев Лермонтова кажется нам каким-то ненатуральным. «Таков мальчик уродился…» Но… не мальчик же он был, в самом деле, чтоб не знать – как поступают в цензурном ведомстве с произведениями литературы? И сам он только что воротился из ссылки за стихи. Так что, при чем тут Жуковский, Плетнев?.. Почему весь гнев пал именно на издателей «Современника»? Столь яростный, что Панаеву как случайному свидетелю – показалось даже, что поэму напечатали «без его спроса». Какой там – «без спроса» – сам отнес! Хвалился в письме к друзьям, что приняли, что понравилось. Обычный комментарий к этому эпизоду гласит, что «раздражение Лермонтова было вызвано тем, что Жуковский не поставил его в известность о цензурных искажениях в поэме»[10]10
Там же. С. 478. Комментарий М. И. Гиллельсона и В. А. Мануйлова.
[Закрыть]. Но это объяснение так же взято с потолка – как панаевское! Поставил в известность, не поставил – а мы откуда знаем?
И еще одно! Что русская цензура могла на всякий случай убрать город Тамбов, заменив безличным «Т» – тут сомненья нет. Могла! У ней и полтора века спустя была эта медвежья болезнь: боязнь всякой конкретики. Но что еще мы знаем? «Автограф неизвестен. Сохранились лишь черновые наброски „посвящения“ и двух строф (LI–LII)»[11]11
ЛЭ. Ст. «Тамбовская казначейша». С. 561.
[Закрыть].
Черновиков нет, цензурного экземпляра нет, ничего нет – и кто и что «марал» в поэме – неясно! И вторично напомним, что журнал вел Плетнев. И взгляд на поэму он мог обнаружить иной – чем Жуковский и Вяземский.
«Между тем Лермонтов был возвращен с Кавказа и, преисполненный его вдохновениями, принят с большим участием в столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в жертву»[12]12
Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами // Лермонтов в восп. современников. Указ. изд. С. 205.
[Закрыть] – таково, вероятно, было ощущение не только современников, но и самого Лермонтова!
Дальнейшая история проста, примитивна… И нужно лишь обратить внимание на некоторые детали.
Место действия «панаевского эпизода» – кабинет издателя А. Краевского. Время действия – июль 38-го. (Лермонтов к этому времени уже окончательно воротился в столицу – в свой прежний Царскосельский полк.) Краевский, в сущности, скорей всего – уже занят подготовкой нового журнала. Который начнет выходить в свет с начала 39-го, «Отечественные записки». Там будет напечатан весь «главный» Лермонтов. Последнего, самого зрелого его периода…
И журнал с первых страниц, и Лермонтов – с первых номеров – попытаются взять слово от лица нового поколения. Наследующего пушкинскому – но другого… По системе поведения и системе ценностей. Этически и эстетически иного… С начала выхода в свет журнала под руководством Краевского Лермонтов напечатает здесь: «Думу» (том 1), «Поэт» (том 2), «Не верь себе» (том 3)… Вот в такой последовательности. – Целый манифест новой литературы в стихах!
Нужно сказать еще – Лермонтов, как ни странно, при его взрывчатом характере – не был «партизаном» тех или иных литературных партий. Не вел полемик, не писал критик… даже в письмах их нет. (Там он вообще почти не говорит о литературе. А чтоб он написал о чем-то какое-то впечатление свое!) Он был в литературной борьбе как-то странно миролюбив – свойство, которым не отличался во всем прочем. – Он не вел этой борьбы, она была чужда ему. Обругал его «Москвитянин» в статье Шевырева – а он в ответ передает в «Москвитянин» стихотворение «Спор»… Там принимают с благодарностью. Инцидент исчерпан. Но… «Современник» в этом смысле сделался исключением…
Больше Лермонтов до смерти никогда не печатался – в бывшем журнале Пушкина!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?



































