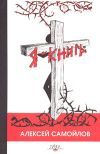Текст книги "То, что скрыто"

Автор книги: Хизер Гуденкауф
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Хизер Гуденкауф
То, что скрыто
Эллисон
Увидев идущую ко мне Девин Кинелли, я встаю. Она, как всегда, одета безупречно. В сшитом на заказ сером костюме, туфлях на высоких каблуках, звонко цокающих по кафельному полу. С глубоким вздохом я беру сумку, в которой лежат мои немногочисленные пожитки.
Девин приехала, чтобы, согласно постановлению суда, увезти меня в Линден-Фоллс, в так называемый «дом на полдороге» – учреждение для реабилитации заключенных, отбывших наказание. В «доме на полдороге» мне предстоит провести следующие полгода. Я должна доказать, что способна о себе позаботиться, могу устроиться на постоянную работу и не попасть в неприятности. Через пять лет я покидаю Крейвенвилль. Я с надеждой смотрю за спину Девин, отыскивая взглядом родителей, хотя заранее знаю, что их нет.
– Здравствуй, Эллисон! – улыбается Девин. – Ты готова к отъезду?
– Да, готова, – отвечаю я, хотя на самом деле никакой уверенности не чувствую. Мне придется жить на новом месте, где я никогда раньше не бывала, общаться с людьми, которых совсем не знаю.
У меня нет ни денег, ни работы, ни друзей. Родные от меня отказались. И все-таки я готова. Иначе и быть не может.
Девин сжимает мне руку и заглядывает в глаза:
– Все будет хорошо, слышишь?
Я сглатываю слюну и киваю. Впервые после того, как я услышала свой приговор – десять лет, – мои глаза наполняются слезами.
– Никто не говорит, что тебе будет просто, – продолжает Девин, обнимая меня за плечи.
Я выше ее на целую голову. Девин маленькая, голос у нее тихий, но в суде она умеет задать противникам жару. Мне в Девин многое нравится, и ее характер в том числе. Со дня нашего знакомства она пообещала, что сделает для меня все, что может, и слово свое сдержала. Мне она то и дело напоминала: хотя гонорар ей платят мои родители, ее подзащитная – я. Кажется, она единственный человек на свете, который способен поставить моих родителей на место. Во время нашей второй встречи с Девин (в первый раз мы с ней увиделись, когда я лежала в больнице) мы вчетвером сидели вокруг стола в небольшом конференц-зале окружной тюрьмы. Мама, как всегда, пыталась всеми руководить. Она не могла смириться с тем, что меня арестовали, думала, что произошла ужасная ошибка, хотела, чтобы я предстала перед судом, признала себя невиновной, защищалась. Обелила фамилию Гленн.
– Послушайте меня, – тихо, но холодно обратилась Девин к матери. – Улики против Эллисон неопровержимы. Если мы предстанем перед судом, скорее всего, ее осудят на очень большой срок… может быть, даже пожизненно.
– Все не может быть так, как они говорят! – Мамина холодность могла посоперничать с холодностью Девин. – Необходимо все прояснить. Эллисон вернется домой, закончит школу, поступит в колледж! – Безупречно накрашенное лицо мамы дрожало от гнева, руки тряслись.
Отец, консультант по финансовым вопросам, в тот день, в субботу, не пошел на службу – редкий случай! Вдруг он вскочил с места и грохнул по столу стаканом с водой.
– Мы наняли вас для того, чтобы вы вытащили Эллисон! – закричал он. – Так делайте свое дело!
Я сжалась в комок и очень удивилась, заметив, что Девин нисколько не боится.
Девин же, как ни в чем не бывало, положила ладони на столешницу, расправила плечи, вскинула подбородок и ответила:
– Мое дело – изучить все представленные материалы, рассмотреть все варианты развития событий и помочь Эллисон выбрать наилучший!
– Вариант может быть только один. – Отец поднес толстый длинный палец почти к самому носу Девин. – Эллисон должна вернуться домой!
– Ричард, – предостерегла его мать своим невозмутимым тоном, от которого можно было сойти с ума.
Девин не шелохнулась.
– Если вы сию секунду не уберете палец от моего лица, можете с ним попрощаться.
Отец медленно убрал руку; от негодования его затрясло.
– Мое дело, – повторила Девин, глядя отцу прямо в глаза, – изучить все обстоятельства и выбрать наилучшую стратегию для защиты. Прокурор хочет перевести Эллисон из суда по делам несовершеннолетних в суд для взрослых, где ей предъявят обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Если Эллисон выйдет на процесс, остаток жизни она проведет за решеткой. Гарантирую!
Отец закрыл лицо руками и заплакал. Мать опустила голову и нахмурилась в замешательстве.
Судья показался мне очень похожим на школьного учителя физики. Хотя Девин заранее подготовила меня к слушанию, объяснила, чего ожидать, я услышала лишь два слова: «Десять лет». В то время десять лет для меня были равнозначны целой жизни. Как же так?! Я не пойду в выпускной класс, не войду в футбольную, волейбольную команды и в команду пловцов… Потеряю стипендию в Университете Айовы, не стану адвокатом! Слезы слепили мне глаза; помню, я в отчаянии посмотрела на родителей. Сестра на слушание не пришла.
– Мама, пожалуйста, сделай что-нибудь! – зарыдала я, когда судебный пристав повел меня прочь.
Мать смотрела прямо перед собой; ее лицо превратилось в непроницаемую маску. Отец зажмурил глаза и тяжело дышал – видимо, пытался как-то успокоиться. На меня родители даже не смотрели – не могли, наверное. Тогда я думала: когда я выйду на свободу, мне будет целых двадцать семь лет! В голове промелькнуло: интересно, по ком родители будут тосковать – по мне настоящей или по тому образу идеальной дочери, какой сложился в их сознании? Поскольку мое дело первоначально рассматривалось судом по делам несовершеннолетних, мое имя в прессе не разглашалось. В тот же день, когда дело перевели во взрослый суд, к югу от Линден-Фоллс произошло сильное наводнение.
Пострадало несколько сотен жилых домов и предприятий. Четыре человека погибли. В общем, репортеров тогда занимало другое, да и отец задействовал все свои связи. Мое имя так и не попало на страницы газет. Естественно, родители очень заботились о том, чтобы их доброе имя не оказалось запятнанным.
Я иду следом за Девин к ее машине и впервые за пять лет наслаждаюсь солнцем, не отгороженным от меня колючей проволокой. Конец августа – душно, жарко. Я полной грудью вдыхаю горячий, знойный воздух. Как ни странно, в тюрьме воздух пахнет почти так же, как на воле.
– Что ты сейчас хочешь больше всего? – спрашивает Девин.
Я долго думаю перед тем, как ответить. Сама не понимаю, что творится у меня в душе. Наконец-то я покидаю Крейвенвилль. Смогу, наконец, водить машину – права я получила меньше чем за год до ареста. Наконец-то у меня будет хоть какая-то возможность уединиться. Я смогу ходить в туалет, принимать душ, есть, и на меня при этом не будут смотреть несколько десятков человек. И хотя мне придется какое-то время прожить в учреждении для реабилитации, в «доме на полдороге», я все же буду свободна!
Смешно! Я провела в Крейвенвилле пять лет; можно было бы подумать, что я скребла дверь камеры, мечтая выйти на волю. Но все не совсем так. От тюрьмы не остается приятных воспоминаний, там я ни с кем не подружилась, зато обрела то, чего была полностью лишена в прежней жизни: душевное спокойствие. Кажется, что такое немыслимо – при том, что я совершила. И все-таки мне было покойно.
Раньше, до того как меня арестовали, я ни минуты не жила спокойно. Все время подхлестывала себя: вперед, вперед, вперед! Я была круглой отличницей. Занималась в пяти спортивных секциях: волейбольной, баскетбольной, легкой атлетики, плавания и футбола. Сверстники считали меня красивой; многие хотели со мной дружить. Я пользовалась авторитетом. Никогда не попадала в неприятности. Но мне казалось, будто кровь у меня под кожей постоянно бурлит, кипит. Я не могла спокойно усидеть на месте, я никогда не отдыхала. Каждый день просыпалась в шесть утра, выходила на пробежку или занималась в тренажерном зале со штангой и гантелями. Потом принимала душ, доставала из рюкзака захваченный из дому полезный завтрак – батончик из злаков и банан – и шла на уроки. В школе я проводила почти целый день. После занятий шла на тренировку или на матч, потом ехала домой, ужинала с родителями и Бринн и поднималась к себе делать уроки. Уроки отнимали еще три-четыре часа. Лишь около полуночи я ложилась и пыталась заснуть. Ночи были хуже всего. Я лежала неподвижно, но в голове клубились мысли, не давая мне заснуть. Я все время волновалась, удачно ли написала контрольную, не разочаровала ли родителей, как сыграю в следующем матче, поступлю ли в колледж и так далее.
Потом я кое-что придумала, чтобы помочь себе заснуть. Я лежала на спине, подоткнувшись со всех сторон одеялом, и представляла, будто плыву в лодочке по озеру. Озеро такое огромное, что берегов не видно. Надо мной – перевернутая черная чаша неба. Небо безлунное, испещрено тусклыми мерцающими звездами. Ветра нет, но лодочка сама несет меня по черной глади воды. Тихо плещут волны, ударяя в борт. Такая картина как-то успокаивала меня; я закрывала глаза и засыпала. Меня посадили в тюрьму в шестнадцать лет и до восемнадцати держали отдельно от так называемого «основного контингента». Пережив первые, самые ужасные, недели, я вдруг поняла, что лодочка мне больше не нужна. В тюрьме я засыпала без проблем.
Девин выжидательно смотрит на меня. Наверное, ей интересно узнать, что мне сейчас больше всего хочется.
– Я хочу повидать маму, папу и сестру, – говорю я, с трудом сдерживая слезы. – Хочу домой!
Мне плохо из-за всего, что случилось, – особенно из-за того, какое действие мои поступки оказали на сестру. Я все время прошу у нее прощения, пытаюсь как-то наладить отношения, но ничего не получается. Бринн по-прежнему не желает иметь со мной ничего общего.
Когда меня арестовали, Бринн исполнилось пятнадцать, иона была… наивной, простодушной девочкой. По крайней мере, я так думала. Бринн никогда в жизни ни на кого не злилась. Она хранила свой гнев в себе, копила его, словно в шкатулке. Когда шкатулка переполнялась, гнев все равно не выплескивался наружу, а превращался в тоску и уныние.
Еще в детстве, когда мы с ней играли в куклы, я выбирала себе самых красивых – розовых, чистеньких, с красивыми волосами. Бринн же оставались уродцы, изрисованные несмываемым маркером, со спутанными космами, кое-как обкромсанными тупыми ножницами. Бринн никогда не скандалила, ничего не требовала. Помню, я отбирала у нее красивую куклу, а она как ни в чем не бывало брала старую, грязную и принималась нежно ее баюкать – как будто сама ее выбрала. В детстве мне без труда удавалось заставить или уговорить Бринн сделать за меня что угодно – например, вынести мусор или пропылесосить, когда была моя очередь.
Теперь, по здравом размышлении, я вспоминаю некоторые несоответствия, так сказать, трещинки в поведении Бринн, хотя они оставались почти незаметными. Правда, если внимательно понаблюдать за ней, все можно было разглядеть. Но я предпочитала не обращать внимания.
Так, она пальцами выщипывала волоски у себя на руках – до тех пор, пока кожа у нее не краснела и не распухала. Она щипала себя бессознательно, рассеянно, не замечая, что делает. Когда на руках ничего не осталось, она переключилась на брови. Выдергивала по волоску. Мне казалось, будто она пытается сбросить с себя кожу. Мама заметила, что брови у Бринн поредели, и стала бороться с ее, как она говорила, «дурной привычкой». Всякий раз, заметив, что Бринн дотрагивается до лица, мать шлепала ее по руке.
– Бринн, неужели ты хочешь выглядеть странно? – спрашивала мама. – Ты хочешь, чтобы девочки смеялись над тобой?
Бринн перестала выщипывать брови, но все равно придумывала способ наказать себя. Она обкусывала ногти до мяса, кусала внутреннюю поверхность щек, нарочно царапала себя, а потом сдирала корки, пока ранки не начинали гноиться.
Мы с ней – полная противоположность. Инь и ян. Я высокая и крепкая, Бринн маленькая и хрупкая. Я – большой, здоровый подсолнух, который всегда поворачивается лицом к солнцу, а Бринн – сон-трава, тоненькая, неприметная, с вечно поникшей головой. Кажется, дунет ветер – и нет ее.
Хотя я никогда ей в том не признавалась, я любила ее больше всех на свете. Я принимала ее как данность; она всегда прибегала по первому моему зову и смотрела на меня снизу вверх, с восхищением и обожанием. А сейчас я, видимо, перестала для нее существовать; и, откровенно говоря, я ее не виню.
Из тюрьмы я писала Бринн письмо за письмом, но она ни разу мне не ответила. Поехать к ней и увидеть ее я не могла. Теперь я свободна и могу поехать к Бринн сама. Я заставлю ее посмотреть на меня, выслушать меня. Больше я ничего не хочу. Мы с ней поговорим десять минут – и все снова будет в порядке.
Мы садимся в машину и отъезжаем от Крейвенвилля; внутри у меня все сжимается от волнения и страха. Я вижу, что Девин в нерешительности. Наконец она предлагает:
– Давай сначала заедем куда-нибудь и перекусим, а потом поедем в «Дом Гертруды»? Оттуда ты сможешь позвонить родителям.
Я не хочу в «дом на полдороге». Наверняка тамошние обитательницы считают совершенное мною преступление самым гнусным. Даже подсевшая на героин проститутка, осужденная за вооруженное ограбление и убийство, заслуживает больше сочувствия, чем я. Гораздо больше мне хочется жить с родителями, в доме, где я выросла, с которым меня связывают хоть какие-то хорошие воспоминания. Хотя там потом и случился весь этот ужас, именно там мне следует быть… по крайней мере, сейчас.
Просить об этом бессмысленно. Заранее знаю, что мне ответит Девин. Родители не хотят меня видеть, не желают иметь со мной ничего общего, не хотят, чтобы я вернулась домой.
Бринн
Я получаю от Эллисон письма. Иногда мне хочется ответить ей, навестить ее, вести себя, как подобает сестре. Но что-то всегда меня останавливает. Бабушка советует мне поговорить с Эллисон и постараться простить ее. А я не могу. В ту ночь, пять лет назад, во мне будто что-то сломалось. Было время, когда я бы отдала все на свете, чтобы стать настоящей сестрой для Эллисон, быть с ней близкой, как когда-то в детстве. Мне казалось, она всесильна. Я очень гордилась ею – а вовсе не ревновала, не завидовала, как думали все. Мне никогда не хотелось стать Эллисон; мне хотелось быть собой, чего не понимал никто, особенно мои родители.
Я не знала более изумительного человека, чем Эллисон. Умница, красавица, спортсменка, гордость школы и всего городка. Все ее любили, хотя она не всегда была милой и славной. Нет, она никому не делала гадостей нарочно, просто ей не нужно было прилагать никаких усилий к тому, чтобы окружающие ее полюбили. Ее просто любили, и все. Она шла по жизни так легко, что мне оставалось лишь одно: стоять в сторонке и любоваться.
Еще до того, как Эллисон стала гордостью Линден-Фоллс, до того, как родители стали связывать с ней большие надежды, до того, как она перестала сжимать мне руку, давая понять, что все будет хорошо, нас с Эллисон, что называется, нельзя было разлить водой. Мы с ней были как близнецы, хотя совсем не похожи. Эллисон старше меня на год и два месяца. Она высокая, и волосы у нее очень светлые, прямые и длинные. И ярко-голубые глаза, которые как будто видят тебя насквозь или дают понять, что, кроме тебя, для нее никого на свете не существует – в зависимости от ее настроения. Я же низенькая и неприметная, можно сказать, дурнушка, и на голове у меня вечно спутанные патлы непонятного цвета – вроде побуревших дубовых листьев.
Раньше нам казалось, будто мы одно целое. Когда Эллисон было пять лет, а мне – четыре года, мы умоляли родителей, чтобы те разрешили нам спать в одной комнате, хотя у нас в доме пять спален и места хватает для всех. Нам хотелось быть вместе. Когда мать наконец согласилась, мы сдвинули наши одинаковые кроватки, а отец повесил над ними бледно-розовую сетку-полог, и получилась как будто палатка. Бывало, мы часами играли в ней в веревочку или вместе смотрели книжки с картинками.
Мамины подруги умилялись нашей дружбе.
– И как только у тебя получается? – говорили они. – Как тебе удалось добиться, чтобы твои девочки так хорошо ладили между собой?
Мать горделиво улыбалась.
– Все дело в том, чтобы воспитать в них взаимное уважение, – своим не терпящим возражений тоном объясняла она. – Мы требуем, чтобы они не обижали друг друга, чтобы дружили – и они дружат. Кроме того, очень важно, чтобы дети и родители проводили много времени вместе. Ведь мы же семья!
Когда мама заводила такие речи, Эллисон, бывало, закатывала глаза, а я усмехалась, прикрыв рот ладошкой. Да, мы действительно проводили много времени с родителями – то есть сидели с ними в одной комнате, – но никогда по-настоящему не говорили по душам.
Эллисон было двенадцать, когда она решила переехать из нашей общей спальни в отдельную комнату. Ее решение потрясло меня.
– Почему? – спрашивала я. – Зачем тебе отдельная комната?
– Хочу, и все, – сказала Эллисон, отодвигая меня с дороги и вынося из комнаты груду платьев.
– За что ты на меня злишься? Что я сделала? – всхлипывала я, плетясь за ней в ее новую комнату, соседнюю с нашей бывшей общей спальней. Теперь в бывшей «нашей» комнате оставалась одна я.
– Ничего, Бринн. Ничего ты не сделала. Просто иногда мне хочется побыть одной, – ответила Эллисон, развешивая платья в своем шкафу. – И потом, я ведь рядом, за стенкой… Бринн, да ты, никак, реветь собралась? А ну-ка, перестань! Можно подумать, ты меня больше никогда не увидишь!
– Я не реву, – ответила я, смахивая слезы.
– Давай-ка лучше вместе перетащим кровать.
Она схватила меня за руку и потянула в нашу прежнюю комнату. В мою комнату. Когда мы сняли с ее кровати матрас и с трудом пропихнули его в коридор, я поняла: ничего уже не будет, как раньше. Эллисон развешивала в своей новой комнате свои школьные грамоты, медали за победу на соревнованиях, кубки и ленты, а я наблюдала за ней и понимала: больше мы с ней не одно целое. Эллисон все больше и больше отдалялась от меня. У нее были подруги, учеба, соревнования. Ее пригласили в очень сильную волейбольную команду, которая часто выезжала играть в другие города. Почти каждую свободную минуту она проводила на тренировках, за уроками или чтением. А мне хотелось только одного: быть с Эллисон.
Родители совсем мне не сочувствовали.
– Бринн, – говорила мать, – пора взрослеть! Конечно, Эллисон хочет жить в отдельной комнате. Было бы странно, если бы она этого не хотела!
Я всегда знала, что чем-то отличаюсь от других детей, но никогда не считала себя странной, пока мать не упомянула об этом. Я подолгу смотрелась в зеркало, пытаясь понять, в чем моя странность и почему другие замечают то, чего не вижу я. Может, дело в волосах? Они у меня неопределенного цвета, курчавые; если их тщательно не причесывать, не укрощать, на голове будет настоящее воронье гнездо. Остатки бровей нависают над глазами в виде двух запятых, отчего выражение лица у меня всегда как будто удивленное. Нос средний – не слишком большой, не слишком маленький. Я знала, что когда-нибудь у меня будут очень красивые зубы, но в одиннадцать лет мне поставили брекеты, и зубы напоминали игрушечных солдатиков, которых приучают ходить строем. В общем, мне не показалось, будто я выгляжу странно – если не считать бровей. Потом я догадалась, что странность, непохожесть на других скрыта внутри меня, и дала себе слово, что буду эту непохожесть прятать. Я предпочитала оставаться на заднем плане, наблюдать, а не действовать. Никогда не высказывала собственного мнения, ничего не предлагала. Правда, никто моего мнения и не спрашивал. Когда у тебя такая сестра, как Эллисон, оставаться в ее тени легко.
Я проплакала всю первую ночь, которую провела одна в бывшей «нашей» спальне. Мне казалось, что комната слишком велика для меня одной. Она казалась голой – в ней остался только один мой стеллажик с книгами и комод, несколько мягких игрушек. Я плакала, потому что любимая сестра больше не хотела, чтобы я была рядом с ней. Она ушла от меня не оглянувшись.
А потом, когда ей исполнилось шестнадцать, я снова ей пригодилась.
В тот вечер я даже могла не быть дома. Я собиралась в кино с друзьями. И вдруг мама выяснила, что с нами идет Натан Кэнфилд, и страшно возмутилась. Как-то раз Натана засекли с бутылкой спиртного или с чем-то в таком же роде; в общем, мама заявила, что этот мальчишка – неподходящая компания для меня. Короче говоря, в кино меня не пустили и запретили выходить из дому.
Я часто думаю, как могла бы сложиться моя жизнь – да и жизнь всех нас, – если бы в тот вечер я сидела в кино с Натаном Кэнфилдом и ела попкорн, а не осталась дома.
Не знаю, как выглядит Эллисон сейчас. В тюрьме никто не хорошеет. Возможно, ее когда-то высокие скулы скрыты под толстыми складками жира, а длинные блестящие волосы превратились в кое-как обкромсанные патлы. Не знаю. Я не видела Эллисон с того дня, как ее увела полиция.
Я скучаю по сестре – по той, что вела меня за руку в подготовительный класс и утешала, когда я плакала, по той сестре, что помогала мне выучить правописание трудных слов, которая учила меня играть в футбол. Вот по какой Эллисон я скучаю. А по другой… совсем нет. С другой Эллисон я бы с радостью не виделась до конца жизни. После того как ее посадили в тюрьму, я прошла через ад. Потом я переехала к бабушке, и моя жизнь наконец-то стала налаживаться. Теперь у меня есть друзья, учеба, бабушка, мои питомцы. Мне этого достаточно.
Мне страшно думать о том, как пять лет, проведенные в тюрьме, изменили Эллисон. Она всегда была такой красивой и уверенной в себе. Что, если она уже не та девочка, которая могла поставить на место Джимми Уоррена, местного хулигана? Не та девочка, которая пробегала восемь миль не запыхавшись, а потом еще делала сто упражнений для пресса?
Или, хуже того, что, если она осталась такой же? Что, если она совсем не изменилась?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?